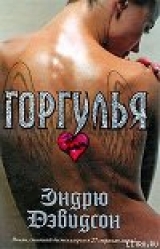
Текст книги "Горгулья"
Автор книги: Эндрю Дэвидсон
Жанры:
Триллеры
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Глава 28
И снова все как будто наладилось. С Рождества до Дня святого Валентина Марианн Энгел не занималась резьбой. Лишь однажды днем, в конце января, она спустилась в подвал и довела до ума горгулью, что оставалась незаконченной с тех пор, когда она потеряла сознание и попала в больницу. Покончив с этим небольшим делом быстро и без лишних эмоций, она снова полностью сосредоточилась на своем выздоровлении… и снова начала готовить.
С тех пор как меня выписали из больницы, она всего один раз устраивала экстравагантный пир: с японской кухней, в тот вечер, когда звучал рассказ о Сэй. Теперь же каждые три-четыре дня стала выходить за покупками, а потом на несколько часов исчезала в кухне. И всякий раз появлялась с целыми подносами изысканных блюд из определенной части света.
Особенно мне запомнился ужин по-сенегальски, редкий шаг за пределы кулинарных традиций Азии или Европы. На закуску у нас были фасолевые лепешки и жареные бананы, затем сладковатый рисовый суп на молоке под названием «sombi». Главные блюда: «ясса» – курица, замаринованная загодя, еще с ночи, а после обжаренная с луком и лимоном в горчично-чесночном соусе; «чебу-джен» – рыба в томатном соусе, с овощами, на подушке из риса, национальное блюдо Сенегала; мясное рагу «мафе» в арахисовом соусе, которое бывает из курицы, баранины или говядины (и, конечно же, Марианн Энгел приготовила все три варианта); морепродукты – креветки, тушенные с кусочками рыбы и зелеными бананами. На десерт она подала «Cinq Centimes», или «Пять центов» – «пятицентовые» ореховые печенюшки, которые часто продают на рынке, и «нгалах», сладкую кашу. Запивали мы все это соками из манго и баобаба, а закончили трапезу чаем. Кстати, к удовольствию, которое я получал от стряпни Марианн Энгел, прибавилась и самая искренняя радость – от того, что вытатуированные у нее на спине ангельские крылья снова распушились, от калорий.
Кажется, у всех все было хорошо, по крайней мере, в этом веке: здоровье Марианн Энгел шло на поправку, Саюри рассказывала, сколь успешным оказалось знакомство с родителями Грегора, а Грегор признавался мне за чашкой кофе, что почти уверен в том, что нравится Саюри.
Даже Бугаца была довольна, ведь хозяйка снова каждый день водила ее на прогулки.
Частенько по ночам мы с Марианн Энгел ездили к океану. Несмотря на полночный час и пронизывающий холод, на берегу обычно околачивались подростки – пили пиво и миловались с подружками. Марианн Энгел умело разводила костер и, пока пепелвзлетал в воздух, угощала меня снедью из непременной корзинки для пикника, в которую частенько складывала остатки очередного интернационального изобилия. Огонь она разжигала, пытаясь успокоить мой страх перед ним; уверяла, что я должен прийти к некоему взаимопониманию со всеми земными стихиями. В конце концов, они ведь никуда не денутся.
Я не мог бесстрастно смотреть на пламя, но почему-то меньше думал о собственной доле в горящей машине, чем о судьбе моего двойника из четырнадцатого века, пригвожденного к охваченной огнем стене. Я упрашивал Марианн Энгел завершить рассказ, она же призывала к терпению и все повторяла какую-то чушь о едином дне в безбрежной вечности. И рассказывала другие истории – явные выдумки, легенды о Творении и Армагеддоне, – но мне было все равно. Довольно того, что она сама в них верила.
А потом она оборачивалась к океану, вытягивала ноги и сокрушалась, что купаться еще слишком холодно.
– Что же, – говаривала она. – Кажется, весна наступит скоро…
Компрессионный костюм мне позволили снять в начале февраля, и мне представлялось, что я вынырнул из топкой трясины, в которой пробарахтался почти целый год. Маску и растяжитель для губ тоже сняли, и ко мне наконец-то вернулось мое собственное лицо, пусть и неузнаваемое по сравнению с прежним.
Я испытывал тревожное возбуждение, как бывает, если начинаешь с нуля. Выглядеть как я непросто: в нашей поп-культуре такое лицо ассоциируется только с Призраком Оперы или Фредди Крюгером из «Кошмара на улице Вязов» да еще с Кожаным лицом из «Техасской резни бензопилой». Такой, как я, конечно, может «уложить девчонку», но не иначе как топором.
Я колебался, медлил признавать это лицо своим, но должен был им овладеть: если не я, тогда оно само мной овладеет. Как говорится, в двадцать лет у человека такое лицо, каким наградил его Бог, но в сорок он выглядит так, как сам заслуживает. А если лицо и душа сплетены так, что лицо отражает душу, то, конечно, из этого следует, что и душа способна отразить лицо. Как это у Ницше: «…антропологи среди криминалистов говорят нам, что типичный преступник безобразен: monstruminfronie, monstruminanimo» (чудовище по виду, чудовище в душе).
Но Ницше ошибался. Я родился красивым и прекрасно прожил тридцать с лишним лет, и ни разу за все это время не позволил своей душе познать любовь. Моя безупречная кожа была как онемелый щит, влекущий женщин собственным сиянием и неизменно отражающий любые подлинные чувства, чтобы защитить владельца. Самые чувственные движения я выполнял механически: секс был лишь техникой; завоевания – моим хобби; тело мое работало постоянно, но с наслаждением – редко. Я знавал голых женщин, обнаженных же – никогда. Вкратце: я родился со всеми преимуществами, никогда прежде не доступными чудовищу, и самолично ими пренебрег.
Теперь броня моя растаяла и превратилась в сырое мясо раны. Броня красоты, с помощью которой я мог обособить себя от прочих людей, исчезла, сменилась новым барьером – уродством, – который удерживал людей на расстоянии, теперь уже помимо моей воли. На первый взгляд итог один, но нет, все оказалось не вполне так. Пускай сейчас меня окружало гораздо меньше народу, люди эти были гораздо лучше. Когда прежние знакомцы коротко взглянули на меня и бросились вон из ожоговой палаты, они оставили открытой дверь для Марианн Энгел, Нэн Эдвардс, Грегора Гнатюка и Саюри Мицумото.
Какой нежданный поворот судьбы: лишь после того как кожа моя сгорела начисто, я наконец обрел способность чувствовать. Только переродившись в нечто физически омерзительное, я смог краешком глаза ухватить красоту сердца; я принял это чудовищное лицо и гадкое тело потому, что они заставляли меня преодолеть ограниченность своей натуры, тогда как прежнее тело позволяло ее скрывать.
В душе я не герой и никогда им не стану, но теперь я лучше, чем был, или просто сам себя так уговариваю; и пока этого довольно.
Марианн Энгел вошла ко мне в комнату в полночь 13 февраля и взяла меня за руку.
Она повела меня по ступеням вниз, к черному провалу выхода. Падал снег, одевая каменных монстров на заднем дворе в белые капюшоны.
Она распахнула ворота на кладбище за церковью Святого Романа.
Надгробия вставали серыми языками из снежных сугробов; мы крались мимо них в центр кладбища, к заранее расстеленной попоне. Над нами луна пучилась великолепным волдырем средь звездных мурашек. Марианн Энгел пыталась зажечь свечи, но ветер задувал все спички и ей сделалось смешно. Марианн Энгел поплотней закуталась в пальто. Я злился от холода, но радовался тому, что она рядом.
– Я привела тебя сюда, чтобы кое-что рассказать, – начала она.
– Что?
– Я скоро умру. «Конечно же, нет!»
– Зачем ты так говоришь?
– У меня осталось только шестнадцать сердец.
– Ты проживешь до глубокой старости, – заявил я. «Со мной».
– Я уже стара. – Она устало улыбнулась. – Надеюсь, в этот раз умру.
– Не говори так! Ты не умрешь. – «Ты не умрешь!»
Она погладила меня по щеке.
– Последнее мое сердце всегда было для тебя, поэтому ты должен подготовиться.
Я хотел было возразить, что все это чушь, но она провела пальцами по моим тонким губам. Я все равно порывался заговорить, но она поцелуем запечатала слова.
– Я не хочу умирать, – прошептала она, – и все же должна оставить эти кандалы из множества сердец.
– Это просто… ты нездорова… – Интересно, сколько моей нежности к ней объясняется ее шизофренией и сколько остается вопреки? – Я знаю, ты не хочешь в это верить, но это так…
– Ты почти ни во что не веришь… но как же трудно тебя убедить! – произнесла она. – Потом поверишь. Пойдем в дом.
Это «пойдем в дом» прозвучало так четко, так уверенно, что я испугался предчувствий.
– Зачем?
– Потому что я замерзла, – отозвалась Марианн Энгел, и я вздохнул с почти видимым облегчением. – Не волнуйся, я сегодня не готова умирать. У нас еще остались дела.
– Какие?
– Например, справиться с твоей наркозависимостью.
– Это вряд ли.
Она продолжила:
– Неужели ты и правда думаешь, будто я не знаю, что ты покупал себе морфий?
В то утро, в День святого Валентина, я проснулся и обнаружил, что маленькая деревянная коробочка с запасом морфия пуста. Доковыляв до спальни Марианн Энгел и увидев неподвижное тело, я потряс ее за плечо, а когда она чуть приоткрыла глаза, спросил, где мой боезапас.
– Ложись со мной. Все будет хорошо.
– Ты не понимаешь! У меня змея в позвоночнике…
– Глупыш, – протянула она. – Нашел кого слушать – змею! Они все врут!
– Ты не дала мне времени привыкнуть… – умолял я. – Завтра, я брошу завтра, но дай мне один день…
«Я почти пришла…»
– Страдания душе на пользу.
– Нисколько!
– Если ты не можешь полюбить боль… – она пыталась придумать что-нибудь хорошее, – по крайней мере, выучись ее урокам.
«И ты не сможешь…»
Пусть я лучше неучем останусь!
– Я попрошу продлить рецепт, и тогда…
– Я спустила морфий в унитаз, – ответила она. – И доктор Эдвардс не станет ничего продлевать. А кредитку твою я заблокировала, так что если ты не собираешься меня грабить и покупать наркотики в подворотне, ложись в постель.
«… ничего поделать».
– Спи, – попросила Марианн Энгел. – Просто поспи.
* * *
Морфий делают из опиумного мака, Papaversomniferum, и впервые его выделил в 1803 году немецкий аптекарь Фридрих-Вильгельм Сертюрнер. Название происходит от Морфея, греческого бога сна, и я готов подтвердить, что название это самое подходящее. Морфий дарит ночные, бредовые ощущения, что окрашивали всю мою жизнь с тех пор, как наркотик впервые попал ко мне в вены.
Хотя в первую очередь морфий применяется как обезболивающее, он также способен унять страх и беспокойство, уменьшить голод и вызвать эйфорию. Всякий раз инъекция затопляла мой организм божественной сладостью и жизнь становилась терпимой. Морфий также угнетал мое сексуальное возбуждение, что, быть может, не является желанным побочным эффектом для большинства людей, но стало даром свыше для человека, который утратил пенис, однако сохранил способность вырабатывать тестостерон. Побочным же эффектом для меня стали постоянные запоры.
На самом деле морфий для меня выполнял и жизненно необходимую функцию – утихомиривал змею, хотя бы на время.
Переехав к Марианн Энгел, я принимал всего по 25 мг морфия четырежды в день, а теперь начал принимать по столько же на каждый час бодрствования. По мере того как росла моя невосприимчивость, увеличивалась и потребная мне доза.
Глава 29
«Лежишь? Ты знаешь, где ты, нет?»
Чернота и сознание пришли вместе. Я проснулся сразу же, глаза широко распахнулись, но ничего не увидели. По ощущениям (влажному, спертому воздуху) я догадался, что нахожусь в закрытом пространстве. Дышать было как-то тяжко, густо пахло гниющим деревом… я лежал на спине. А на мне лежал удушающий ужас.
«Я пришла».
Я прямо-таки слышал – нет, чувствовал – радость в змеином голосе; змея еще ни разу не была так счастлива в моем позвоночнике. Морфий ее сдерживал, теперь же, в этом странном месте, защита исчезла. Змея торжествующе била хвостом.
«Ты ничего не сможешь поделать».
Я попытался вытянуть руки… но сделать это удавалось всего на пару дюймов – ладони натыкались на преграду. Плоское гладкое дерево. Пара футов в ширину; пара футов в глубину; длиной как раз в мой рост. У людей только один ящик таких размеров!
«Ты в гробу».
Это все не по-настоящему!.. Я попытался припомнить все, что узнал о ломке после морфия, ведь на самом деле это была именно ломка, а гроб – только игра воображения. Подобно студенту, молящемуся об отмене экзамена, я читал о том, что бывает после отмены наркотика.
Резкий отказ от морфия (в отличие от некоторых других наркотиков) жизни не угрожает, однако может вызывать странные видения. Точно, это видение.
Я не могу лежать в гробу, и причин целая куча! Как меня могли бы вынести из спальни и похоронить, даже не разбудив? Если деревянный гроб уже гниет, как же я умудрился провести столько времени под землей? Откуда тут остался кислород? Все это невозможно; следовательно, у меня галлюцинации.
Но разве люди с галлюцинациями настолько рационально мыслят, что способны осознать свое состояние? Разве не полагается галлюцинациям быть иррациональными по определению? Я не ощущаю никакой утраты связи с реальностью; честно говоря, мое положение кажется уж слишком реальным. Может ли человек с галлюцинациями оценивать качество воздуха? Подсчитывает ли, сколько еще продержится деревянный гроб или когда внутрь проберутся черви? Если у меня по правде ломка, почему же я не жажду наркотика? В общем, хоть я и знал, что ни гроба, ни могилы не может быть на самом деле, невольно удивлялся собственным, до странности логичным, вопросам.
Мне понадобилось немного времени, чтобы обнаружить: наркоманы без дозы теряют самообладание точно так же, как беспечные миллионеры теряют деньги: сначала постепенно, а после – внезапно.
Поразмыслив как следует, я мгновенно утратил самоконтроль. Случившееся со мной лучше всего назвать состоянием, обратным прозрению – мысли, вместо того чтобы собраться вместе в миг ясности, рванули из мозга точно жертвы, пытающиеся вырваться из эпицентра катастрофы.
Развернуться было просто негде, но все равно я лихорадочно заработал кулаками. Я молотил по деревянному ящику, погребенному на шесть футов под землей. Я царапал дерево, пока не стер ногти в кровь, кричал, пока не потерял всякую надежду. В больнице, в ожидании очередной процедуры пересадки кожи, мне казалось, я познал страх. Чепуха; я ничего тогда не знал. Проснуться живьем в гробу, понять, что ждешь конца, – вот это страх.
Истеричный бунт, конечно, ничего не дал. И тогда я смирился. Если мне каким-то образом удастся пробиться сквозь дерево, я не смогу отменить свою смерть, поменяется только способ смерти.
Вместо того чтобы погибнуть от нехватки кислорода, я захлебнусь землей, которая неминуемо хлынет в гроб. Как бы я ни жаждал воздуха, земля всегда прожорливей. И вот тишина пала на мой ящик, точно одеяло из трупной кожи. Делать было нечего – только ждать, и я принял решение сохранять достоинство.
Дыхание отдавалось эхом в гробу, как в поизносившемся концертном зале. Я решил, что буду вслушиваться, пока что-то слышно, а после самая последняя, тихая нота моего финального вздоха растает в темноте. Я скончаюсь тихо, обещал я себе, ведь я уже и так (учитывая, какая страшная была авария) умудрился прожить дольше, чем положено.
Потом я осознал, насколько это глупо – мысли о смерти во время галлюцинации. Ничего страшного. Спокойно. Как я учил Марианн Энгел в Германии? Все дело в дыхании. Успокаиваешь дыхание, чтобы руки не дрожали. Вдох-выдох, вдох-выдох. Ровнее. Спокойнее. Я оружие, говорил я себе; оружие выживания, выкованное в огне и неостановимое.
А потом. Ощутил. Нечто. И это «нечто» можно описать лишь словом, которое мне не хочется использовать: дурацкое словечко из философии нью-эйдж, которое я вынужден ввести в сюжет, поскольку, к сожалению, слово это единственно верное. Я ощутил присутствие. Прямо рядом с собой. Женщина. Не знаю, как я догадался, но это была женщина. Не Марианн Энгел, потому что дышала она по-другому.
Я до сих пор не отдавал себе отчета в том, что способен узнать ее по ритму дыхания, но, оказывается, способен… и здесь ощущалась не она. Мне подумалось – быть может, это дышит змея.
Может, сука наконец-то выползла из позвоночника для открытого противоборства? В конце концов, сколько можно болтать из-за спины?!
Но нет, рядом со мной спокойно лежало женское тело. Что, конечно, невероятно, потому что в гробу – воображаемом гробу – не было места для двоих. И все же, просто на всякий случай, я притиснулся ближе к стенке. Дыхание женщины было ровное, но от этого делалось почему-то страшнее.
Меня коснулась рука. Я дернулся и удивился, почувствовав плоть; предполагал, что данная сущность нематериальна. Пальцы у нее были крошечные, но она все равно сумела втиснуть их в мою руку.
Я вопросил, кто она, стараясь, чтобы голос прозвучал храбро, но дыхание сперло.
Нет ответа. Лишь слышно чужое дыхание. Снова:
– Кто вы?
Пальцы ее сжались чуть крепче, переплелись с моими. Я задал новый вопрос:
– Что вы здесь делаете?
По-прежнему лишь тихое, спокойное дыхание. С каждым оставшимся без ответа вопросом, я боялся чуточку меньше. Женщина стиснула мою руку, но это уже не пугало, а успокаивало, и, вскоре, я почувствовал, как поднимаюсь, почти… нет, не почти – определенно! – парю.
Спина моя отрывалась от деревянного днища.
Я чувствовал себя, точно ассистент левитера. Меня словно маг за руку держал. Я ощутил, как мы проникли сквозь крышку гроба и выше, сквозь землю. Оранжевый свет разлился у меня под веками – мы приближались к поверхности, а я даже не понимал, дышу ли.
Я ощутил земляную преграду, прорвался сквозь нее на свет и испытал взрыв цвета. Меня тянуло вверх, на несколько дюймов над поверхностью земли. С живота посыпались комья земли, прах щекотно струился с боков, по ребрам… Я парил в воздухе без поддержки; женщина со мной из могилы не вырвалась. Лишь рука ее прошла насквозь и держала меня над землей, как воздушный шарик на ниточке. Так продолжалось пару секунд, потом рука разжалась и втянулась обратно. Только теперь я догадался, что женщина и не могла покинуть могилу: не она явилась гостьей в мой гроб – я был ее гостем.
Тело мое опустилось на кучу земли. Глаза привыкли к свету. Я был на холме, поблизости журчала река. Кругом так тихо, спокойно… однако спокойствие продолжалось всего миг. А потом земля подо мной снова шевельнулась. На ужасную секунду я испугался, что молчаливая женщина хочет утащить меня назад, но нет, дело было в другом. Повсюду начались небольшие извержения, точно земляные зверьки выбирались из нор.
Поначалу они казались вспышками света. Потом стали возникать формы: цветы с бесцветными лепестками. Присмотревшись, я понял, что они из стекла.
Лилии. Повсюду расцветали тысячи стеклянных лилий, светились словно внутренними сполохами света.
Я хотел сорвать один цветок, но едва коснулся – он тут же замерз, застыл под пальцами. Превращаясь из стекла в лед, все тысячи цветов, как будто связанные общей душой, зазвенели крошечными взрывами. И каждый взрыв выпускал одно слово, женским шепотом, и все они сливались в симфонию чистой любви. «Aishiteru, aishiteru, aishiteru».
Взрывающиеся лилии посыпались с холма, как кости домино, разлетаясь до самого горизонта. Под одеялом радостного aishiteruв небесах сама гора вдруг задрожала, затряслась, осыпалась в возникшую вокруг равнину. Какое-то мгновение спустя вся равнина покрылась ледяными осколками цветов, превратившись в ледяное поле на сколько хватало глаз.
Я уставился в бескрайнюю ледяную пустошь, а она безжалостно смотрела на меня. Арктический холод хлестал мое дрожащее тело. Я теперь окончательно понял, что совсем обнажен, что на мне лишь неснимаемый шнурок с монеткой-ангелом.
Могилы больше не было (естественно, ведь исчез весь холм целиком!), но на ее месте осталось лежать простое платье. Я поднял одеяние и примерил, отряхивая землю, крупинки которой унеслись прочь в пыльном балете ветра. Платье оказалось слишком маленькое, но больше ничего не было, и я его натянул. Можете себе представить, как нелепо это выглядело – мужчина с ожогами в тесном женском наряде… однако в холод уж не до моды.
Платье было то самое, которое носила японская дама в Хэллоуин. Без сомнений, и оно, и могила, из которой платье появилось, принадлежали Сэй.
* * *
Меня поглотила блистающая пустота нового мира. Смена местоположения была абсолютной: от самой тесной и темной норы, которую только можно себе вообразить, – к широчайшей белизне. На мили вокруг я был самым высоким объектом, огромным просто в силу обладания ногами, на которых можно стоять, но все же чувствовал себя карликом под безбрежностью неба. Вот так стоишь на равнине и ощущаешь собственное величие и незначительность.
Легкое платье плохо защищало от холода, ветер пробирал до костей.
Что-то шевельнулась на границе видимости. Я уже поддался снежной слепоте и теперь прищурился, пытаясь рассмотреть глыбу, нарисовавшуюся в зловещей пустоте. Кажется, нечто двигалось ко мне, однако на плоской поверхности равнины определить было сложно. Я направился к нему. Что бы там ни было, лучше идти, чем стоять и ждать гипотермии.
Через какое-то время стало понятно: ко мне движется мужчина. Он поможет, подумал я, должен помочь, а не то я погибну! Сначала я заметил его рыжие космы, выделяющиеся на снегу, как кровь на постели. Потом разглядел, что человек закутан в тяжелые меха, а на ногах у него теплые сапоги. Штаны были из грубо сшитой кожи, вместо куртки – змеиная шкура. На плече он, кажется, нес еще шкуры, невыделанные. Изо рта его валил пар. В бороде намерзли ледышки. Он был уже близко. В углах глаз прорезались глубокие морщины, выглядел он старше, чем мне показалось в первый момент.
Он встал передо мной, протянул свою ношу и заявил:
– Fardu itetta.
Я догадался, что это значит «надевай».
В связке обнаружился полный комплект одежды: тяжелые меховые шкуры, которые укроют от холода. Я не заставил себя упрашивать и вскоре почувствовал, как внутри, под одеяниями, воздух теплеет.
– Hvad heitir tu? – «Как тебя зовут?»
Я с изумлением понял, что и сам говорю на исландском.
– Я Сигурд Сигурдссон, и ты пойдешь со мной. – Ответ подтвердил мою догадку… впрочем, неуверенную, ведь здесь (где бы это здесь ни находилось) у Сигурда не было ожогов, а я знал, как закончилась его жизнь.
Но мое-то тело по-прежнему было обожжено… Странно.
– Куда мы идем? – спросил я.
– Не знаю.
– Когда мы туда попадем?
– Не знаю. – Он сощурился и посмотрел на горизонт. – Я уже давно в пути. Наверное, теперь близко.
На поясе Сигурд носил ножны – те самые, которыми тогда, в танце с Сэй, бил ее по ноге. Он выдернул свой Дар Сигурда за рукоять-змею, а пояс и ножны протянул мне.
– Возьми. Тебе нужно.
Я поинтересовался зачем. Он не знал.
Я выбросил платье Сэй, решив, что теперь, когда есть шкуры, оно уже не пригодится. Сигурд поднял его и сунул мне в руки.
– Это Hel,[12]12
Ад (исл.).
[Закрыть] здесь нужно пользоваться всем, что имеешь.
Я намотал платье на пояс, вторым слоем поверх ремня, который только что получил от Сигурда. И спросил, откуда он знает, в какую сторону нам идти.
– Я не знаю, – бросил он.
Сигурд был удивительно общительный. Он пользовался своим мечом как тростью, и при каждом шаге клинок вонзался в снег. Для человека, не знающего, куда идти, шагал он весьма уверенно.
– Это галлюцинация? – Чрезвычайно странно, оказавшись в галлюцинации, спрашивать, не галлюцинация ли это, на языке, которого я не понимал.
(В самом деле, сколько вообще человек в целом мире знают, что по-исландски галлюцинация – «ofskynjun»?).
Сигурд отозвался: вряд ли это ofskynjun; впрочем, наверняка не скажешь.
Мы шли. И шли. И шли. Несколько дней, но солнце никогда не садилось. Может, вы сочтете это преувеличением? Может, думаете, я имею в виду, что шли мы несколько часов, но они казались днями? Нет же, я говорю о нескольких днях! Мы путешествовали, постоянно испытывая усталость, однако ни разу не почувствовали, что надо поспать… Кстати, несмотря на поврежденное колено, я как будто мог бы двигаться бесконечно. Я думал о местах на самых северных окраинах мира, там, где солнце остается в небе по шесть месяцев подряд. Сколько нам идти?
Сигурд говорил мало и непонятно; по большей части от него слышалось только непонятное музыкальное позвякивание откуда-то из-под шкур, в районе шеи.
Потом я перестал с ним заговаривать, только пытался рассмешить. Ни разу не получилось.
Иногда я останавливался – просто для разнообразия. Умолял Сигурда подождать хоть минуту, однако он неизменно уверял, что отдыхать некогда. В ответ же на мои расспросы повторял:
– Потому что надо дойти.
Я спрашивал, куда «дойти», но он не знал. Я заявлял: раз уж он не знает, мне и подавно нет смысла идти за ним. Сигурд фыркал, отвечал, что я вправе принять такое идиотское решение, и шел прочь от меня. Когда он должен был вот-вот скрыться из виду, я начинал вприпрыжку ковылять за ним. Ведь я в нем нуждался – что я стану делать тут один? Так мы все пилили и пилили вперед. Нас ждало место, которое он не мог назвать, а я не мог представить.
Галлюцинациям положено быть интереснее, думал я. Скучно плестись много дней напролет по равнине; я только удивлялся, что способен так долго воображать нечто столь упорядоченно-правдоподобное. Холод пронизывал слишком глубоко, снежинки были чересчур разнообразны, а усталость моя – слишком болезненна для воображаемого мира. Лишь моя способность продолжать идти без отдыха и пищи казалась нереалистичной.
Конечно, бред! Отвратная, правдоподобная, холодная, затянувшаяся галлюцинация. Ломка не такой должна быть. Если только…
– Сигурд, я умер?
Он, наконец, хоть чему-то засмеялся.
– Ты здесь просто гость!
Если это место принадлежало Сигурду, как гроб принадлежал Сэй, мне хотелось бы узнать побольше. Обо всем. Я решил говорить без обиняков.
– Что это у тебя на шее звенит – ожерелье с драгоценностями Сванхильд?
Он остановился, быть может, решая, стоит ли подтверждать.
Решил:
– Да.
– Почему не наконечник от стрелы?
– Он достался Фридлейву.
– А ты знаешь, что его назвали заново? Сигурдом…
Он несколько секунд помолчал, потом ответил тихо-тихо:
– Да, я знаю. То была большая честь.
– Ты расскажешь мне об Эйнаре?
От этого вопроса он снова двинулся вперед.
– Та история не для тебя.
– Но я уже слышал.
Сигурд обернулся и посмотрел мне прямо в глаза.
– Нет. Ты слышал мою историю по версии Марианн, а это совершенно не то. Как ты смеешь думать, что знаешь мое сердце, когда даже в своем не разобрался?
Вот такое красноречие от викинга, когда меньше всего ожидаешь… Я заткнулся и продолжал путь.
Мне все казалось, вот-вот что-то будет, но ничего так и не было. Я думал, мы сейчас увидим с гребня холма долину или мох на гранитных глыбах… однако за каждым «гребнем» оказывался только дальний горизонт. Я молился хоть о какой-нибудь перемене в этой монотонности. Каменная глыба. Отпечаток лосиного копыта. Замерзшая ездовая собака. Имя, протопленное в снегу неровными желтыми буквами.
Но перед нами был только лед, только снег. На третий день (кажется, на третий) я просто остановился. Сдался.
– Впереди ничего нет! Что ты ищешь? – Голос растаял в воздухе. – Сигурд, ты шел «туда» больше тысячи лет, но даже не знаешь, где это «там».
– Нужно идти, пока не дойдешь, – отозвался он. – А ты теперь прошел достаточно.
Это место ну нисколечко не отличалось от любого другого на снежной равнине. Я повертелся во все стороны, для убедительности взмахнул руками.
– О чем ты говоришь?
– Посмотри в небо.
Я поднял глаза. Несмотря на то, что никого не было на много миль вокруг, прямо на меня летела одинокая пылающая стрела.
Я хотел отодвинуться, но застыл на месте, сумел лишь прикрыть голову руками. (Хотя, после историй Марианн Энгел, логичнее было бы прикрыть сердце.) Стрелявший промахнулся на несколько дюймов, стрела вонзилась в землю, и лед раскололся, точно чудище-альбинос разинуло пасть. Льдины потрескались, вздыбились у нас под ногами. Большущая глыба ударила меня в правое плечо, повалила на другой зазубренный обломок. Мгновение ясности, как тогда, на краю обрыва, в машине – и все замедлилось перед глазами. Вода медлительно взвилась из трещины, и, наконец, я понял, отчего все это время над поверхностью, по которой мы шли, ничего не выделялось. Мы были вовсе не на земле – на огромной пелене льда. Замерзшие глыбы танцевали вокруг пируэты, и вскоре сила тяжести потянула меня во внезапно раскрывшееся море.
Все тело до костей пронзил мгновенный холод. Шкуры не спасали, только вредили – они пропитались водой и потащили меня на дно. Сначала удавалось пробиваться между прыгающих в волнах льдин. Я вонзался пальцами в любую щель. Почувствовал, как тепло всего тела втягивается в самый центр живота, но вскоре даже там стало холодно. Движения мои замедлялись, а зубы стучали так громко, что этот звук заглушал даже треск льда, и мне подумалось, не посинеют ли сейчас даже келоидные рубцы…
Сигурда видно не было. Возможно, его проглотили танцующие льдины. Остроугольный кусок льда толкнул меня в левый бок, другой ударил по затылку. Льдины кружили, стягивались все плотней, тянули меня вниз. Любой ученый объяснит, что колотый лед равномерно распределяется по всей поверхности воды, и именно это происходило в попытке закрыть пробитую стрелой брешь. Кажется, даже в воображаемом океане действовали основные законы физики – что, без сомнения, вызвало бы улыбку Галилея.
Я больше не мог держать голову над водой, а лед – тук-тук – стучался в уши (соцветия цветной капусты), и тогда я закрыл глаза, как обычно люди делают при погружении в воду, и почувствовал, как тело тянет вниз. «Вот, значит, как все закончится. В воде». Я ускользнул под лед и даже почувствовал некоторое облегчение.
«Так будет легче».
Я без труда удерживал дыхание много минут, целую вечность, пока не устал ждать, когда легкие откажут. Открыл глаза, не рассчитывая ничего увидеть дальше, чем на пару футов. Под водой оценить расстояние так же сложно, как и на льду: никаких меток, никакой перспективы. Ни рыб, ни других созданий, ни водорослей, лишь прозрачная вода. Пузырьки воздуха выскальзывали из складок шкур и тянулись вверх по телу, собираясь в уголках глаз. Забавно, В настоящем мире я не мог плакать водой, а в подводном мире – сумел плакать воздухом.
Что-то засветилось надо мной, вдали… Свет преломлялся в моих слезах-пузырьках, и я подумал: «Может, это коридор из света, по которому мертвые попадают в рай?»
Как же, счас прям. Судя по всему, какая-нибудь саблезубая рыба флуоресцентной чешуей заманивает других морских обитателей к себе на обед. Впрочем, обе мои догадки – о дороге в небо и о коварной рыбине – не подтвердились. То был огонь пылающей стрелы, которая вонзилась в лед, а теперь была зажата в руке у Сигурда, а сам он решительно пробирался сквозь воду ко мне.
Отсветы огня (пламя, не гаснущее в воде, – вот вам и законы физики в сверхъестественном мире) играли в бороде Сигурда, в морщинках вокруг глаз. Длинные рыжие волосы развевались как пылающий венец из водорослей; викинг ясно улыбался, точно видел чудо. Он протянул мне стрелу, как олимпийский факел… И все это время мы продолжали медленно погружаться.








