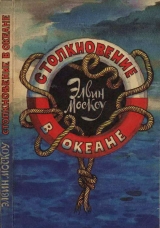
Текст книги "Столкновение в океане"
Автор книги: Элвин Москоу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
С места поднялся Гейт. Брови его дергались, но голос был совершенно спокойным.
– Позвольте сказать всего лишь два слова в ответ на замечание мистера Грина. Если мне не изменяет память, мистер Ундервуд только что повысил голос уже вторично. Впервые это случилось на второй день разбирательства. Тогда я протеста не заявлял, полагая, что на первый раз это можно оставить без внимания. Но я отметил для себя и решил заявить протест, если это повторится. Так оно и было. От меня не зависит, делаю ли я свои замечания в подходящий или неподходящий момент.
Последнее слово было за адвокатом итальянской пароходной компании:
– Поскольку предметом обсуждения является мой проступок, я бы хотел сказать, что если я и повысил дважды голос, то, полагаю несмотря на это, мое поведение было безупречным.
– Продолжаем заседание, – провозгласил председательствующий с судейского кресла.
– Я бы хотел услышать ответ на мой вопрос, – сказал Ундервуд.
Секретарь суда, стенографировавший протокол заседания, повторил вопрос:
– Правда ли, что «Андреа Дориа» находился точно прямо по носу или немного справа по курсу «Стокгольма» перед тем, как Карстенс совершил первое изменение курса вправо?
– Нет, – категорически отклонил Карстенс. Карстенс показал, что после первого изменения курса
на двадцать с лишним градусов он прекратил наблюдения за «Андреа Дориа», будучи вынужденным подойти к зазвонившему телефону. Когда он увидел, что итальянский лайнер изменил свой курс влево, было уже поздно. Тогда он скомандовал положить руль право на борт и дать полный ход назад.
– А вы не подсчитывали, на каком расстоянии позади кормы «Андреа Дориа» прошло бы ваше судно, если бы не перекладывали руля вообще? – спросил Ундервуд.
– Я не подсчитывал, но подумал об этом, – осторожно ответил Карстенс, – я бы не прошел за кормой, а врезался бы прямо в него.
Вернувшись затем к показаниям Карстенса по поводу трех определений места судна по радиопеленгам в 22 часа 04 минуты, в 22 часа 30 минут и около 23 часов, причем впервые эхосигнал «Андреа Дориа» был обнаружен третьим штурманом на экране радиолокатора вслед за последним пеленгованием, Ундервуд подчеркнул явную несуразность расчетов Карстенса. Получается, что он увидел эхосигнал судна всего за девять минут до столкновения, которое, как он сам определил, произошло в тот вечер в 23 часа 09 минут.
– Имея скорость хода восемнадцать узлов, какое расстояние прошел бы «Стокгольм» за девять минут? – спросил юрист.
– Он прошел бы… две и семь десятых мили, – в уме подсчитал Карстенс.
– Если за девять минут до столкновения расстояние до «Андреа Дориа» было десять миль и «Стокгольм» за это время прошел две и семь десятых мили, то выходит, что «Андреа Дориа» должен был соответственно успеть пройти семь и три десятых мили? Не так ли?
– Совершенно верно, – сказал Карстенс, – но, насколько я понял заданный вопрос, вы исходите из предположения, что двадцать три ноль-ноль – точно установленное время, я же говорил, что было около двадцати трех часов.
Не обращая внимания на ответ, Ундервуд продолжал развивать свою точку зрения. Получается, если принять расчеты третьего штурмана, будто «Андреа Дориа» шел со скоростью 47 узлов, но это невероятно.
Карстенс признал, что сказать в точности, который час был тогда, он не может и что 23 часа, вероятно, еще не пробило, но он настаивал на том, что приступил к прокладке курса «Андреа Дориа», когда тот находился на расстоянии десяти миль.
Предположим, что расстояние было действительно десять миль. Тогда, принимая во внимание приблизительную скорость обоих судов («Стокгольма» 18 узлов и «Андреа Дориа» 22 узла), Карстенс должен был обнаружить итальянское судно на радиолокаторе за пятнадцать минут до столкновения. Однако, – Ундервуд, собственно, и намеревался это доказать, – если допустить, что время было все же 23 часа, то Карстенс должен был впервые увидеть «Андреа Дориа» на радиолокаторе с расстояния всего лишь шести миль.
Показания Карстенса были подтверждены тремя матросами подчиненной ему ходовой вахты на мостике. Впередсмотрящий в «вороньем гнезде» Стен Иоганссон, вахтенный матрос Ингемар Бьёркман и стоявший у руля Педер Ларсен показали, что никакого тумана они не видели и что Карстенс действительно вел прокладку курса «Андреа Дориа». Все трое рассказали, как у них на глазах судно, шедшее слева от «Стокгольма», как раз перед самым столкновением пошло на пересечение его курса. Ларсен даже признал справедливость показаний Карстенса по поводу своего невнимательного отношения к компасу. Он заявил, что действительно больше смотрел на штурмана, наблюдавшего за радиолокатором справа от штурвала, чем на компас, который был слева.
В середине допроса Ларсена морскому праву пришлось даже столкнуться с уголовщиной. Давая показания на датском языке, что было сущим наказанием для трех переводчиков, Ларсен сначала решительно отказался ответить на вопрос, подвергался ли он когда-нибудь тюремному заключению. Но затем признал, что в 1955 году отбывал срок из-за «неприятности с девчонкой». Но больше он не захотел сказать ничего. Когда возникший вопрос был доведен до сведения судьи Уэлша, он вынес решение, что все это не имеет никакого отношения к причине столкновения.
Показания Карстенса были также подтверждены кур-сографом «Стокгольма» – автоматическим прибором, установленным в штурманской рубке, который в течение всего плавания непрерывно регистрировал на ленте со специальной сеткой курс судна. Полученная таким образом курсограмма (пожалуй, единственное важное вещественное доказательство) показала, что Пе-дер Ларсен допускал перед первым из двух изменений курса вправо рыскание судна примерно на 2 или 3° в обе стороны от заданного курса. Она показала также, что примерно за две с половиной минуты до столкновения Карстенс произвел первое изменение курса вправо на 24°. Две минуты спустя, то есть через достаточное время на ответ по телефону, он круто отвернул вправо, а примерно через полминуты произошло столкновение. Момент столкновения был обозначен на курсограмме резким отклонением линии в сторону, и перо, которое чертило курс, очевидно соскочило с ленты. Далее, по-видимому, когда оба судна сцепились, «Стокгольм» в течение двадцати секунд развернулся вправо еще на 60°. Это было очень резкое изменение курса, ни одно судно не могло произвести его самостоятельно.
Подобный разворот был возможен лишь под воздействием, какой-либо посторонней тянущей или толкающей силы – вероятно «Андреа Дориа».
Карстенс-Иоганнесен не покидал места для свидетельских показаний одиннадцать полных дней в течение почти трех недель судебного разбирательства. Одиннадцать различных юристов допрашивали третьего штурмана по всем этапам событий, предшествовавших столкновению. Если один из юристов что-либо упускал, следующий начинал настойчиво допытываться именно об этом. Вскоре стало очевидно, что в течение шести недель, как предполагалось, судебный процесс окончен не будет. В связи с длинным списком очередных дел, назначенных к слушанию, пришлось освободить зал заседаний, и дальнейшее разбирательство было перенесено сначала в зал заседаний Ассоциации юристов округа Нью-Йорка, а позднее – в помещение музея при морской духовной семинарии в городе Нью-Йорке.
По мере дальнейшего хода событий волнение и смущение, которые испытывал Карстенс в течение нескольких первых дней, миновали, и он прекрасно освоился со свидетельским креслом, находившимся в центре всеобщего внимания. Ему стало доставлять удовольствие состязаться в хитрости с различными адвокатами, стремившимися вытянуть у него признание, которое причинило бы вред ему, нанесло ущерб репутации «Стокгольма» и шведской компании. Ход самого дела и попутное освещение его в печати говорили о том, что на карту было поставлено нечто большее, чем возмещение финансовых убытков. Свидетели с обоих судов, давая показания, защищали свою собственную репутацию, репутацию своих судов и, в конечном итоге, престиж Швеции и Италии как мореходных держав.
Согласно показаниям, Карстенсу и в голову не приходило, что именно «Андреа Дориа» мог оказаться в тех водах. «Но это не имеет никакого значения», – настаивал он. У него были вполне определенные инструкции проявлять осторожность в отношении всех судов, больших и малых, встречавшихся на пути «Стокгольма». Он даже не пытался установить радиосвязь с «Андреа Дориа», когда обнаружил на радиолокаторе эхосигнал судна, находившегося на расстоянии двенадцати миль.
– Вряд ли кто способен по эхосигналу на радиолокаторе определить, какое судно идет навстречу, – сказал он.
Карстенс заявил, что капитан Норденсон мог бы лучше ответить на два существенных вопроса, вернее, на серию вопросов по поводу столкновения.
– Почему «Стокгольм», следуя на восток, придерживался так называемого общепризнанного или рекомендованного пути для судов, державших курс на запад, в Нью-Йорк?
– Почему он следовал по этому пути полным ходом навстречу движению других судов?
– Всегда ли «Стокгольм» следовал в тумане полным (не снижая скорости) ходом или нет?
Вопрос о скорости в тумане явился наиболее важным вопросом предварительного разбирательства. Вокруг него развернулась самая острая борьба. Если бы удалось доказать, что «Стокгольм» постоянно превышал скорость в тумане и не снизил ее перед катастрофой, то это значило, что он проявил такую же халатность, как и «Андреа Дориа» и, таким образом, был виновен в равной степени.
В самом начале разбора дела всем адвокатам стало известно, что «Италией лайн» признает повышение скорости в тумане и потому – частичную вину за столкновение.
Отрицая обвинение в том, что «Стокгольм» во время тумана не имел обыкновения снижать скорость, Карстенс проявил поистине тевтонское упорство. Он настойчиво доказывал, что вечером перед столкновением судно, на котором он нес вахту, во-первых, шло не в тумане, и во-вторых, не превышало скорости. Если видимость и была всего только две мили, «Стокгольм» можно было остановить в пределах менее одной мили, то есть на расстоянии, равном половине дальности видимости, что и рекомендует хорошая морская практика.
Представлявший интересы грузоотправителей адвокат Леонард Маттисон, который превратился во время слушания дела в эксперта по скорости хода судов в тумане, заметил, что согласно записям, произведенным в судовом журнале «Стокгольма», за период с 6 июня по 25 июля в течение шестидесяти вахт по четыре часа каждая отмечался туман.
– Но ни разу за все эти шестьдесят вахт не было сделано ни одной записи, свидетельствующей о снижении «Стокгольмом» скорости хода, – сказал юрист.
Однако Карстенс заявил, что он помнит, как во время предыдущего рейса из Швеции в Нью-Йорк «Стокгольм» снижал скорость в тумане, находясь около берегов Англии. Маттисон, держа судовой журнал в руках, не унимался. Он спросил Гейта, не признает ли тот, что судя по журналу «Стокгольма», судно ни разу не снизило скорость. Но адвокат шведской стороны вежливо отказался.
– Нет, мистер Маттисон, я не собираюсь делать такого признания. Чтобы доказать это, потребуется опросить по поводу записей в журнале весь судоводительский состав «Стокгольма».
– С какой скоростью обычно следовал в тумане «Стокгольм», я не могу сказать точно, – подчеркнул Карстенс, – так как я служил на судне всего три месяца и не стоял на вахте круглосуточно. Дать ответ на этот вопрос может только капитан.
Карстенс начертил курс, которым следовал «Стокгольм» вечером перед столкновением, и так называемый рекомендованный или общепризнанный путь судов, идущих на восток. Измерив расстояние между двумя курсами в момент столкновения, он заявил, что оно равнялось примерно девятнадцати с половиной милям. Между прочим, и газеты сообщили, что в момент столкновения «Стокгольм» отклонился от курса на девятнадцать с половиной миль. Карстенс пояснил, что он придерживался курса, которым приказал идти капитан.
Капитан Норденсон, подвергнутый длительному пристрастному допросу о его отношении к поступкам и решениям Карстенса в вечер перед столкновением, к исходу третьего дня пребывания на месте для свидетельских показаний потерял сознание. Пока адвокаты занимались обычной перепалкой по поводу уместности вопросов, он сидел, барабаня карандашом с резинкой на конце по блокноту из желтой бумаги. Когда Ундервуд задавал вопросы, Маттисон, держа в руке карманные часы, объявил, сколько минут потребовалось капитану Норденсону для подсчета времени, в течение которого суда сближались, находясь на расстоянии десяти миль друг от друга и идя с суммарной скоростью сорок узлов. Сознание у капитана помутилось и, как он рассказывал впоследствии, он забыл, где находится. Юристы были настолько поглощены разговорами, что даже не заметили состояния свидетеля. Лишь когда капитан с трудом проговорил: «Мне плохо», – ему поспешно разрешили прекратить показания.
После двух недель, проведенных в больнице, капитану Норденсону потребовалось еще четыре недели, чтобы поправиться от легкого тромбоза сосудов мозга. Никто из юристов не подозревал тогда, насколько устал этот шестидесятитрехлетний капитан, который присутствовал при допросах Карстенса и капитана Каламаи (тот давал показания перед ним), а затем проводил долгие ночные часы на борту «Стокгольма», ремонтировавшегося на верфи фирмы «Бетлехем стил» в Бруклине.
После выздоровления капитана Норденсона допрос возобновился. Но теперь капитан щадил силы и появлялся ежедневно, но на очень непродолжительное время. Он выглядел усталым, больше был похож на доброго дедушку, окруженного внучатами, чем на строгого опытного капитана дальнего плавания.
Капитан Норденсон непреклонно отстаивал правоту Карстенса. Он утверждал, что действия третьего штурмана в вечер столкновения были совершенно правильными.
– Штурман имел полное право повременить с переменой курса «Стокгольма» до тех пор, пока сам не увидит на расстоянии двух миль огни другого судна, – говорил капитан. Он использовал в защиту Карстенса весь свой опыт и авторитет, заявив, что у штурмана не было никаких оснований подозревать, что туман – причина отсутствия видимости топовых огней другого судна.
Что же касается пути, которым следовал «Стокгольм», то капитан Норденсон сказал:
– Я служу в «Суидиш-Америкэн лайн» тридцать шесть с половиной лет. В течение всего этого времени мы всегда весной, за исключением периода появления льда в этом районе, ходили этим же путем. Никакое правило или соглашение не запрещало водить «Стокгольм» именно здесь. Правлению «Суидиш-Америкэн лайн» этот путь был известен.
– Он был избран потому, – объяснил капитан, – что является кратчайшей дорогой к плавучему маяку «Нантакет». Достигнув маяка, мы всегда направляли судно на север (курсом 66°), к острову Сейбл у берегов Новой Шотландии, а затем к мысу Кейп-Рейс на Ньюфаундленде, потом по дуге большого круга к Шотландии и далее по Северному морю к берегам Скандинавии. Было гораздо безопаснее, – говорил он, – идти прямо навстречу судам, идущим на запад, и расходиться с ними, чем сначала отклоняться на двадцать миль южнее плавучего маяка «Нантакет», а затем брать курс на север и пересекать под прямым углом курс судов, идущих на запад.
Капитан Норденсон под присягой показал, что его судно всегда уменьшало скорость хода в тумане. Утверждая это, он проявил такое же упорство, как и Карстенс. Но Ундервуд стал тогда допрашивать капитана о каждой из шестидесяти вахт в отдельности, во время которых, как это было записано в судовом журнале, судно шло в тумане.
Капитан Норденсон был вынужден признать, что в судовом журнале оказались занесенными все меры предосторожности, принятые в связи с туманом, например, назначение дополнительных впередсмотрящих, подача туманных сигналов, ведение радиолокационного наблюдения, но нигде не упоминалось о сокращении скорости хода. В заключение всей серии вопросов Ундервуд сказал:
– Ну вот, капитан, теперь, когда мы просмотрели с вами этот журнал, я бы хотел снова вернуться к вопросу: признаете ли вы, что у вас было принято идти в тумане почти не снижая хода?
– Это зависело от плотности тумана, – ответил капитан Норденсон.
На всем протяжении долгого допроса по данному поводу он доказывал, что «Стокгольм» обладал «колоссальной мощностью заднего хода», позволявшей идти в тумане со скоростью от 18 до 19 узлов.
Однако один из представителей судоводительского состава «Стокгольма» все же признал то, что было очевидно большинству присутствующих. Это был старший штурман Каллбак. Его спросили:
– Не является ли фактом, что на «Стокгольме» не было принято…, не смотрите на мистера Гейта, – старший штурман как раз смотрел в сторону своего адвоката. – Отвечайте на мой вопрос, как велит вам совесть: не является ли фактом, что на «Стокгольме» не было принято снижать в тумане скорость?
Старший штурман тихо, покорно ответил:
– Я должен сказать, что да.
Далее капитан Норденсон показал, что он отсутствовал на мостике в момент столкновения не по какой-либо определенной причине. Он был вполне здоров, не слишком устал, спиртных напитков не употреблял. Он пошел в свою– каюту, чтобы немного поработать над документами и сидел там в «полной готовности»: в случае необходимости он мог бы подняться на мостик за несколько секунд. Он еще не спал и намеревался это сделать, пройдя плавучий маяк «Нантакет», миновав который судно должно было лечь на новый курс.
Капитану задали вопрос:
– Почему на «Стокгольме» был только один вахтенный штурман, в то время как на большинстве трансатлантических лайнеров – по два?
– Просто потому, что так принято на судах шведской компании.
Правда, в дальнейшем капитан Норденсон признал, что лучше иметь двух вахтенных штурманов, но и один вполне может справиться с обязанностями на мостике.
Капитан был вторым, а затем, в связи с болезнью, последним свидетелем со стороны «Суидиш-Америкэн лайн». Три вахтенных матроса, радиооператор, вахтенный механик, три моториста, а также старший штурман и старший механик судна подверглись допросу в период болезни капитана.
Показания капитана Норденсона, в которых главное место уделялось отстаиванию судоводительских навыков Карстенс-Иоганнесена, можно считать окончательной оценкой достоинств третьего штурмана. Когда капитана спросили, мог бы он доверять штурману, которому даже не пришло в голову, что возможной причиной отсутствия видимости огней приближавшегося судна, находившегося на расстоянии пяти или менее миль, может быть туман, он заявил:
– Вы обвиняете Карстенс-Иоганнесена, теперь я это понял, в том, что он слишком молод. Вы также говорите, что он неопытен, ибо, сравнивая его опыт с моим (я провел на море более сорока пяти лет, скоро исполнится сорок шесть лет), можно утверждать, что он неопытен. Но, с другой стороны, существует различие между неопытностью и неумением. Насколько я могу судить, он не проявил неумения.
«Обязан ли я отвечать?»
Если по своей склонности к самоанализу и скромным манерам капитаны обоих столкнувшихся судов были удивительно похожи друг на друга, то более различных людей, чем Эрнст Карстенс-Иоганнесен и Пьеро Каламаи трудно было представить. Один из них молод, полон энергии и внешностью напоминал подростка. Другой же в результате трагедии стал стариком. У него было желтоватое, нездорового цвета лицо и вид больного человека. По прибытии в Нью-Йорк он действительно пролежал девять дней в больнице.
В отличие от двадцатишестилетнего шведского штурмана, появлявшегося в зале суда одетым в безукоризненную синюю форму с накрахмаленной белой рубашкой, капитан погибшего «Андреа Дориа» был в штатском платье. В отличие от пространных ответов любившего поговорить Карстенса, капитан Каламаи давал показания отрывистыми короткими фразами, тихим, едва слышным голосом. Он сидел на свидетельском месте в типичной для себя позе: опустив голову, облокотившись на подлокотник кресла и подперев подбородок большим и указательным пальцами. У него был вид человека настолько потрясенного, что ничто уже не могло причинить ему боль.
Но для итальянской компании капитан был таким же важным свидетелем, каким был Карстенс для шведской судоходной компании. Несмотря на различие в манере вести себя, различия в положении и опыте, каждый из них был лицом, несшим исключительную ответственность за ведение своего судна, начиная с того момента, когда другое судно было обнаружено, и вплоть до столкновения и катастрофы.
Быстро и по-профессиональному умело Ундервуд провел капитана Каламаи через пересказ событий, предшествовавших столкновению: каким образом «Стокгольм» был обнаружен по радиолокатору на расстоянии семнадцати миль несколько правее «Андреа Дориа», то есть по курсу, следуя которым можно было бы благополучно разойтись правыми бортами, если бы «Стокгольм» без всякого сигнала не изменил внезапно курса вправо.
Гейт, начав с нескольких предварительных вопросов, спросил капитана Каламаи по поводу использования радиолокатора на «Андреа Дориа».
– Капитан Каламаи, имеете ли вы лично какую-нибудь специальную подготовку по использованию радиолокатора?
– Нет, – последовал незамедлительный ответ.
– А второй штурман Франчини, имел ли он какую-нибудь специальную подготовку по использованию радиолокатора?
– Не думаю.
– Кто-нибудь из находившихся на мостике трех штурманов вел прокладку радиолокационных наблюдений приближавшегося «Стокгольма»?
– Нет, – последовал ответ, – «Стокгольм» шел встречным курсом и никакой необходимости в этом не было.
Капитан согласился, что определить точно курс и скорость другого судна можно только, сделав прокладку двух или более последовательных обсерваций встречного судна. Он также признал, что прокладка предусматривается инструкцией по использованию радиолокатора. Но на «Андреа Дориа» планшет для прокладки (локатограф Маркони) обычно лежал без дела. Им не пользовались и в тот вечер, потому что не считали это необходимым.
Казалось, что ведя энергичный допрос капитана «Андреа Дориа», Гейт испытывал симпатию к человеку, потерявшему свое судно. Капитан Каламаи, в свою очередь, отвечал на вопросы точно и, по-видимому, правдиво, как будто он слишком устал, чтобы пытаться увильнуть от ответа.
Одним из наиболее спорных вопросов слушания дела была судьба судовых журналов «Андреа Дориа». При обмене соответствующей документацией перед началом разбирательства «Италией лайн» информировала суд, что все важные документы ушли на дно вместе с судном. По словам ее поверенных, удалось спасти только личный журнал капитана, два секретных кода, применявшихся на судах стран – членов НАТО, папку с паспортами и другими документами команды и часть курсограммы судна. Но представители агентства «Италией лайн» в Нью-Йорке и работники ее правления в Генуе вскоре после столкновения заявили репортерам, что все судовые журналы целы и отправлены дипломатической почтой из Нью-Йорка в Геную.
Когда при разборе дела об этом спросили капитана Каламаи, он сказал:
– Просматривая газеты, среди других содержавшихся в них неточностей я обратил внимание и на это. Но я решил, что сообщая о спасении журналов, газеты имели в виду паспорта команды.
Судовые журналы имеют, конечно, первостепенное значение при попытке восстановить картину морской катастрофы, а это являлось главной задачей «предварительного» слушания дела. Было важно узнать курс обоих судов, чтобы определить их истинное местонахождение перед столкновением. Только тогда можно было установить, какое из судов является главным виновником гибельного поворота.
В ходе детального допроса капитан Каламаи рассказал, каким образом журналы оказались оставленными на борту тонувшего судна. Примерно в половине третьего утра он отдал общее приказание: «Спасайте документы». Он помнил, как произнес эти слова, однако они не были обращены к какому-либо определенному лицу. Рядом с капитаном на мостике находился первый штурман Онето и второй штурман Бадано, и капитан решил, что один из них возьмет на себя заботу о документах.
Сам он спустился к себе в каюту и принес на мостик два кода НАТО и свой личный журнал, вручив все это стажеру мореходного училища Марио Мараччи. Потом произошло «недоразумение». Капитан приказал второму штурману Бадано взять курсограмму. В спешке тот оторвал последнюю ее часть, охватывающую период в двенадцать часов, и передал Мараччи, спросив стажера:
– Документы у вас?
При этом он имел в виду судовые журналы, а стажер, думая, что речь идет о кодах НАТО, ответил:
– Да, они у меня.
– В действительности же, – сказал капитан, – при столкновении судовые журналы очевидно свалились вместе с кипой других бумаг на пол штурманской рубки. О том, что журналы оставлены на судне, мне стало известно вскоре после того, как я сел в спасательную шлюпку 11. Вместе со мной находились Онето и Бадано, но я не могу припомнить, кто именно тогда доложил относительно журналов.
– После того, как вы узнали, что журналы не захвачены с судна, – спросил Гейт, – имелась ли возможность послать на борт человека – штурмана или матроса, чтобы тот собрал всю судовую документацию?
Произошел один из немногих случаев, когда капитан Каламаи наклонился в своем кресле вперед:
– Сегодня я могу ответить – да, потому что судно пошло на дно в десять часов утра[6]6
То есть спустя четыре с половиной часа после того, как капитан Каламаи оставил «Андреа Дориа». (Прим. автора).
[Закрыть], – с горечью сказал капитан. – Но в тот момент я не мог знать, что судно не пойдет на дно немедленно, быть может даже одновременно с моим приказанием.
Подождав немного, он тихо добавил:
– Я был настолько подавлен случившимся, что даже не подумал об этом.
– Изъявляли ли второй штурман Бадано или первый штурман Онето добровольное желание вернуться за документами или, может быть, вы приказывали им сделать это?
– Нет, – сказал капитан. – Я чувствовал себя неважно… Мы больше об этом не говорили.
– Что произошло с машинным журналом?
– Когда машинная команда покидала машинное отделение, про него совершенно забыли.
– А с радиожурналом?
– Получив мой приказ покинуть судно, радиооператор решил, что медлить нельзя, – ответил капитан Каламаи. – Он оставил в рубке радиожурнал и комплект радиограмм.
Вопросы продолжали сыпаться один за другим, и капитан Каламаи признал, что согласно итальянскому законодательству капитан тонущего судна обязан, прежде чем покинуть судно, спасти все документы. Свидетель также согласился, что не выполнил предусмотренного итальянским законом требования завести, в случае потери журнала, временный судовой журнал и сделать в нем записи, относящиеся к последней вахте.
После этого Гейт предъявил капитану его личный журнал, содержавший лишь одну, относившуюся к 25 июля, запись по поводу температуры в судовых холодильниках, и спросил, не делал ли он в тот день в своем журнале каких-либо других заметок, например, о принятии мер предосторожности в тумане?
– Не помню, – ответил капитан.
– Но тут нет больше никаких других записей. Капитан объяснил, что столкновение помешало закончить запись событий 25 июля.
– А, понимаю. Еще один вопрос в этой связи, капитан, – как бы невзначай сказал адвокат шведской компании. – Когда вы, сидя у себя в каюте, писали в вашем журнале, имел ли он такой же внешний вид, в каком вы видите его теперь? Я обращаю ваше внимание на некоторые места на обложке и листах, свидетельствующие о том, что журнал, насколько это видно, – если я ошибаюсь, то прошу поправить меня, – был сначала расшит, а затем сшит заново.
– Заявляю протест по поводу данного вопроса, – громогласно крикнул адвокат итальянской стороны, вскакивая на ноги. – И если мистер Гейт пожелает занять свидетельское место, я бы охотно подверг его допросу относительно допущенного им утверждения.
После спора, разгоревшегося между двумя юристами, председательствовавший объявил, что капитан Каламаи обязан ответить на заданный вопрос. Но Ундервуд продолжал настаивать на своем возражении. Шагнув к свидетельскому месту и взяв из рук капитана Каламаи журнал, Ундервуд сказал:
– Позвольте минуточку подумать, стоит ли мне апеллировать, – он имел право опротестовать вопрос перед судьей Уэлшем. Рассматривая журнал, он листал его, расхаживал взад и вперед в передней части зала заседаний. Вдруг на глазах у всех присутствовавших журнал выскользнул из рук адвоката и упал. Несколько страниц рассыпалось по полу.
Теперь, когда предположение оправдалось, Гейт сказал, что он все-таки желал бы получить ответ на заданный им вопрос.
То, что сейчас здесь произошло, не имеет абсолютно никакого значения, – утверждал он, – потому что в нашей конторе имеется фотография журнала в прежнем состоянии. Я требую ответа: был ли журнал точно в таком же состоянии днем накануне столкновения.
– Нет, – спокойно ответил Каламаи. – Позвольте мне объяснить?
– Пожалуйста, – разрешил юрист.
– Как я уже говорил раньше, я поднял журнал с пола своей каюты и отдал стажеру Мараччи, который засунул его под куртку. Затем, уже в Нью-Йорке, мне сказали, что журнал подмок и потерял свой первоначальный вид.
– А вам не сказали, почему оказался подмоченным журнал? – спросил Гейт.
– По-видимому, спасательную шлюпку, в которой находился стажер, залило водой, – ответил капитан.
Вопрос о судовых журналах всплывал еще несколько раз во время перекрестного допроса капитана Каламаи и штурманов «Андреа Дориа». Если бы эти документы, а также навигационные карты, были целы, они оказали бы существенную помощь для воспроизведения места и курса итальянского судна перед столкновением. Таким образом удалось бы разгадать возникшую в ходе слушания дела загадку: почему радиолокатор «Андреа Дориа» показал, что «Стокгольм» находился справа от него, в то время, как по радиолокатору «Стокгольма» «Андреа Дориа» шел левее? Ответ был прост: либо один из радиолокаторов оказался неисправным, либо лица, следившие на одном из судов за этим прибором, допустили ошибку в чтении его показаний. Такая ошибка, независимо от того, кто из судоводительского состава допустил ее, по всей вероятности была неумышленной. Бессмысленно утверждать, что Карстенс или капитан Каламаи намеренно направили свой лайнер наперерез курсу другого судна.
Перед юристами стояла задача установить, кто ошибался: Карстенс или Каламаи.
По ходу слушания дела копии протоколов устных показаний вместе с заключениями адвокатов направлялись владельцам обоих судов. Их представители вели в Лондоне тайные переговоры, стараясь урегулировать встречные иски до того времени, когда дело будет передано в настоящий суд. «Стокгольм» принадлежал «Концерну Бростром» – крупной частной судовладельческой фирме. «Суидиш-Америкэн лайн» была ее филиалом. «Андреа Дориа» принадлежал «Италией лайн», главным акционером которой было итальянское правительство. Помимо разногласий по поводу ответственности переговоры осложнялись еще и тем, что значительное число страховых фирм также пытались, «наперекор друг другу», урегулировать вопрос помимо суда. Страховые фирмы, имевшие капиталовложения в обеих пароходных компаниях, стремились решить вопрос как можно скорее, поскольку они были вынуждены платить независимо от того, какая из сторон выиграет, а издержки по делу достигали уже почти 2000 долларов в день. В то же время фирмы, страховавшие только одно из судов, желали выторговать для себя лучшие условия. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что главным в переговорах об урегулировании спора являлся вопрос, какую часть суммы в 30 миллионов долларов (стоимость погибшего «Андреа Дориа») согласятся уплатить владельцы «Стокгольма». Ответ зависел от убедительности доказательств, представленных при разборе дела в Нью-Йорке.








