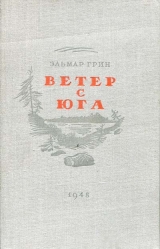
Текст книги "Ветер с юга"
Автор книги: Эльмар Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
27
Утром они действительно уже грузились. Все их пожитки поместились на одной подводе, которую собирался везти упитанный вороной конь. Пааво Пиккунен стоял рядом и держал вожжи. Какой он стал маленький и сухой! Или это только лицо его так сморщилось? Вдобавок оно было серое от холода. Стояла осенняя пасмурная погода с легким ветром, который носил по воздуху последние желтые листья. Еще далеко было до морозов, а Пааво уже мерз. На плечах его была зимняя теплая тужурка, а глаза слезились от холода.
Когда он увидел меня, в его глазах зажглась радость, и мелких складок вокруг них стало еще больше. Я пожал его маленькую жесткую руку и спросил:
– Как живешь?
Он ответил: «Ничего» и продолжал глядеть на меня с улыбкой. Я тоже улыбался ему. Так мы простояли несколько минут, а потом я спросил:
– Куда собрался?
Он кивнул головой на людей, которые суетились вокруг воза, наполненного узлами, и ответил:
– На станцию.
Нельзя сказать, чтобы эти мужчины, женщины и дети были хорошо одеты. Не очень-то легко одеться сейчас в обедневшей Суоми. Но они, как видно, не особенно заботились об одежде.
Все они были заняты какими-то другими мыслями и даже не смотрели на меня. Они видели, наверно, в эти минуты перед собой что-то такое, чего мне никогда в жизни не увидеть.
Только два маленьких мальчика остановились подле меня, и один из них сказал:
– Какой большой дядя.
На эти слова оглянулся пожилой, худощавый мужчина в куртке и резиновых сапогах. Он вынул трубку изо рта и сказал:
– Вот если бы этот большой дядя помог мне мешок поднять…
Я помог ему забросить тяжелый мешок с мукой на самый верх воза и спросил:
– В Россию?
Он ответил:
– Да. Домой.
И глаза его опять стали смотреть в какой-то другой мир, и в них была забота. Меня это несколько обидело, и я спросил:
– Не понравилось у нас?
Он пожал плечами, продолжая думать о чем-то далеком.
– Напрасно уезжаете, – продолжал я, – ничего там хорошего нет. Колхозы. А у нас можно дом купить, землю получить…
Что-то захрипело позади меня. Я оглянулся. Это Пааво рассмеялся так, что закашлялся и захрипел. Но в глазах его не было смеха.
Я еще немного поговорил с этим худощавым человеком. Я пытался ему доказать, что в Суоми лучше, чем в России. Нет в мире лучше страны, чем Суоми, и он напрасно покидает ее. Или, может быть, он думает, что она хуже России? Он ошибается, если думает так. Он просто не знает еще Суоми. Он не читал наших газет и журналов, не слушал нашего радио, не слушал наших учителей в школе и пасторов в церкви. А надо было все это читать и слушать, если он хотел узнать, что такое Суоми. Но, может быть, он вовсе не желает знать, что такое Суоми, и считает, что есть на свете края получше. Так я говорю, что он ошибается, очень даже ошибается!
Но он не спорил со мной. Он только кивал головой, косясь на меня удивленно одним глазом, и выбирал удобную минуту, чтобы отойти от меня. И вот понадобилось помочь стянуть веревку на возу, и он отошел.
Но я не считал, что кончил свой разговор с ним. Не мог я его так отпустить. И когда они уже окончательно снарядились в путь, я снова подошел к нему и сказал:
– Ну, счастливый путь, приятель. Тебя как звать?
Он посмотрел на меня с удивлением и ответил:
– Степан Котилайнен. А тебя?
– Эйнари Питкяниеми. Счастливо доехать домой.
– Спасибо. Доедем как-нибудь.
И они зашагали всей гурьбой за возом на станцию, чтобы уехать в Россию. А я подумал: «Вот будет у меня в России теперь один знакомый человек, который пожал мне руку и знает мое имя. Может быть, он вспомнит меня иногда…»
И я даже усмехнулся про себя – так по-детски все получилось. Зачем это мне понадобилось, чтобы кто-то вспоминал меня в России? Вовсе я в этом не нуждаюсь. Так… шутка. Глупеть я начал на старости лет… Но ничего. Пусть будет у меня один знакомый человек в России, хе-хе! Пусть, бог с ним. И я смотрел вслед ингерманландцам, пока они не скрылись за поворотом дороги вместе с лошадью и с Пааво Пиккунен, который шел рядом с возом, держа в руках конец вожжей.
А потом я заметил, как что-то замелькало слева от меня. Это раскачивался из стороны в сторону широкий подол платья нейти Куркимяки и развевались полы коричневого пальто, туго стянутого кушаком на ее тонкой талии. Она шла от желтого крыльца своего большого дома по еловой аллее, шла быстро, прямо ко мне. Надо полагать, что у нее была причина для такой спешки. Но ведь я не смотрел в ту сторону и мог ее совсем не видеть. Я смотрел вслед ингерманландцам. Только их я видел. И махнув им вслед своей кожаной шапкой, я, не оглядываясь, зашагал домой.
Но когда я обогнул коровник, то услышал, как меня кто-то позвал:
– Эйнари!
Это был мужской, очень громкий голос, который нельзя было не услышать. И когда он позвал меня еще два-три раза, я оглянулся.
У средних ворот коровника стоял хозяин и манил меня к себе рукой. Я постоял немного на месте, не зная, идти к нему или нет. Ведь я не собирался в этот день работать. Но когда он сам пошел ко мне, я тоже двинулся к нему навстречу. Как-никак это был мой хозяин, и неудобно было не уважать его. Он крепко пожал мне руку.
– Вернулся, наконец? Поздравляю. Ну как? Цел? Не ранен?
– Нет…
– Это хорошо. А когда можешь приступить?
Я не знал, что ему на это ответить, и молча смотрел на его обвисшие веки и на щеки, припухшие снизу. Они за эти годы припухли и порозовели у него еще больше. Да и весь он немножко потолстел. Можно было подумать, что вся полнота как-то обвисает на нем и сползает книзу.
Я не знал, что ему ответить, и смотрел на него сверху вниз, сжав губы.
А он спрашивал:
– Может быть, завтра выйдешь? Это было бы очень кстати. Проклятые русские забрали у меня ингерманландцев. Сегодня уже работаем сами: я, жена, дочь. Будут приходить еще две доярки на помощь к твоей Эльзе, но этого мало. Так ты завтра выйдешь или хочешь отдохнуть денек?
Я все еще молчал, хотя невежливо было не ответить. Он никогда не говорил со мной с такой просьбой в голосе.
Но меня взяла досада. Ведь я хотел отдохнуть по крайней мере четыре дня, оставшихся до воскресенья, чтобы навести порядок возле дома. А он спрашивает: «Завтра выйдешь?» Ну что ж, если уж так приперло, выйду послезавтра.
Так я решил про себя, но ему забыл сказать это вслух, потому что меня грызла досада. И я пошел дальше своей дорогой молча и только по дороге сообразил, что так и не ответил ему. Тогда я остановился, оглянулся назад и увидел, что он все еще стоит на том же месте и смотрит мне вслед.
Должно быть, он сильно был удивлен моей невежливостью. Но на таком расстоянии бесполезно уже было кричать о том, что я приду послезавтра. Я молча пошел дальше, медленно передвигая ноги в тяжелых сапогах, потому что был еще слаб и голоден и быстро уставал.
28
А через день я пришел на работу, как решил, хотя досада моя еще не прошла. И хозяин опять удивленно глянул на меня исподлобья. На этот раз он уже не подошел ко мне и не пожал руку. А когда я приподнял свою шапку и сказал: «Terve», он тоже ответил: «Terve» и добавил:
– Пришел все-таки? Хорошо. Очень хорошо. Будем работать.
Но и после этого он продолжал очень недоверчиво коситься на меня.
Я очень мало сделал в первый день своей работы после войны. Очень мало. Я вычистил один погреб и выложил его изнутри соломой, чтобы можно было туда засыпать картошку. Заодно я вычистил ледник для зимнего льда. В нем был очень скверный запах и много воды на дне, которую пришлось выкачивать насосом.
Потом я выкинул навоз из коровника и постлал коровам свежую солому, починил телегу, на которой в ближайшие дни предстояло вывезти весь накопившийся позади коровника навоз на картофельное поле будущего года, где его нужно было еще успеть запахать на зиму. Телега была все та же, прогнившая насквозь, и я кое-где опять скрепил ее свежими деревянными планками, как когда-то до войны.
В конюшне я сменил подстилку и вычистил лошадей. Их теперь было семь, если не считать молодняк. Черный большой конь, увозивший ингерманландцев, назывался Mustalainen.[36]36
Цыган.
[Закрыть] А Великан разъелся так, что любо было посмотреть. Бодрый совсем округлился. Я вычистил его и долго похлопывал по жирному широкому крупу, на котором темная кожа лоснилась, как шелк.
Да. Это хорошо иметь свою лошадь. Не каждый даже понимает, как это хорошо. И, может быть, меньше всего понимает тот, у кого их несколько.
Я очень мало сделал в этот день. Пааво пропахивал картофельное поле для копки, а когда он немного освободился, мы вместе с ним привезли на гумно два воза ржаных снопов и забили ими колосники в риге, а потом растопили ее. В четыре часа утра следующего дня нам предстояло молотить эту рожь. Ингерманландцы так и не успели домолотить весь хлеб, и на нашу долю осталось еще полторы скирды ржи, две скирды пшеницы и четыре скирды овса.
Картошка тоже еще не вся была убрана с поля. Копали ее роува и нейти Куркимяки и две поденщицы, которые должны были утром и вечером помогать моей Эльзе доить коров.
Днем Эльза позвала меня домой обедать, но я сказал, что не пойду, а лучше немного раньше кончу вечером. И я не пошел, но то и дело грыз на ходу няккилейпя и каккара[37]37
Сухая, тонкая ватрушка.
[Закрыть], которые Эльза еще с утра напихала мне в карманы, и все-таки целый день чувствовал себя голодным.
Перед вечером Пааво показал мне новые постройки. Да, здесь работали не на шутку. Крупный двухэтажный корпус уже был готов, а кирпича, камня и леса, который лежал вокруг в штабелях и грудах, хватило бы еще на такой же корпус. Напротив него стоял большой длинный кирпичный склад, покрытый черепицей. Когда они успели это все соорудить?
Пааво показал мне место, где должны были слиться оба ручья, показал, где намечено место для водоема, где для плотины. Он провел меня внутрь корпуса и показал там в обоих этажах все отделы, где предполагалось установить оборудование для молокозавода и мельницы. Только оборудование он пока не мог мне показать. Оно лежало под замком на новом складе, стоящем напротив, а ключ от склада был у господина Куркимяки.
Но я и так видел достаточно. Стены, потолки и крыша уже стояли на месте. Кое-где их нужно было еще доштукатурить. В той части, где устраивался молокозавод, требовалось покрыть цементом пол в трех комнатах, сделать две цементные ванны для ледяной воды, в которую ставят баки со сливками, и цементные основания для сепаратора, маслобойки и для динамомашины с мотором в электробудке, стоящей отдельно.
Оставалось также еще сделать рамы для окон, косяки для дверей и сами двери, но этим уже занимались золотые руки Пааво Пиккунена. Окончательную внутреннюю отделку и оборудование херра Куркимяки решил отложить до весны. Сын писал ему из Хельсинки, что сейчас очень трудно найти специалистов.
Но основное дело все же было сделано, и сделано даром русскими военнопленными.
– Пойду-ка я домой, Пааво. Хватит с меня для первого дня, иначе мне утром к трем часам не встать.
И я потащил свои тяжелые ноги к дому, который стоял все на том же месте, на том же каменном бугре.
29
Бедный мой дом. Досталось ему за эти годы. Уже не выглядела такой яркой красная краска на его досках. Уже сколько лет хлестали по ним дожди и снег и прохватывал их мороз. Сколько раз капли дождя, тающего снега или инея сползали по ним вниз, смывая краску, и сколько раз весенние ветры и летнее солнце просушивали их насквозь!
Да, теперь уже нельзя было сказать, что этот уголок был похож на картинку из сказки. Посеревший дом на сером камне и серая мокрая осень вокруг – это невеселая сказка.
Я очень устал в этот первый день работы после войны и, поднявшись на бугор, сразу вошел в дом. Лаури и Марта уже сидели за столом и готовили уроки. Я подсел к ним, глядя, как их ручонки выводят в тетрадках буквы и цифры, а потом повернулся лицом к теплой плите и заснул. Разбудила меня Эльза.
Она подкрутила фитиль в керосиновой лампе и начала растапливать плиту. А я сидел, свесив руки, и следил за ее движениями. Молодец она у меня. Не сразу сомнешь такую тяжелой работой и заботами. Три года несла она на своих плечах все труды по дому. Вот стоило жару плиты коснуться ее лица, и оно снова налилось румянцем, как бывало прежде. И детей она сумела сохранить. Их щеки розовели среди белых подушек, словно спелые яблоки.
Конечно, и моя помощь кое-что значила. Как-никак я получал 16 марок в день солдатского жалованья и посылал ей каждый месяц по четыреста марок. Хоть это и немного для военного времени, но все-таки помогало ей, наверно, выбиваться из нужды.
Эльза улыбнулась, поймав мой взгляд, и сказала:
– Сейчас я развеселю тебя. Хочешь?
Она поставила на плиту сковородку со свининой и подошла ко мне. Я посадил ее к себе на колени и ждал, что она скажет. Она опять погладила мои худые скулы и потом зашептала мне на ухо:
– Ты не думай, что у нас все так плохо. У меня есть восемь с половиной тысяч марок.
– Эльза!
Я вытаращил глаза и ничего не мог понять. А она продолжала:
– А корову можно купить за семь тысяч. Я уже приценивалась тут к одной.
– Эльза! Но откуда?..
Она плотнее прижалась ко мне.
– Глупый. Да это твои же солдатские деньги за три года. Не все, правда, но сколько удалось сберечь…
Вот какая она у меня. Что делать с такой женой? Я, правда, не мог ее подбросить на этот раз к потолку. Я слишком устал в этот день. Но я обнял ее и прошелся с ней несколько раз по комнате, целуя на ходу ее горячие губы, пока дым не пошел от свинины, которая жарилась на сковороде.
Вот как женщина умеет приносить радость в дом. Самый тяжелый и серый день в жизни она может наполнить настоящим теплом и светом, если пожелает. Да сохранит ее бог!
А сколько ей пришлось перенести лишений для того, чтобы не трогать моих денег! Я только на следующий день это как следует понял, когда крутил ручку молотилки.
30
Мы купили корову. Уже не требовалось больше занимать в долг молоко и масло у госпожи Куркимяки. Все это у нас теперь было свое. Немного труднее вышло с кормом и сараем. Но за доски и дранки у нас хватило расплатиться наличными. А за сено я должен был работать господину Куркимяки до конца года. Гвозди тоже пришлось взять в долг.
И еще кое-что пришлось мне взять у Куркимяки в счет моей будущей работы. Совсем износилось пальто у Эльзы, а Эльза заслуживала того, чтобы носить лучшее пальто в мире. И я взял у госпожи Куркимяки сукна на новое пальто. Конечно, это было не лучшее в мире сукно, но все-таки новое и тонкое.
И у детей пальто тоже поизносились, но им можно было перешить пока из старого. Только кожу на башмаки пришлось взять в кладовой у госпожи Куркимяки. И я взял у нее новые кожаные пьексы для зимы.
Чего только не было у этих господ Куркимяки! Все можно было у них достать. Но цены выросли во много раз, а мое жалованье не прибавилось, и поэтому долг мой я мог отработать только к середине сорок пятого года.
А когда мы подсчитали, что за дом я не платил хозяину уже три года и, значит, обязан был отработать ему за это три месяца подряд и еще один месяц за очередной сорок пятый год и что, кроме того, предстояло еще приобрести картофеля на семена и на пищу, дров на зиму, соломы для подстилки корове, кое-какой посуды и инструментов для хозяйства, то получалось, что я должен буду работать на хозяина даром весь сорок пятый год до конца и еще начало сорок шестого года. А в сорок шестом году снова подходил срок отрабатывать двадцать дней за дом. Так вот складывалось у меня все в эти первые дни.
Кроме того, я очень уставал. Эльза поддерживала мои силы, чем могла. Но я запретил ей трогать последний кусок свинины. Хватит и молока, чтобы поставить меня на ноги. Хоть и медленно возвращались ко мне силы, но все же я нарастил кое-какое мясо на костях.
Самым трудным делом для меня был сарай. Я хотел сберечь хотя бы десятка два досок для уборной и поэтому продолжал выкладывать стены из камня, пока корова стояла под навесом из сучьев у отвесной скалы. Все-таки это был самый дешевый материал. Он ничего мне не стоил и валялся вокруг целыми грудами. И глина тоже не стоила ровно ничего.
Работать над постройкой сарая для коровы приходилось только по воскресеньям, и притом одному. Чем выше становились стены, тем тяжелее было поднимать на них камни. Особенно трудно достался мне последний ряд. Как раз в этот день с утра шел дождь, и я промок и выпачкался весь в глине, вкатывая по доске наверх мокрые, грязные камни.
А один камень, килограммов на семьдесят весом, чуть не сорвался у меня. Доска упала, и он почти целиком остался лежать на моих вытянутых вверх ладонях, зацепившись за край стены только одним углом. Хорошо, что я заранее наложил на это место толстый слой глины. Я напряг все свои силы. Камень скользнул по глине и в конце концов улегся на место.
Но я совсем выдохся и в изнеможении присел на камнях у подножия стены. Руки у меня дрожали, и сам я весь дрожал, дышал тяжело и часто, широко раскрывая рот. Лил мелкий осенний дождь, захлестывая меня, лил на голые усталые руки, и холодный ветер дул в лицо с севера.
Каждый мускул, затвердевший, словно камень, от постоянной работы, резко выделялся на моих руках. Совсем не то было двадцать лет назад. Тогда под кожей был еще слой молодого жира, который сглаживал все выпуклости, и совсем не было набухших жил. Тридцать лет подряд уходила из этих рук сила.
Дождь и ветер били мне в лицо. Передо мной внизу тянулась длинная лощина, рассеченная извилистыми ручьями. К ручью с обеих сторон спускались поля, разделенные между собой прямыми канавами. А вплотную к ручью прилегала полоса заливных лугов, которая, извиваясь, уходила в промежуток между далекими лесистыми холмами.
Тридцать лет назад, когда я еще мальчиком впервые пришел на работу к господину Куркимяки, здесь были леса, болота и валуны. Леса и болота были также и во многих других местах его владений, где после этого уже не раз созревала рожь и цвела картошка. Эти леса перешли к нему от отца, которому некогда было их разрабатывать. Он только скупал их, а расчистку и запашку предоставил сыну. И вот сын теперь расчищал и пахал отцовское наследство. Сын умел это делать…
Я взглянул на свои жилистые руки, залитые дождем, и думал о том, что вот мне уже сорок два года, а что сделали для меня эти руки? Они сделали баню, в которой могут мыться одновременно два человека. Они делают сарай, который надо еще строить и строить. А что еще они сделали? Грядки эти не мои, и дом тоже не будет моим до конца моей жизни. Есть еще корова, но это кровь Эльзы и моих детей. Я тут ни при чем. Я посылал им деньги не для того, чтобы они их прятали в шкатулку.
Но вот я дострою сарай и поставлю в него корову. А что дальше? Ведь земли у меня по-прежнему не будет, и сила из этих рук опять потечет в чужую землю, в чужие болота и камни.
Мне сорок два года, а я все еще mӓkitupalainen. Даже если бы я получил землю сейчас, мне уже не так легко будет ее разделать, и только к старости моей она начнет давать плоды. На целину надо садиться в двадцать лет, а не в сорок два года. Но я не получу даже целины. Зачем тревожиться? Слава богу, никто мне ее не даст. И потом ведь у меня уже есть свой дом и даже земля. Вот она. Попробуй, перешагни через нее. Думаешь одного шага хватит? Нет. Сделаешь и два и три раньше, чем дойдешь от одного ее края до другого.
Я чувствовал, как холодные струи дождя потекли по моей спине. Но я слишком устал, чтобы выпрямиться. И глядя вниз, я видел перед собой только свои руки с толстыми жилами и твердыми выпуклостями мускулов. Мне сорок два года. Теперь сила катится вниз, чтобы больше не подниматься. Если к сорока двум годам ты не поставил себя на прочное место, то горе тебе.
Вот кончилась война. Пролилась кровь многих людей. Но ничего не изменилось. По-прежнему нет для меня места в огромной Суоми. Все тот же бугор и те же камни предо мной. Неужели и в других странах вернувшегося с фронта солдата дома встречает голый каменный бугор? Должно найтись такое место на земле, где солдат, придя домой, не упирается головой в холодный голый камень, за которым не видно ни дня, ни солнца, а встречает что-нибудь гораздо теплее и душевнее. Но только где это может быть на свете такое место? Где? Никто не сумеет этого сказать… Хотел бы я знать, долго ли принято задерживать пленных после войны…
Люди, потерявшие веру в своих правителей, говорили кое-что. Но что довело их до таких разговоров? Мало чести тем правителям, у которых люди начинают смотреть совсем в другую сторону.
Но бог с ними, с такими людьми! Я не собирался высмеивать их надежды. Не может человек жить без надежды. И у каждого по-своему устроены мозги. Я ни над кем не собирался смеяться и никого не думал осуждать. Какое мне дело? Я просто немного устал; и мне было жалко своих рук.
Я пошевелил мокрыми, грязными пальцами и сжал их в кулаки, увесистые и крепкие. Сила в них еще была, и если бы взмахнуть ими как следует, то многое бы можно сокрушить. Но разве для этого их создал бог?
На бугор взошла Эльза и сказала:
– Отчего ты сидишь под дождем, Эйнари? Разве нельзя зайти в комнату?
Глупая Эльза. Я вовсе не собирался садиться и отдыхать. Разве могу я отдыхать в воскресенье? Просто так получилось. Камень меня доконал. Я молча встал и пошел вслед за ней в дом.
Она тоже устала на работе, но не уселась, как я. Она дала детям по куску пирога и стала хлопотать у плиты. Такая уж доля у жены жителя бугра. Кроме работы на стороне из-за хлеба насущного, ее всегда ждет еще столько же работы дома, особенно если у нее есть малыши.
А я сел у плиты, чтобы ничего не делать. От меня пахло глиной и сыростью, и мой рабочий костюм был на этот раз совсем испорчен. Эльза заметила это и сказала:
– Переоденься в чистый костюм. Не сидеть же мокрым…
Но я не стал переодеваться. Зачем надевать последний костюм в обыкновенный рабочий день? Что же у меня останется на праздник?
Эльза и сама, наверно, подумала об этом, потому что сразу же добавила как будто про себя:
– Новый бы тебе надо. Обязательно надо. – И она добавила уже громче: – Ведь Эльяс уже купил себе. Ты не видал? Темно-синий. Очень идет к нему. Жаль, что ты не видал.
Мне нисколько не было жаль этого, но я промолчал. Я смотрел на свои руки. Вот их мне было жаль. И я хотел бы знать, правильно ли это, что на сорок третьем году моей жизни они все еще отдают и отдают свою силу, не получая ничего взамен.
А Эльза продолжала:
– Эльяс тоже тебя еще не видел и удивляется: «Куда девается Эйнари, когда я приезжаю? Я поговорить с ним хочу о войне, о наших героях, о славных переделках, в которых нам пришлось побывать, а он прячется. Уж не заразился ли он тоже большевистским духом, как некоторые, и не задумал ли что-нибудь против родины? Ведь он все время был так близко от рюссей…»
Я усмехнулся про себя. Как может Эльяс Похьянпяя понять рюссей?
А Эльза продолжала:
– И туфли он купил. Желтые, немецкой работы. Ну прямо есть на что посмотреть. И без того он видный из себя парень, самый красивый, пожалуй, из всех наших, если не считать Вилхо. А когда оделся первый раз в новое, вышел к девкам да еще улыбнулся так, что под черными усами все засверкало, то просто картинка…
Я снова вышел на двор под холодный ветер и дождь продолжать работу. Нельзя было сидеть без дела в воскресенье. Корове становилось холодно под навесом. Она ждала сарая.








