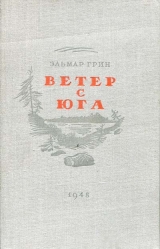
Текст книги "Ветер с юга"
Автор книги: Эльмар Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
6
Вилхо так и не зашел ко мне, хотя и сказал «забегу». Его просто не пустили. Его забрали в солдаты. Назревала зимняя война, и в солдаты брали всех крепких молодых парней.
Хотя Вилхо работал на молокозаводе, имеющем государственную важность, он не избежал мобилизации. Слишком дерзко вел он себя со своим хозяином, чтобы удержаться на этой работе.
Конечно, и Калле Похьянпяя не сказал бы, что Вилхо не нужен ему на работе. Он был нужен, как и все остальные рабочие молокозавода. Но когда потребовалось выделить на явочный пункт тех рабочих, без которых можно было обойтись, Похьянпяя отправил только Вилхо, а остальных занес в список нужных.
Это было его хозяйское право – выбрать кого он хотел. Если бы Вилхо не вел себя таким идиотом, он остался бы. Зачем стал бы херра Похьянпяя отделываться от него, если бы между ними все шло гладко? Молокозавод Похьянпяя считался предприятием государственной важности, и для его владельца ничего бы не стоило сказать, что люди ему нужны все до единого, иначе предприятие закроется, и государство перестанет получать от него масло на экспорт.
Но Вилхо сам испортил все дело заносчивым поведением. И вот вместо того, чтобы зайти ко мне, как обещал, он надел серую суконную солдатскую кепку, такую же куртку и брюки и зашагал с другими такими же горемыками по песчаным финским дорогам, горланя солдатские песни.
Не думаю, чтобы ему очень весело пелось. Ничего хорошего нет в солдатской жизни и никогда не было. И какая от солдата радость другим? Он ест не свой хлеб. Кто-то другой должен съесть немного меньше и поработать немного больше, чтобы он был сыт и мог шагать по извилистым дорогам Суоми, распевая глупые солдатские песни.
И все это сделала Россия, которую он пытался похвалить. В газетах и журналах ясно об этом было сказано. Все было просто и ясно. Даже школьникам все было ясно. Один только Вилхо делал вид, что понимает совсем по-другому. Он винил во всей этой беде кого угодно, только не Россию.
Но всего удивительнее то, что не один он так думал. Попадались и другие люди, говорившие то же самое, что и он. Я сам иногда ловил ухом такие слова, как: «Докатились», «Получите вы теперь великую Финляндию», «Что посеешь, то и пожнешь», «Кто-то заварил, а мы – расхлебывай».
И много других слов приходилось мне слышать, показывавших, что есть люди, смотрящие на эти вещи совсем иначе, чем мы. Особенно много их было на лесопилке Ахонена, куда я ходил узнавать насчет писем от Вилхо. И я радовался, когда узнал, что почти всех этих людей забрали в солдаты, а завод перешел работать на одну раму.
Эльяс Похьянпяя тоже радовался. Он говорил:
– Их надо гнать первыми прямо под огонь за такие речи! Это изменники своей страны! Мы их всех переловим здесь, чтобы не оставалось у нас такой заразы, перкеле! Мы покажем рюссям, что они напрасно рассчитывают на какие-то раздоры между нами. Среди финнов нет раздоров. Финны – это одно целое, и за свою родную мать Суоми жизнь готов отдать любой из них, перкеле! А мы здесь постараемся, чтобы это так и было и чтобы не заводились между нами смутьяны, перкеле!
И верно. Он очень внимательно прислушивался ко всяким разговорам и даже поймал двоих, которые вздумали уверять, что России не нужна эта война и финскому народу не нужна, а нужна она будто бы только финским правителям, которые ее и начали. Он заявил об этих людях в полицейское управление или еще куда-то, и они были арестованы.
Мне он тоже сказал, чтобы я не церемонился с таким народом и сразу докладывал куда следует. Нельзя терпеть между нами таких людей, когда родине грозит нашествие рюссей. Надо делать все, что идет на пользу родине, хотя бы здесь, в тылу. Конечно, он гораздо охотнее сам ушел бы на фронт, чтобы показать там другим, как действительно надо воевать. Но что ж делать, если он оказался на предприятии государственной важности. Приходится мириться с этим и стараться быть полезным хоть здесь. И уж будьте спокойны, он свой долг перед родиной сумеет выполнить, перкеле, хотя бы даже здесь. И мне советует не сидеть сложа руки.
7
Я не сидел сложа руки. Работы хватало. Херра Куркимяки говорил, что теперь мы должны работать больше, потому что каждый наш лишний час работы – это помощь нашим солдатам на фронте и удар по рюссям.
И мы работали больше, хотя Пааво Пиккунен иногда разводил руками и бормотал про себя, что он никак не может взять в толк одного: каким это местом бьет по рюссям то зерно, которое мы ссыпали с гумна в амбар Куркимяки, или то мясо, которое он солил для продажи в своих бочках. Но кто же виноват в том, что крохотная голова Пааво Пиккунена не вмещала в себе таких простых вещей.
Кончив молотьбу, мы начали возить лес и камень для постройки мельницы. У херра Куркимяки был обширный план. Он собирался стать конкурентом господина Похьянпяя. Он собирался строить не только мельницу, но и молокозавод. И на этом молокозаводе он решил крутить свой сепаратор не лошадью, как Похьянпяя, а силою воды двух ручьев. Этой же силой намеревался он крутить жернова своей будущей мельницы и двигать динамомашину, которую уже выписал из Швеции.
Мне он тоже пообещал провести электричество, когда динамомашина заработает. Он сказал:
– Ты у меня лучший работник, Эйнари, и для тебя мне ничего не жалко. Я дал тебе дом. Теперь дам свет. Пусть он горит у тебя бесплатно хоть всю жизнь. Только за провод удержу, и это будет все.
Я не знал, что ему ответить на это, и сказал:
– Вы слишком добры, херра Куркимяки. Не знаю, чем я заслужил…
А он отмахнулся от моих слов и ответил:
– Ничего, ничего. Пустяки. Все мы должны помогать друг другу. Стране тяжело сейчас. Страна должна выдержать. И для этого мы не должны жалеть сил каждый на своем деле.
Я сказал:
– Вы меня знаете. Пока есть в моих руках силы…
Но он перебил меня:
– Знаю, знаю. О тебе говорить не приходится.
И он пошел от меня прочь. Но я все-таки прошел за ним еще несколько шагов – так мне хотелось ему еще что-нибудь сказать. Однако ничего подходящего не пришло мне в голову, и я остановился, молча глядя ему в спину, пока он шагал от меня все дальше и дальше.
Странная была у него спина. Она внизу была шире, чем наверху, особенно когда на нем было надето толстое зимнее пальто. И ноги его были широкие и увесистые, и ступал он ими по земле твердо и основательно, словно пробовал ее крепость.
Я поспешил на конюшню, где уже сидел Пааво Пиккунен, чинивший хомут, и сказал:
– Долго же ты тянешь. Давно пора выезжать, а ты все сидишь и ковыряешь.
Он покосился на меня подозрительно и ответил:
– Да вот гужи только осталось удлинить.
И он тыкал толстым шилом в узел на сыромятном ремне гужа, силясь его развязать, но узел стянулся так плотно, что у него ничего не получалось. Он только сопел и пыхтел без толку. Его короткие жилистые пальцы становились белыми от напряжения, но ничего не могли поделать. Тогда я сказал:
– Дай сюда.
И сам взялся за гуж. Мои пальцы еще кое-чего стоили, и я довольно быстро развязал узел и удлинил гуж, а затем и второй.
Конечно, пальцы Пааво тоже кое-чего стоили, но сила в них была уже не та. Она ушла как-то впустую, неизвестно на что.
Говорят, что у него было накоплено несколько тысяч марок, когда он впервые попросил у господина Куркимяки надел. Он мог арендовать у него землю, мог купить ее и выстроить на ней дом, если бы захотел. И он заранее радовался этому, совсем забыв о том, что может получить отказ.
Никогда нельзя заранее верить, что тебе вдруг ни с того ни с сего кто-то даст землю, хотя бы и за деньги. Боже мой! Ведь уже прошли те времена, когда в мире совершались чудеса. Хотел бы я увидеть хоть одним глазом такого человека, который сказал бы мне:
– Я получил землю. У меня ее не было совсем, а теперь я получил. Вот она. Возьми пригоршню, пощупай. Можешь даже взять с собой немного, если хочешь. Мне не жалко. У меня хватит.
Боже мой, хотел бы я взглянуть на такого счастливца, если они еще водятся на свете!
Но никогда нельзя заранее верить такому счастью, чтобы не отпугнуть его. Всегда надо думать об отказе. Пааво Пиккунен не подумал об отказе, и горек стал для него мир. Он напился пьяный, когда узнал, что земли ему не будет. А через неделю он напился снова.
Ему следовало подождать два-три года и опять попросить, а не обижаться. Что он выиграл от своей обиды? Пил он все чаще и чаще. Деньги таяли, а пользы от этого не было никакой. Я советовал ему еще раз попросить, но он ответил, что больше никогда просить об этом не будет.
Пил он без шума. Напьется и сидит на своей койке в общем бараке. Сидит и молчит, только глазами моргает, глядя в стену напротив себя, а потом завалится набок и заснет.
Иногда сезонные работники, которые с весны до осени проживали в том же бараке, пытались раздразнить его. Но он был маленький и тихий, а они большие и шумные, и ничего у них не выходило. Он только смотрел на них светлыми, как у ребенка, глазами, моргая белобрысыми ресницами, и молчал. А если его начинали тормошить, он хватался за пуукко. И тогда его оставляли в покое.
Говорят, что у него раньше была на примете девушка, на которой он собирался жениться после того, как получит надел. Но надела он не получил, а у девушки слишком короткий век, чтобы ждать без конца. Она за это долгое время успела сделать другой выбор. И он пропивал те деньги, которые так долго копил.
Я кончил возиться с хомутом и сказал:
– Выводи скорей коней. Кто у нас пойдет сегодня?
Он опять покосился на меня, когда услыхал слово «скорей», и ответил:
– Jӓttilӓinen и Reipas[15]15
Великан и Бодрый.
[Закрыть].
– Веди сначала Яттиляйнена. Примерим хомут.
Он убрал сначала инструменты, а потом уж вывел Яттиляйнена. Он всегда во всем любил порядок и никогда не бросал инструменты как попало на том месте, где поработал. Он убрал все в ящичек, даже обрывки дратвы и обрезки кожи, а потом уж вывел Яттиляйнена.
Рядом с конем он казался совсем мальчиком. Он всегда мучился, надевая на него хомут, потому что конь имел привычку задирать голову кверху. А чтобы достать в таких случаях до головы Яттиляйнена, нужно было поставить друг на друга двух таких малюток, как Пааво Пиккунен.
Я сам надел хомут и, заправляя шлею, сказал:
– Веди Бодрого. Нам надо сегодня успеть съездить хотя бы восемь раз.
Он вывел гнедого жеребца с широким задом и начал запрягать его в другие сани. Уже рассвело настолько, что я отчетливо видел все морщины на его маленьком круглом лице. Под глазами кожа собралась гармошкой, губы стали тоньше, и маленький подбородок его сделался как будто острее, хотя и оброс щетиной, оттого что он не брился целыми неделями.
Раньше он ни капельки не боялся холода и был похож на какой-то сплошной комок огня, который вечно метался туда-сюда, вечно хлопотал и суетился да еще покрикивал иногда на меня. А теперь мне приходилось покрикивать на него, потому что делал он все гораздо медленней, чем раньше.
Конечно, он и теперь старался. Руки его еще с детства так привыкли к работе, что и теперь постоянно шевелились, постоянно были чем-нибудь заняты. Но делал он все теперь гораздо медленнее, чем раньше, и теперь уже мне приходилось его подгонять.
Видя, что ему никак не стянуть до конца клещи у хомута, я подошел к нему и взял у него из рук ремешок. При этом его тяжелое дыхание коснулось моего лица, и я понял, что он уже успел глотнуть в это утро. Я посмотрел, как покраснел на морозе его маленький круглый нос, как он приплясывал, хлопая себя по бокам замерзшими руками, и сказал ему:
– Загубишь ты себя, Пааво, этим зельем.
Он поднял воротник тужурки, опустил края своей кожаной шапки и проворчал сердито:
– В чужих советах не нуждаюсь.
Мы прицепили к саням подсанки и поехали в лес за бревнами. Мороз был такой крепкий, что приходилось то и дело соскакивать с саней и бежать вслед за ними вприпрыжку.
До станции мы ехали по расчищенной большой дороге, а потом свернули на малонаезженную, ведущую в леса Куркимяки.
До станции нам в пути попадались навстречу люди, повозки и даже автомобили. А один автомобиль обогнал нас, и когда он поравнялся с моими санями, кто-то крикнул мне оттуда:
– Эй, Эйнари! Здорово, перкеле!..
И я увидел совсем близко от себя свесившееся с машины красное лицо Эльяса Похьянпяя с черными усиками над верхней губой. Он улыбнулся мне, помахивая рукавицей, и белые зубы его сверкали, как снег на солнце.
А рядом с ним, отвернувшись от встречного ветра, сидела моя Эльза. Она поехала сдавать молоко. Но почему было не поехать Кэртту на этот раз? Ведь все равно ей делать днем будет нечего. Или это Эльяс уговорил?
Лицо Эльяса промелькнуло так близко от меня, что я мог бы достать до него рукой. Воротник и шапка на нем покрылись инеем. Странно, я не первый раз видел так близко от себя его лицо в такой момент, когда оно улыбалось, но только теперь всмотрелся в него как следует, хотя прошло не больше минуты, пока он обгонял на машине моего быстро бегущего Великана.
Да ведь он, кажется, вовсе не улыбался, если уж на то пошло. Ей-богу, мне так показалось в то морозное утро. Он только раскрывал рот и показывал зубы и кричал, а улыбки не было, да и все тут.
Ее не было ни в его приоткрытых красных губах, ни в маленьких круглых глазах, похожих на две черные блестящие пуговицы, ни в чем не было ее видно. Просто он раскрывал рот так, что виднелись его белые зубы, и кричал:
– Эге-ей, Эйнари! Не горюй! Мы еще поживем, перкеле! – И еще раз помахал мне своей шерстяной рукавицей.
Странный он был человек. Хороший, конечно, парень и нужный для родины, но лучше бы уж он жил где-нибудь в другом месте, подальше, бог с ним…
А Эльза, та действительно улыбнулась мне. Она повернула на миг в мою сторону лицо, закутанное в белый шерстяной платок, улыбнулась мне одними глазами и снова отвернулась от встречного ветра и от Эльяса.
Хорошая попалась мне в жизни жена, дай бог ей здоровья и силы до конца дней.
8
Но встречных все же было больше, чем обгоняющих.
Как раз перед этим от станции отошел поезд, оставив там часть людей. Некоторых из них мы и встретили на дороге.
В одном из автомобилей я увидел знакомое лицо. Я сразу узнал большой красный рот и глаза с длинными ресницами и радостно замахал рукой, потому что это была Хильда Куркимяки. Я замахал ей рукой и крикнул:
– Terve,[16]16
Здорово.
[Закрыть] нейти! Terve!
Но она только слегка кивнула мне головой. Было ясно, что она меня не узнала. Я так и сказал Пиккунену, когда мы опять побежали за своими санями, чтобы согреться немного. Но он ничего не ответил, только усмехнулся ехидно, продолжая прятать позеленевшее от холода маленькое круглое лицо в короткий воротник тужурки.
Я пожалел, что не поехал вторым. Тогда бы он не заметил, как я замахал ей рукой, и мне не потребовалось бы ничего объяснять ему, а у него на лице не появилось бы этой ехидной усмешки.
Но зато мне повезло в другом, оттого что я ехал впереди. Недалеко от станции я увидел на дороге пустой разбитый ящик, сколоченный из гладко оструганных досок и выложенный внутри блестящей жестью, и подобрал его. На всякий случай я крикнул людям, которые что-то делали у большого сарая:
– Это не ваш ящик?
Но они закачали головами, и я бросил ящик себе в сани. Теперь это был мой ящик. Если бы я подобрал его где-нибудь на земле господина Куркимяки, то я бы отвез его к нему на двор. Но большая дорога не была его землей, хотя и пересекала ее. По большой дороге ходили и ездили разные люди, и все, что находилось на ней, не принадлежало ему. Поэтому и ящик я не обязан был отдавать ему. Наверно, его обронила большая машина, ехавшая в город или из города.
Многое можно сделать из этого ящика и из этой красивой жести. Из них можно сделать хорошую блестящую полку и прибить ее к стене нашей комнаты у плиты. На нижнюю часть полки жести не хватит, но жена сумеет закрыть дерево, чтобы его не было видно, узорными полосками из бумаги. И тогда полка будет сверху выглядеть, как металлическая. Гвозди, которые торчат в ящике, тоже мои. Их вполне хватит на то, чтобы сколотить полку, и даже останется.
Когда-то я перевез на двор господина Куркимяки с отдаленного поля старый сарай, сколоченный из досок, в которых тоже оставались гвозди. Вот те гвозди уже были не мои. Я их все выдергал клещами, выпрямил у Пааво на наковальне и отдал старой госпоже Куркимяки, у которой были все ключи от кладовых и амбаров.
А те гвозди, которые оказались в досках, купленных мною для бани, были, конечно, мои. Я имел на них вполне законное право, потому что расплачивался за них своим трудом.
Как-то раз я нашел у опушки леса гаечный ключ. Его я отнес в кладовую Куркимяки, потому что это произошло на его земле. А в другой раз я нашел уздечку на большой дороге. Ее я не понес хозяину. Я только расспросил соседей, не потеряли ли они уздечки, а потом отнес ее домой. Я тогда в шутку сказал Эльзе:
– Вот и уздечка у нас теперь есть. Осталось только лошадь купить, и тогда все.
И она в ответ улыбнулась, но только как-то невесело.
О лошади, конечно, смешно было говорить. Какая там лошадь! Мы на корову откладывали марку за маркой. Ради экономии я перестал выписывать журнал «Suomen Kuvalehti»[17]17
«Финский иллюстрированный журнал».
[Закрыть] и газету «Kansan tyӧ»[18]18
«Народный труд».
[Закрыть], перестал курить, хотя меня изрядно тянуло к табачному дыму, но и это мало помогало нам в сколачивании денег на корову. Все шло на пищу и одежду.
Богатство никогда не приходит само собой. Оно накапливается очень медленно, крошка за крошкой. Нужно только уметь копить, не жалея себя.
Вот у господина Куркимяки не пропадает даром ни одна тряпка, ни один обрывок резины или кожи, ни одна жестянка. Он все собирает, сортирует и потом отправляет куда-то.
Многие его вещи совсем состарились, и другой хозяин давно бы их выбросил к чорту, а у него эти вещи жили и служили. Старая телега, на которой я возил навоз, давно сгнила и ломалась уже несколько раз, и каждый раз я говорил ему об этом. Но он отвечал одно: «Починить надо». И я скреплял ее, как умел, гвоздями и планками, и снова возил на ней навоз, пока она снова не разваливалась. Но она все-таки служила, и деньги для покупки новой телеги по-прежнему оставались в кармане хозяина.
Вот как становятся богатыми у нас в Суоми, где один камень нагромоздился на другой, разделяя между собой людей, делая твердыми и холодными их сердца, где встали между людьми топкие болота, озера и леса.
Они объединяли людей в тяжелой борьбе за свою жизнь, эти преграды, и они же ожесточали их, делая их суровыми и нелюдимыми, возводящими между собой бесчисленные заборы из толстых жердей и колючей проволоки. Вся Суоми перегорожена такими заборами.
Мы долго ехали с маленьким Пааво по лесной дороге в то морозное утро. Ветки елей и сосен очень низко пригнулись к ней под тяжестью снега, и высокая дуга моего Яттиляйнена то и дело задевала их. Но это было, пожалуй, кстати, потому что снег не успевал сыпаться на меня. Он сыпался на Рейпаса и Пааво, следовавших сразу за мной. А Пааво после каждой такой порции вскакивал с саней, отряхивался и бежал за санями. Это было очень кстати, иначе он замерз бы на санях в своей тужурке.
Снег не хрустел и не скрипел, а прямо-таки звенел и пел под нашими ногами и полозьями. И снег, который сыпался сверху, был мелкий и сухой, как пудра.
Понятно, почему русские задержались на фронте со своим наступлением. Их удержал наш финский мороз и удержал снег.
Снегу было очень много в ту страшную зиму. Он придавил к земле все и возвел на ее поверхности толстые, рыхлые преграды. Когда дорога подходила к спуску в лощину, то мы видели сверху целое снежное море, захлестнувшее белыми волнами раскинувшиеся внизу леса.
Попробуй, пройди это море, в котором огромные деревья вместе с мохнатыми ветками потонули чуть ли не до середины стволов. Пока ты барахтаешься в этом море, тебя трижды просверлит насквозь финский пулемет или автомат.
А когда мы поднимались на бугор, то смотрели на такие же деревья снизу вверх, видя их целиком над своей головой от корней до вершины, особенно в тех местах, где дорога была врезана в каменистый верх бугра и где деревья столпились над заиндевевшими каменными отвесами срезов бугра.
Они столпились наверху, тяжелые и сонные от снега и мороза, словно седые великаны из детской сказки. Попробуй, преодолей этих великанов. Пока ты доберешься до них по отвесу камня, оживут сугробы у подножий толстых стволов. Из них вылетят сотни пуль и отбросят тебя назад с пробитой головой.
Конечно, это выглядит сказкой, когда замирает вся жизнь на земле, погребенная под пухлыми слоями снега, сверкающими розовым блеском на утреннем солнце. Но в ту зиму это было страшной сказкой, и не детям ее читать.
И кони наши с крупными сосульками у ноздрей и с толстым слоем пушистого инея по всему телу были непохожи на мирных рабочих коней. Они превратились в зверей из страшной сказки. Перед моими глазами между двумя толстыми оглоблями бежало огромное белое мохнатое чудовище, извергающее из ноздрей целые облака тумана.
А ведь как было бы хорошо, если бы не пахло в воздухе кровью! Тогда и дышалось бы легче, несмотря на лютый мороз. И веселил бы глаз блеск снега на утреннем солнце, и вовсе не страшными, а смешными и уморительными казались бы лошадиные морды, обросшие мохнатым инеем.
По-разному украшает бог нашу землю и все живущее на ней в разные времена года, чтобы могли мы почувствовать ее красоту и полюбить ее. Но нам некогда даже всматриваться в нее как следует. Мы то и дело истребляем друг друга или работаем так, что трещит спина. Кому нужно это?
Может быть, мне это нужно очень и Пааво также? Если мы с ним не будем воевать с другими народами, то потеряем все свои громадные богатства? Да. Так получается, хе-хе. Нам это нужно: мне и Пааво.
А вот для Вилхо все равно. У него нет таких богатств, как у нас. Он получает всего лишь восемь марок в час, то есть на две марки меньше, чем я получаю в день, и поэтому не видит в своей жизни ничего хорошего и не имеет желания драться ради нее с добрыми соседями.
У него все соседи живут лучше, чем народ в Суоми. Так, по его мнению, построен мир. Все народы живут, как в раю, кроме народа Суоми. «Он уж не говорит о России…»
Глупость остается глупостью, когда ее пытается выдать за умную вещь один человек. Но когда ее повторяют с самым серьезным видом очень многие, то она, пожалуй, перестает быть глупостью. Не могут же спятить с ума одновременно столько трезвых голов. Те два человека, которых арестовал Эльяс Похьянпяя, вовсе не выглядели глупыми и считались вполне степенными и рассудительными людьми.
Однако что-то уж очень редко и коротко писал мне мой братец. Он так и пояснил в письме: «Нарочно пишу мало, чтобы быстрее закончить письмо. Если продолжу, то начну ругаться. Ничего больше не идет на ум, кроме бранных слов. Так противно все…»
Интересно, что ему было там так противно. Ведь он был теперь ближе всех к своей любезной России. Радоваться ему следовало, а не браниться от такого соседства. Россия надвигалась на нас тяжелой, страшной тучей с юга, и он мог спокойно ждать ее и плясать от радости.
Совсем другое дело мы с Пааво. Нам было не до пляски и не до России. И свет божий сиял не для нас.
Херра Куркимяки торопил нас. Он и раньше не потворствовал медлительности в работе, а теперь напоминал нам о войне каждый день. И мы работали, как полагается работать во время войны, когда страна в опасности.
Нанять сезонных работников во время войны херра Куркимяки не мог, потому что их не было. А заготовка и подвозка леса для постройки мельницы и молокозавода должны были идти своим порядком, без промедления, раз уж это было задумано.
И вот мы с Пааво старались изо всех сил, чтобы не было замедления в работе, чтобы материал для постройки поступал непрерывно, чтобы все шло так, как будто сезонные работники вовсе не уходили на войну из рабочего домика усадьбы Куркимяки и продолжали работать вместе с нами; старались мы, чтобы кончилась поскорей эта война нашей победой и чтобы вернуться нам опять к мирной жизни, где ждет нас… где ждет нас… Что ждет нас в мирной жизни? Да господи, это же ясно как день. Конечно, не собственный клочок земли с лугами, пашнями и лесом. Ждет нас в мирной жизни все та же работа на чужой земле, с тем же напряжением изо дня в день, из года в год, всю нашу жизнь…
Невеселые мысли крутятся почему-то в голове, когда едешь, звеня полозьями по длинной белой дороге, среди белых застывших великанов на таком сильном морозе, от которого захватывает дыхание и стынут мозги в голове.








