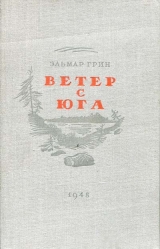
Текст книги "Ветер с юга"
Автор книги: Эльмар Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
31
И словно нарочно на следующий день я встретил, наконец, Эльяса Похьянпяя. Я шел на конюшню, когда его грузовая машина подъехала к коровнику, и он окликнул меня, замахав шляпой.
Я уже успел в это утро привезти на место новой стройки шесть возов глины. Ее требовалось замесить и утрамбовать на тех местах, где предполагался цементный пол. Но на шестом возу мой Мусталайнен вдруг захромал. Я сказал об этом Пааво, и мы решили проверить ноги у коня. Я очень беспокоился: неужели растяжение жилы? Пааво потихоньку поехал к конюшне, а я поправил лопатой кучу глины и пошел вслед за ним. И в это время Эльяс увидал меня издали с машины и закричал.
Я не ответил ему и пошел дальше. Просто у меня рука не поднялась, чтобы махнуть ему в ответ. Я уже устал изрядно, потому что накопать одному человеку шесть возов глины и потом свалить ее с воза, а в промежутки между этим успеть три раза починить телегу, которая трещит и разваливается, и притом еще не завтракать, – это не шутка. Это впору сытому, здоровому человеку, а я был еще голоден и слаб и оттого не особенно приветлив с людьми. Поэтому, наверно, я и не ответил черноусому Эльясу Похьянпяя.
Но когда я оглянулся возле конюшни, то увидел, что он соскочил с грузовика и торопливо идет ко мне, сверкая своими белыми зубами и золотым зубом среди них.
Не знаю, правду ли сказал мне Пааво Пиккунен о том, что золота у него теперь не на один зуб хватит, а на полный рот. Все дело, оказывается, в том, чтобы уметь пользоваться случаем, когда в твои руки попадают нарушители воинского долга и те, кто укрывает их. Эльяс будто бы умел пользоваться таким случаем, хотя я так и не понял, что это значит.
Он шел прямо ко мне, но я не стал его ждать, не знаю почему, и вошел в конюшню. Там Пааво уже успел осмотреть ногу у коня. Когда я вошел; он отпустил ее и присел в сторонке, чтобы выкурить свою трубочку. Я спросил его:
– Ну что, осмотрел?
Но в это время в конюшню вошел Эльяс, и я не услышал ответа Пааво. Сразу стало шумно в конюшне, как будто туда набралось по крайней мере человек десять буйных и крикливых. Но кричал только один Эльяс Похьянпяя.
– Здорово, Эйнари! Старый друг! Сколько лет, сколько зим, перкеле! А ты похудел и постарел изрядно. Сдавать начинаешь? Напрасно, напрасно. Рано еще сдавать. Рано. Бери пример с нас, перкеле! Сквозь все бури прошли, а ничего, не сдаемся! Да ведь и Эльза у тебя меньше изменилась, чем ты. Она еще совсем молодцом выглядит. Только гордая очень. Недотрога. Не к лицу это ей. Надо помнить, кто мы и кто она. Так и скажи ей. А тебе мой привет.
И он протянул мне руку. Но я в это время взял в руки хомут, который Пааво поставил у стены, когда распрягал Мусталайнена. Я взял в руки хомут, чтобы повесить его на длинный деревянный клин, вбитый в стену. Так что мне трудно было заметить сразу его протянутую руку.
И, поднимая кверху хомут, я опять увидел, как задрались рукава моей куртки и обнажились мои сухие, жилистые руки. Тогда я снова вспомнил свой невеселый вчерашний воскресный день и еще что-то другое…
Вожжи и чересседельник я тоже повесил на тот же клин и только после этого заметил и пожал руку Эльяса, которую он мне протягивал. Эльяс говорил без умолку, и от его громкого голоса конюшня стала похожа на базар. Так рад он был встрече со мной.
– А характер у тебя все тот же. Тяжелый характер, перкеле! Не переделала тебя война. А следовало переделать. С таким характером далеко не уедешь. Пропадешь, перкеле. Ты бери пример с нас, и тогда у тебя все пойдет хорошо. Курить будешь?
Он протянул мне раскрытую пачку «Klubi № 7», которая еще в мирное время стоила четыре марки. Но я не стал курить его папиросы и ждал, чтобы он сам закурил и замолчал на минутку, а мне дал бы спросить у Пааво насчет ноги Мусталайнена. Но он тоже не закурил, а продолжал орать, трогая меня за плечо.
– Ты бери пример с нас и не теряй дружбы с нами, и тогда мы тебя всегда выручим. Ведь и мы побывали на войне, перкеле, а посмотри на нас! Разве мы пострадали от нее? Живы и здоровы да еще награду имеем, перкеле! Только на переднем крае не пришлось мне быть. Но я все время туда просился. Я знал, что если бы я туда попал, то рюссям пришлось бы плохо. Я клал бы их в землю пачками, потому что если я возьмусь, то возьмусь, перкеле! Уж меня-то люди узнали, будь спокоен. Но я не попал на передний край. Я был нужен в других местах. Ну что ж. Я подчинился. Таково желание начальства. А начальству всегда надо подчиняться, не так ли? Ведь ты солдат и сам знаешь. Правильно я говорю?
И он еще сильнее стал толкать меня в бок и в плечо.
– Ты гордиться должен тем, что побывал на фронте, перкеле! И я тебе завидую. Понимаешь ты это? Даже я тебе завидую! Ты своими глазами видел, как финские герои били русских, перкеле! Ты видел силу наших солдат и сам давал почувствовать этим рюссям, что такое финн. Верно ведь?
Он говорил и спрашивал меня, заглядывая мне в глаза, а я не знал, что отвечать, и только смотрел молча на то, как шевелятся под черными усами его красные губы и блестит его золотой зуб.
– И ты сам, наверно, тоже переколотил их немало. Ведь я тебя знаю, перкеле! – продолжал он. – Такие люди на войне настоящие чудеса творят! Эх, жаль, что меня там не было! Я бы им показал, перкеле! За одно то, что от Пиетари пришлось отказаться, я бы давил их, как червей! Никогда не прощу им дом на Невской улице. Столько планов было у нас с отцом, а они все нарушили, перкеле. На всю жизнь это запомню и буду только ждать случая, чтобы снова все повторилось. Стереть с лица земли нужно это проклятое племя! От них все зло на свете, перкеле! Чем больше их убьешь, тем больше пользы другим. И ты хорошо делал, если не давал им спуску. Сколько ты их отправил на тот свет?
– Ни одного.
– Как? Врешь! Не может этого быть! Никогда не поверю, перкеле! Ты просто не хочешь говорить. Хочешь, чтобы тебя упрашивали. Ты такой же заносчивый, как твой покойный Вилхо. А ты не будь таким. Брось ломаться и скажи. Неужели тебе так трудно сказать? Сколько ты рюссей убил?
Я опять посмотрел на Пааво. Он уже докуривал трубочку, сидя у стены. Надо было узнать у него, что с лошадью, и потом идти скорей завтракать, чтобы не пропадало даром время. У меня живот совсем втянулся и даже дрожал, – так сильно я хотел есть после шести возов глины. Но Эльяс, кажется, не собирался кончать так скоро свой громкий разговор. Он продолжал толкать меня рукой в бок и в плечо и кричать:
– Ну, сколько ты убил рюссей? Я знаю, что не меньше десятка. Так уж богом положено, чтобы один финн убил десять рюссей, а ты и подавно мог убить. Я и то собирался уничтожить их не меньше двадцати. Но я не был там. Меня не пустили, перкеле. А ты был и дрался. Ведь пришлось тебе драться? Да?
– Пришлось…
– Ну, вот видишь! Вот видишь! А говоришь… Я так и знал, перкеле!..
Тут он еще сильнее толкнул меня в плечо и начал орать еще громче:
– Значит, все-таки дрался! Ай да Эйнари! Врукопашную или как?
– Врукопашную.
– Ай да Эйнари! Вот это здорово, перкеле! Ну и каша же там получилась из них, я представляю. Ведь ты их, наверное, давил, как клопов! Эх, меня там не было… Мы бы с тобой… Я бы их зубами грыз, перкеле! И сколько же ты их уложил?
– Нисколько. Ну ладно. Пусти с дороги. Я еще не завтракал.
– Как нисколько? Ведь ты же только что сказал, что дрался с ними врукопашную.
– Это был только один человек.
– Оди-ин? Ты дрался только с одним?
– Да. Ну, пусти.
– Только с одним? Ты бил только одного?
– Не я его, а он меня бил.
– Ка-ак! Он? Тебя?
– Да. Он меня.
– Рюсся. Тебя? Рюсся бил тебя? Финна? Один?
– Да, да.
– Да как же, перкеле…
– А вот так. Вот так. Он схватил меня сначала вот так за грудь. Потом притиснул к стене. А потом начал совать мне кулаком прямо в морду вот так, вот так!
И я показал Эльясу Похьянпяя все, о чем говорил. Он сильно вырывался, тараща на меня темно-коричневые глаза, но я не выпускал его и совал кулаком прямо ему в лицо, прямо в рот, где между белыми зубами сверкал один золотой. Иногда он дергал головой, и тогда кулак мой ударялся о кирпичную стену. Но зато следующий удар приходился по лицу еще крепче, и скоро оно покрылось ссадинами, а изо рта и носа потекла кровь, пачкая маленькие черные усики, подстриженные, как у немецкого фюрера.
Тогда я выпустил его. Но он вдруг быстро выхватил свой пуукко. Однако я поймал его за руку и притиснул своей спиной к стене. И хотя он кусал и царапал мне спину, но я не выпустил его, пока не вывернул из его пальцев пуукко.
После этого я снова отпустил Эльяса, но он хитрым приемом бокса очень больно ударил меня кулаком в челюсть. Тогда я схватил его за грудь, снова притиснул к стене и бил до тех пор, пока он не повалился без сознания.
Но он недолго лежал и скоро поднялся. Вытащив из кармана носовой платок и зеркальце, он прислонился спиной к стене и долго вытирал лицо, а потом вышел вон.
К тому времени Пааво уже выкурил и даже выколотил о стенку свою трубочку, и когда я обернулся к нему, он сказал, глядя внимательно на больную ногу Мусталайнена:
– Я уже посмотрел. Это не растяжение. Треснула подкова, и один гвоздь задевает живое место.
Я тяжело дышал, и руки у меня дрожали. Господи, еще бы им было не дрожать! Они не привыкли у меня бить человека. Они привыкли работать, только работать, делать что-нибудь, пусть очень трудное, но делать спокойно, размеренно, а не двигаться с такой глупой быстротой. Поэтому они так дрожали с непривычки. И в животе тоже все ходило ходуном.
Но Пааво не смотрел на меня и не видел моих рук. Он был очень озабочен ногой лошади и смотрел только на нее. Даже со мной он говорил, не оглядываясь на меня.
– Придется тебе Яттиляйнена взять, пока я этого перекую.
Я сказал:
– Ладно. Только схожу позавтракаю.
Он ответил:
– Иди, иди, конечно.
А сам все продолжал разглядывать ногу лошади и даже потрогал ее слегка. Но не он ли сказал, что уже посмотрел ее и знает, в чем дело?
Я пошел завтракать. Ладони свои я держал так, как будто только что запачкал их обо что-то грязное, а глазами искал лужи, чтобы их помыть.
И шлепая сапогами по осенней сырости, я подумал о том, какой чудак этот маленький Пааво. Вот ведь чудак какой!..
32
А дня через три он меня опять удивил. Он подошел ко мне поближе, оглянулся по сторонам и сказал тихонько:
– Вилхо твой приехал.
Я промолчал в ответ. Что скажешь на такую новость? Нечего сказать. А он добавил:
– Собирается прийти к тебе в воскресенье.
Я подумал немного и спросил:
– Это он так велел мне передать?
– Нет. Просто в разговоре сказал: «Зайду к нему в воскресенье».
Я кивнул ему и погнал лошадь в поле.
День был сухой, и в поле шла копка картофеля. Копали все: две доярки-поденщицы, Эльза, нейти Хильда, и даже старая широкоскулая роува Куркимяки пришла сюда поразмять свое тяжелое мясо.
Я начал пропахивать борозды, чтобы извлечь картофельные клубни. Когда я поравнялся с Хильдой, она вдруг окликнула меня:
– Эйнари!
Я остановил лошадь. Хильда подошла ко мне и спросила очень тихо, почти шепотом:
– Правда, что Вилхо приехал?
Я не знал, что ответить. Бывают иногда такие вопросы, на которые никак не придумаешь, что ответить. Я стоял и смотрел, как дурак, на ее широкие серые штаны, завязанные у щиколоток, на теплый белый свитер и яркий шелковый платок на голове, стягивающий в один узел ее густые темные волосы. Она была все такая же тоненькая, только грудь ее выросла и налилась, распирая спереди свитер, да губы стали как будто чуть потолще, хотя и не были подкрашены на этот раз. Но ресницы были все те же, темные и длинные, а из-под них очень серьезно смотрели на меня большие глаза. Я пожал плечами и сам спросил ее:
– А кто вам это сказал?
– Эльяс.
– Наверно приехал, если так.
Она спросила:
– А он к вам не собирается прийти в воскресенье?
Я не успел сразу придумать, что ей ответить на такой вопрос, но первым долгом покачал головой, а потом сказал:
– Нет, нет, нет. Не собирается.
– Жаль. А я думала…
– Нет, нет.
Она опять склонилась над бороздой, быстро действуя копалкой и кидая крупную и мелкую картошку в две разные корзины.
Я еще раз увидел сбоку ее грудь, обтянутую белым свитером. Да, грудь у нее уже созрела. Не будет голодным ребенок у такой матери.
33
Вилхо пришел ко мне в конце воскресного дня. Это был ясный и хороший для осени день, и теплый ветер дул с юга.
Вилхо так быстро поднялся на бугор, что я даже не успел придумать, что сказать ему, и первое время мы просто так постояли друг против друга. Наконец, я сказал:
– Вот как. И ты, значит, вернулся.
Он похудел немного. Совсем немного. Но глаза и губы по-прежнему слегка улыбались. Он ответил: «А как же!» и сжал ладонями мои плечи. Я тоже крепко сдавил ему плечи и несколько раз тряхнул его. Это был мой брат, живой и здоровый. Он был у меня один, и бог сохранил его для меня.
Я потащил его в дом и шепнул Эльзе:
– Все поставишь на стол. Все, что у нас есть. Понимаешь? Ничего не жалей.
В комнате мы зажгли лампу и сели на скамейку у стены, пока Эльза возилась у плиты. Разговор у нас не клеился. Эльза накормила детей и уложила их спать за занавеской в углу, позади стола, а мы все молчали. Он спросил:
– Письмо мое дошло до тебя?
Я закивал головой:
– Дошло, дошло. Как же.
Мы помолчали некоторое время.
Сердце у меня слегка щемило, как будто я не особенно радовался, что пришел он веселым после этой страшной войны.
Я сказал ему, чтобы не молчать и не думать о глупостях:
– Долго ты пропадал.
Он ответил:
– Да. Но нас еще тут свои задержали, а то бы я раньше вернулся. Специальная комиссия проверяла, не сделались ли мы большевистскими агентами. Я бы и сейчас, наверно, там сидел, если бы не догадался сказать, что я коммунист. И тогда меня сразу отпустили.
Я удивился.
– Да что ты!
– Да. Но сначала спросили: «А какие идеи вы намерены проповедовать?» Я ответил им: «Странный вопрос. Коммунистические, конечно». Тогда они переглянулись, подумали немного и сказали: «Всего хорошего, господин Питкяниеми» и открыли предо мной двери. Но я говорю им: «Вы не торопитесь меня отпускать. Может быть, я человек опасный. Имейте в виду, что я с первого же дня буду требовать суда над теми, кто погнал нас на эту бойню». А они отвечают: «Очень хорошо». С тем я и ушел.
Я таращил на Вилхо глаза и не знал, верить ему или нет. Чорт знает что творилось теперь в Суоми. А он видел мое удивление, и веселые искорки все чаще вспыхивали в его глазах.
– А ты, кажется, мало изменился на своем бугре.
Не знаю, на что он намекал. И не ответив на его вопрос, я спросил:
– А ты на самом деле теперь коммунист?
Он улыбнулся.
– Ну что ты. Просто зло меня тогда взяло, а они поверили.
– А кого это ты судить собираешься?
– Как кого? Наших бывших правителей.
– Правителей?
– Ну да. А кому же иначе держать ответ перед финскими матерями и женами за убитых мужей и сыновей, за поругание нашей страны разбойниками-немцами?
Я промолчал. О таких вещах я совсем еще не думал. Да и где я мог думать об этом, бог ты мой! Слишком бедна была моя жизнь, заслоненная камнем от тепла и света, чтобы я мог думать о чем-нибудь, кроме своего бугра.
В комнате все сильнее и сильнее начинало пахнуть жареным мясом и печеньем. Щеки Эльзы пылали от жара плиты и духовки, и Вилхо словно призадумался вдруг над чем-то, остановив на Эльзе свой взгляд. Потом спросил, не глядя на меня:
– А тебя обо мне никто не расспрашивал?
Я удивился.
– Кто же тут может о тебе расспрашивать?
– Так… Мало ли кто. Из знакомых кто-нибудь…
– Нет, как будто… Нет…
Эльза ставила что-то на стол и звенела посудой. Потом она вышла в сени и появилась оттуда в новом темно-красном платье.
Заправив рукава чуть повыше своих круглых, с ямочками, локтей, она подвязала маленький белый передник, чтобы не запачкать платья, и сказала мне:
– Ну что же ты?
Стол уже был накрыт белой скатертью, на тарелках лежали кусочки холодной свинины и сыра. В одном блюде под крышкой была тушеная картошка с мясом, а на сковородке, поставленной на кусок картона, шипела жареная рыба.
Я взглянул на Эльзу. Она указала мне глазами на угол, где стояли пять бутылок с вином – весь ее запас.
Я спросил:
– Уже все готово?
Она ответила:
– А ты разве не видишь?
Я опять посмотрел на стол, на плиту и на всю комнату и только теперь заметил, как празднично все выглядело кругом. Когда это она успела? Вот что значит женщина в доме. На окнах были свежие, чистые занавески. На белой скатерти стола стоял еще букет каких-то осенних цветов, сорванных с крохотной клумбочки Марты.
От плиты несло теплом. Кастрюлька на плите, в которой кипел молочный суп, была вычищена и сверкала, как серебряная. Кофейник – тоже. На полочке у плиты посуда также была начищена и сияла разноцветными огнями. И сама Эльза тоже сияла, как солнце, украшая собой все вокруг. Даже Вилхо заметил это и сказал:
– Счастливый ты, Эйнари!
И он призадумался немного. Я достал из угла бутылку, раскупорил ее и налил три рюмки. Эльза тоже присела на минутку, и мы подняли наши рюмки над столом. Вилхо сказал:
– За Эльзу!
Эльза рассмеялась.
– Нет, я за это не пью. – Она лукаво взглянула на Вилхо и сказала: – Желаю, чтобы каждый в жизни нашел свою Эльзу.
Мы выпили, и Эльза встала, чтобы посмотреть печенье, которое пеклось у нее в духовке. А я опять наполнил рюмки. Вилхо выпил, поймал на вилку кусок жареной рыбы и сказал:
– Сначала нужно найти место, где самому приклонить голову, а потом уже Эльзу. – И заметив, что я разинул рот, он пояснил: – Не работаю больше у Похьянпяя.
– Почему?
Он пожал плечами.
– Так… не выдержал.
– А как же теперь?
– Ничего. Были бы руки, а Похьянпяя всегда найдется.
Я налил рюмку. А Эльза добавляла нам то одно, то другое. После пятой рюмки Вилхо сказал:
– Противно мне стало видеть его толстую гладкую рожу. Я так и сказал ему. Я сказал, что могу когда-нибудь нечаянно ударить по ней кулаком. Он спросил: «Почему?» Я ответил, что ненавижу всех, кто разжирел за войну, и что лучше мне взять расчет. Он согласился, что это действительно лучше, и дал расчет.
Эльза положила нам на тарелки жареного мяса с картошкой, а я снова наполнил рюмки и достал третью бутылку. Я пил ровно столько же, сколько Вилхо, и в голове у меня уже немного шумело. Но я слушал его очень внимательно и старался делать вид, что все понимаю, хотя не мог сообразить, как можно уйти от хозяина только из-за его противной рожи. Мало ли хозяев с противными рожами.
Нет, напрасно он плел насчет противной рожи. Меня не перехитришь. Я все насквозь вижу, хоть и молчу так много. Загорелые щеки Вилхо еще более потемнели от румянца, глаза заблестели, только на этот раз уже не веселыми искорками. А в голове у меня шумело все сильнее, и эти белые занавески, и подушки на нашей кровати, и скатерть, и посуда, и Эльза, которая то появлялась у стола в своем огненном платье и белом переднике, то опять пропадала, – все это пестрело, прыгало перед моими глазами, и мне было весело от этого. Хотелось даже немного помахать руками и посмеяться вслух, но он опять что-то говорил, и я стал кивать и прислушиваться.
– Надоело мне их шушуканье, и я решил покончить с этим. Чуть что – сейчас же война на языке и смех дурацкий. И вот я услыхал, как Эльяс говорил Петтунену: «Ты молод еще и воевать не умеешь, перкеле. Ты поучись у тех, кто опытнее тебя в этом деле. Есть такие ловкачи, которые перебегут к рюссям в самом начале войны, отсидятся там до конца, а потом кричат: «И я воевал!» Вот у таких вояк поучись, перкеле». И он заржал, сказав это. И Петтунен и Аате тоже заржали, косясь на меня. Тогда я подошел к ним и сказал спокойно: «Что мешает мне набить вам всем сейчас морды? Не хочется только руки пачкать о такую грязь. А ты, Эльяс, благодари бога, что уже наставил тебе кто-то синяков и зуб твой золотой вышиб. Нашему правительству переданы бумаги, в которых ясно сказано, как я попал в плен, и с меня довольно этого». На это Аате возразил: «Ну, если русским понадобилось скрыть подлинные обстоятельства твоего пленения, так уж они сумели это сделать». А Петтунен добавил: «Может быть, они из тебя своего пропагандиста сделали, так почему бы им не скрыть?» И Эльяс опять заржал и заорал: «И верно, перкеле!» Я повернулся и пошел от них прочь. К чорту! Не могу я там больше оставаться. У меня каждый раз руки чешутся, когда они затевают такие разговоры. К чорту! Прости, Эльза. Налей мне еще, Эйнари. И сам пей. Эльза! Что ты все ходишь? Присядь. У тебя очень вкусное печенье, Эльза. Ты что кладешь в него?
Я все подливал ему, и он пил, но не делался веселее, как я. Наоборот, после каждой рюмки его голубые глаза становились все тоскливее и его крутой, широкий лоб морщился, а губы слегка выпячивались, как у обиженного ребенка. Да, в нем все еще оставалось какое-то мальчишество, несмотря на все пережитые невзгоды.
А у меня было легко на сердце от выпитого вина. Мне хотелось петь, кричать и махать руками. И брата своего я хотел видеть таким же веселым. Поэтому я сказал ему:
– Перестань грустить, Вилхо, из-за дураков. Что они понимают? Что они видели? Ничего, кроме толстой задницы своего хозяина. Выпей-ка лучше еще рюмку.
Он выпил еще рюмку, но все-таки не повеселел, еще больше нахмурился, глядя в угол комнаты, и совсем стал похож на обиженного мальчика.
– Хотел бы я им показать, как я к русским перебежал. Хотел бы я ткнуть их туда мордами, чтобы посмотрели, как это было. И хотел бы я после этого увидеть, что от них осталось бы, какие кусочки от них собрать для посылки домой, перкеле… Ты извини, Эльза. У меня тоже немного шумит в голове, и я начинаю, кажется, браниться при дамах? Это Эйнари виноват. Налей мне еще, Эйнари. Ты не сердишься, Эльза? Это хорошо. Выпьем вместе. Ну хоть глоток. Один раз можно за четыре года, а потом опять пост. To есть у меня пост. А у вас не обязательно. Нет, нет. Вы можете продолжать веселиться хоть каждый день. У вас есть чему радоваться. У вас есть дом и в доме Эльза. Это главное.
Но Эльза не считала, что это главное. Она перебила Вилхо и сказала, смеясь:
– У нас есть, кроме того, каменный бугор. Не ему ли радоваться?
А он успокоил ее:
– Это ничего. Каменный бугор – это ничего. Хоть он и держит человека, но этому придет когда-нибудь конец. Недолго вам еще топтаться на камне. Повеяло в Суоми другим ветром…
Я скорее налил ему еще рюмку и поставил на стол последнюю бутылку «Imatran kuohu».[38]38
«Пена Иматры» (название вина).
[Закрыть]
Мне показалось, что он хочет сказать что-то как раз такое, что мне очень хотелось от него услышать. Я сам еще не знал, каких именно слов ждал от него. Откуда мне знать, боже мой, живя на этом бугре? Но он должен был что-то мне разъяснить, подтвердить какую-то мысль. И я ждал, не отрывая от него глаз, и уже не хотел больше смеяться вслух и размахивать руками. Тоска снова вползла в мое сердце. Я еще раз наполнил наши рюмки, жадно слушая его сердитые речи. А он говорил:
– Смешно теперь вспоминать, как орал тогда этот красавчик обер-лейтенант: «Ребята! Только один нажим остался! Один хороший прорыв – и мы закроем русским все дороги к Ладоге и замкнем кольцо. Сегодня мы попробуем. Это будет маленькая местная проба, но она покажет, что мы сможем потом решить и большую задачу – закрыть большевикам дорогу через Ладогу. И тогда Пиетари будет наш, ребята!» Бедный раздушенный хлыщ, немецкий подголосок! Где он теперь? В каком котле варят черти те куски мяса, которые от него остались? Он получил то, что хотел. Но чем виновата рота? Эх, Эйнари! Какие хорошие парни там были! Тойво Коскинен, Калле Ахола, Ялмари Кивимяки, Юхо Пелтонен… Все это простой народ, который не хотел войны. А их бросили на «маленькую местную пробу». Но мы забыли, что имеем дело с великаном, которого еще никто никогда не свалил. Мы уже решили, что опрокинули его, когда ударили по нему исподтишка, собрав все свои силенки. А он и не думал падать. Он только сделал шаг назад, чтобы собраться с силами. А мы не подумали об этом, когда затеяли свою «пробу». Я не знаю, как было дело в других ротах нашего батальона, который двинулся на эту «пробу», но про свою роту я знаю хорошо. Она недалеко ушла. Русские обо всем догадались с самого начала и приготовились. Они дождались, когда мы вылезли вперед, и только тогда заиграл их органчик…
Он помолчал немного, хмуря брови, и потом продолжал:
– Ты не видал таких вещей, Эйнари, и хорошо, что не видал. Не дай бог видеть. Ты бы подумал, что небо опрокинулось на землю – так она вздрогнула и потом сразу закипела из конца в конец. А когда ветер унес дым, ты бы увидел, что несколько гектаров земли стали черными, как будто плуг вспахал их вместе с весенним снегом за одну-две секунды. И ты напрасно искал бы, куда девалась рота среди этих вспаханных черных гектаров. Ее не было больше. Я встал из ямки, в которой случайно перед тем оказался, один, как мертвец из могилы, и мысли улетели из моей головы к чорту. Ко мне бежали русские, а я все стоял, потому что в голове у меня был черный туман. Где же моя рота, перкеле? Где Тойво Коскинен, Калле Ахола… где они? Подбежали русские. Они вырвали у меня из рук автомат, отобрали гранаты и пуукко, а потом махнули рукой, чтобы я шел. Но тут я вспомнил, что я финн, а они русские, и что мне приказано их бить и что если нет у меня автомата и пуукко, то есть хорошие кулаки. И я ударил одного из них в подбородок так, что он покатился на изрытую землю, но другой стукнул меня прикладом по голове, и тогда я тоже присел на пятки. Первый из них вскочил и ткнул мне в грудь дулом автомата. Это был мой конец. По сверканию его глаз я понял, что все пули из диска сейчас перейдут в мою грудь. Но другой толкнул этот автомат своим прикладом, и пули просвистели возле моей щеки. Они покричали немного друг на друга, но скоро утихли, и первый из них туго, со злостью стянул мне сзади руки обрывком проволоки, который подобрал тут же, и потом мотнул головой, чтобы я шел за ним. А я еще раз посмотрел вокруг на опустевшую черную землю, и вдруг чернота прояснилась в моей голове, и я понял, наконец, отчетливо все, что произошло. Тогда я заплакал. Я не мог удержаться. Слишком страшно это все было. Такие хорошие ребята… Все они хотели жить, все они имели полное право жить, и вот кто-то послал их на «пробу»… Проволока давила мне руки, но я ее не чувствовал. Всю дорогу я с трудом передвигал ноги, спотыкался и плакал. Я не мог удержаться, – так это было страшно…
Вилхо взял налитую рюмку, опрокинул ее в рот и поискал по столу глазами, чем бы закусить, но ничего не взял. Мне тоже было невесело от его слов, но он был мой гость и нельзя было давать ему грустить. Ладно. Не надо мне от него никаких ответов на мои мысли. Во всем разберусь я сам, если надо. Пусть только не грустит в моем доме мой брат. Пусть что угодно делает, хоть меня ругает, хоть смеется надо мной опять, но только не грустит.
Я тронул его за плечо и сказал:
– Ладно, Вилхо. Брось думать об этом. К чорту! Прошло это все. Плюнь и улыбнись. Или расскажи хоть какой-нибудь анекдот, как тогда, помнишь? Я не буду сердиться, если даже меня зацепишь, ей-богу. Эльза! Налей ему еще кофе.
Вилхо улыбнулся наконец, глядя на нас с Эльзой, а потом сказал:
– Я тебе сказку про финна расскажу, хочешь?
– Ладно. Сказку так сказку. Будем слушать сказку.
И я тряхнул головой, чтобы разогнать туман перед глазами и чтобы выглядеть бодрым и внимательным. Сказку так сказку. Давай сказку.
– Жили были два соседа. Один, большой, веселый и добродушный, подходил каждый день к другому, угрюмому и молчаливому, и все кивал ему приветливо головой и протягивал руку. А тот молчал и смотрел исподлобья. Но сосед не обижался и утром опять приветливо улыбался и протягивал руку, и снова тот даже пальцем не шевелил. Но добродушный сосед не обижался и на следующий день снова протягивал руку и снова без толку. В конце концов его терпение лопнуло. У кого оно не лопнет, если это год тянется. И вот он рассердился, наконец, и стукнул своего соседа палкой по голове. Стукнул и сам удивился. Треснуло что-то у соседа и развалилось. Но, оказывается, это не череп его треснул, а оболочка твердая, ледяная, которая покрывала его всего с головы до ног. Кто-то заморозил его и оставил. Вот почему он не мог ни головой кивнуть, ни руки подать. А когда развалилась оболочка, то вышел он из нее самым настоящим живым человеком и тоже сразу заулыбался и руку своему соседу протянул. Ну, тот, конечно, с радостью ее пожал. И, оказывается, мало чем отличались они друг от друга. И рослые были оба, и добродушные, и курносые, и светловолосые, как два родные брата, и совсем не видели они причины, почему бы им руки друг другу не подать. Хорошо, что сосед догадался его стукнуть…
Я сидел и молчал, положив свои руки на стол и слегка подавшись вперед, чтобы лучше слышать. Тумана уже не было перед моими глазами, которые широко раскрылись, глядя прямо в рот Вилхо, словно я уже услышал от него то, чего так долго ждал. Челюсти мои сжались, и руки тоже начинали сжиматься в кулаки.
А Вилхо посмотрел на меня с улыбкой и сказал, погасив на время свои лукавые искорки в глазах:
– Жаль, что ты так мало видел на своем бугре. Сдавило тебя тут камнями со всех сторон. Даже соседа не пришлось тебе узнать поближе. А стоило узнать, Эйнари.
Я встал. Не мог я больше сидеть и слушать. Довольно я наслушался и насмотрелся. Довольно! Я встал и отодвинул скамейку. И отодвигая ее, я стукнул кулаком по столу, на котором сразу все подпрыгнуло. Потом стукнул еще. Потом стукнул обоими кулаками. Эльза крикнула:
– Эйнари! Ты что, с ума сошел!
Но я не сошел с ума. Просто нужно мне было как-то излить все то, что сдавило мне грудь. Не мог я больше сидеть и слушать. Я хотел крикнуть что-нибудь, но вспомнил, что дети в постели, и пошел во двор, а Эльза метнулась к плите, пропустив меня.
И там среди темноты голос мой покатился с бугра на все четыре стороны в черную осеннюю ночь. И потом я стал искать, что бы мне сделать такое, чтобы тяжело стало моим рукам, и пошарил ими по своему бугру и наткнулся на камни, лежавшие у недостроенного сарая. Тогда я стал хватать эти камни и кидать их куда попало с бугра вниз. Сорок два года я молчал. Должен был я хоть раз крикнуть что-нибудь за это время. И я кричал и кидал куда попало тяжелые камни, не помня ничего. Я слишком много выпил в ту ночь. Мы оба много выпили. Не стоило так много пить…








