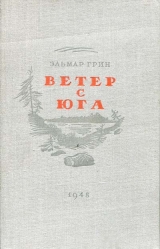
Текст книги "Ветер с юга"
Автор книги: Эльмар Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
18
Он в конце концов накаркал на свою голову. Но и я тоже напрасно погнался за большими прибылями. Бог рассудил иначе. Напрасно я так внимательно присматривался ко всему, что он делал, как он возился со сливками и молоком, как ворочал на столе гору масла, забивая его колотушкой в мокрую деревянную форму, как раскрывал форму и завертывал получившуюся большую красивую плитку масла в мокрый пергамент, как мыл под конец горячей водой все столы и баки, и маслобойку, и пол, как таскал куски льда из ледника в заднюю холодную комнату, где стыли сливки в ванне со льдом.
Напрасно я приглядывался ко всему этому. Напрасно сам по его указанию старательно помогал ему во всем этом деле. Напрасно думал я поживиться на чужом горе. Пошел и я в солдаты.
Пошел я, пошел Эльяс, пошел шофер, пошли многие другие, думавшие отсидеться дома. Пошли потому, что война оказалась сильнее всех. Она пожирала людей лачками и требовала их еще и еще, будь проклят тот, кто ее затеял. Кто ее затеял? О, перкеле!..
Только Пааво Пиккунен пока еще оставался на месте, но он, пожалуй, был уже слишком стар и слаб для солдатской службы. И к тому же у него с каждым днем все сильнее и сильнее хрипело и сипело что-то внутри, и когда он рано утром после сна раскуривал свою трубочку, то закатывался кашлем на целых полчаса.
Когда я в последний раз зашел на конюшню, он только что откашлялся и вытер слезы и сидел у стенки, выпуская дым и слушая, как хрустит овес на зубах у лошадей.
Он покосился на меня и, наверно, понял, что я зашел попрощаться, но промолчал, как всегда. Я взял свои рукавицы и постоял немного, придумывая, что бы такое сказать ему. Я хотел сказать ему что-нибудь хорошее, потому что он стоил этого. Ведь это он, а не кто-нибудь другой, подобрал возле Лаппеенранта две русские листовки и припрятал их для меня. Полиция обшарила все вокруг, собирая их, и даже вывесила объявление, требуя уничтожать их или сдавать, если кто найдет. А он не уничтожил и не сдал, чтобы доставить радость мне. И вот я не знал, что сказать ему на прощанье.
Но пока я раздумывал, он первый заговорил со мной. Он еще раз покосился на меня и сказал, передвинув трубочку в уголок рта:
– Уходишь?
Я кивнул головой.
Он пососал немного трубку и сказал:
– Отнимаешь, значит, прибыль у хозяина?
Я не понял его и переспросил:
– Как отнимаю?
Он пояснил:
– Калле Похьянпяя выплачивал за тебя нашему Хуго все жалованье Мустонена – пятьдесят марок в день. А ты уходишь. Пропадает у него теперь прибыль – по сорок марок в день.
Я не знал, что сказать на это, и только похлопал рукавицей об рукавицу, чтобы стряхнуть с них пыль. Вот как, оказывается, дело обстояло. А я и не знал этого. Но бог с ними. Все равно я уходил теперь отсюда и не знал, вернусь ли назад. Меня это больше не касалось.
А Пааво снова заговорил:
– Вместе с Эльясом попадаешь?
– Нет.
– Значит, не сумел он тебя завербовать?
– Куда завербовать?
Он пососал трубку и потом пояснил:
– Говорят, у них там премии выплачивают каждому, кто втянет в их компанию сто́ящего человека. Я видал, как он постоянно возле тебя крутился. Значит, зря старался.
Я не знал, что на это ответить. Он выкладывал такие новости, какие мне даже в голову не приходили.
Минуты через две он опять раскрыл свой рот:
– А ты напрасно не вошел в их компанию.
– Почему?
– Мог бы избежать фронта, как Эльяс.
– Как Эльяс?
– Да. Ему предложили выбор: или фронт, или какой-то там отряд внутренней охраны по ловле дезертиров. Он выбрал этот отряд, и когда выбрал, то долго доказывал всем, что он там больше пользы принесет, чем на фронте, и что он покажет, как по-настоящему нужно бороться с дезертирами или внутренними врагами Суоми.
Пааво помолчал немного и добавил:
– Надо сказать, что он свое дело знает. Еще трех ворчунов сдал в полицию.
Я заглянул в угловой шкафчик, чтобы проверить, не осталось ли еще каких-нибудь моих вещей в конюшне. Нет, больше ничего не было, кроме этих парусиновых рукавиц. Я закрыл шкафчик и молча протянул Пааво руку. Он встал, протягивая мне навстречу свою, но ничего больше не сказал, только очень сильно стиснул мои пальцы своей маленькой широкой лапой, очень сильно.
19
И вот меня взяли на эту войну, на которой теперь уже не могли без меня обойтись. Мне сказали, что я должен защищать от русских свою землю, и я пошел ее защищать. Я не хотел, чтобы они отобрали мои четыре грядки. Они были мне нужны самому. На них я столько выращивал всякого добра, что набивал им свои амбары, погреба и подвалы доверху. Я мог бы погибнуть вместе с семьей с голоду, если бы русские отняли у меня эти грядки. Мне никак нельзя было их терять, никак. И я жалел, что не успел предупредить Эльзу о том, чтобы она увезла их в корзинке с собой, если придется отступать от русских.
Не пришлось мне заменить на молокозаводе Мустонена и Эльяса, чтобы загребать марки. Вместо этого я надел серые суконные брюки и куртку, взял в руки автомат, запел вместе с другими разудалую песню о том, как мы накостыляем шею рюссям, и зашагал по высохшей весенней дороге в южную сторону, откуда дул нам в лицо теплый ветер и светило солнце.
Не знаю, почему я им все-таки понадобился на этот раз. Или, может быть, мы на самом деле собирались еще дальше наступать, как требовали немцы? Чорт бы взял этих немцев, если так! Кто их только сюда звал! Ведь у меня никто не спросил, звать их к нам или не звать. Конечно, там, выше, знали лучше меня, зачем их позвали, но все-таки в окопы-то пошел я, а не они, если уж говорить прямо.
Теперь я знал кое-что лучше самого господина Куркимяки. Он горевал, что моему Вилхо отрубили руки и ноги и бросили его в подвал, а я знал, что – нет. И сидя в окопах, я еще раз хорошенько обдумал все это и еще раз сказал себе: «нет».
Откуда бы большевикам взять такой портрет Вилхо в солдатской кепи без кокарды, если они не имели самого Вилхо, у которого сорвали кокарду? Откуда бы им взять точную подпись Вилхо, если он сам ее не поставил? А главное – кто мог написать письмо мне, его брату, точным его почерком, если не он сам? Заставить его силой написать такое письмо, если он этого не пожелает сам, никак нельзя, потому что я знаю Вилхо. А если уж он написал, то написал правду и, значит, был действительно жив и здоров.
Так рассуждал я про себя, сидя в окопе, и даже гордился немного тем, что я так хитро во всем разобрался. Может быть, это сиденье в окопах под огнем русских помогало так проясняться мозгам – я не знаю.
Но все-таки долго, очень долго тянутся в окопах солдатские дни, и все они похожи один на другой, серые и тоскливые. А светлые пятна среди этих серых бесконечных дней – письма из дому.
Эльза писала мне обо всем. Херра Куркимяки не разорился оттого, что я ушел. Он, оказывается, не зря хвастал мне, что к сенокосу достанет рабочих. Он действительно достал их и не только к сенокосу, но и к пахоте, и к жатве, и к молотьбе, и на постройку молокозавода и мельницы, и на заготовку дров и камня. Он достал их целых пятнадцать человек, и работали они у него почти даром: только за няккилейпя[21]21
Плоский засушенный ржаной хлеб.
[Закрыть], снятое молоко и картошку, да и то за очень малое количество этих продуктов.
Херра Куркимяки был молодец и знал, как нужно воспользоваться войной, чтобы она вместо убытка приносила прибыль. Он взял из лагеря и заставил на себя работать русских военнопленных. Ей-богу, не всякий бы додумался до этого. Заставить работать на себя своих врагов! Заставить работать их даром за четыре крошечных няккилейпя, за литр снятого молока и пол-литра супа из гнилой картошки, от которой отказывались даже свиньи госпожи Куркимяки. Заставить их работать за это с утра до вечера, да так, что к вечеру они валились с ног от усталости. Ей-богу, это было здорово придумано, и ради этого стоило даже затевать войну, перкеле!..
Бог знает, чего только не передумаешь, сидя в сырых окопах долгие серые солдатские дни! Ничего нет на свете тоскливее их. Я уж не говорю про ночи, холодные черные осенние ночи с ветром и дождями, или про морозные ночи зимы. Тянутся они так долго и медленно, как будто, кроме них, на свете больше ничего и нет и не будет, а Эльза, Марта и Лаури и маленький красный домик на каменном бугре – это далекий хороший сон.
Но Эльза у меня молодчина. Она все-таки хоть напоминала мне об этом сне. Она не уставала писать обо всем, что происходило дома.
Работы было много, очень много. У хозяина прибавилось еще коров, а Кэртту ушла. Она вышла замуж за инвалида, имеющего свой клочок земли. Наконец-то она пристроила свое истосковавшееся одинокое сердце.
Лаури и Марта подросли. И Лаури все еще пытался карабкаться по отвесной стене скалы, затемнявшей дом, туда, где было так много света и солнца. Но он по-прежнему каждый раз срывался и падал вниз, на рыхлые грядки, но снова вскакивал и снова лез наверх. Такой упрямый рос из него парень.
С продуктами стало хуже. Были дни, когда на столе было только снятое молоко и картошка. Изредка перепадала рыба. Приходилось кое-что прикупать за деньги на черном рынке. Ничего не поделаешь. А обувь и одежда исчезли совсем. To есть можно было купить и одежду и обувь, но если одно только зимнее простое пальто стоило четыре тысячи марок, то какие уж тут покупки. А вместо настоящей обуви в ход пошли туфли с деревянной подошвой и с бумажным верхом.
В стране не все было спокойно. Дядя Эльзы писал ей из Кемиярви, что немцы заставили на Севере ввести какой-то налог. Оказывается, финны были в долгу перед ними за то, что они защищали нашу Суоми от большевиков. У старого карвари[22]22
Кожевник.
[Закрыть] Кауко Мурто они хотели конфисковать все кожи. Но он отказался их отдать. А когда они стали брать силой, он снял со стены охотничье ружье и пристрелил троих из них насмерть, а четвертому разбил плечо прикладом. Вот какой это был старик!
А потом дядя Эльзы писал еще о том, что приехал в отпуск Тойво Мянтюля и увидел свою невесту с немецким офицером. Наутро этого офицера нашли в канаве с перерезанным горлом, а Тойво скрылся в лесу.
И много было других случаев, когда наши ссорились и резались с немцами или из-за какой-нибудь девки из «Лотты Свярд», или по другому поводу, хотя немцы вовсе не за этим пришли в нашу страну.
Но здорово получилось у солдата-отпускника Арви Хейнола. Он зарезал в драке сразу двоих, а третьего выкинул в окно и успел скрыться.
20
Лето, осень, зима, и снова лето, и снова зима. Ровно протекала наша жизнь в окопах. Иногда только падала где-нибудь рядом русская бомба, и тогда мы ходили собирать сухожилия и кости, чтобы положить их в яму с обрывками серых солдатских мундиров. Иногда уходила через Рая-Йоки наша разведка, и тогда мы встречали и отправляли на санитарный пункт тех немногих, кому бог помог доползти обратно. Иногда русская артиллерия разрушала наши землянки, и тогда те из нас, кто оставался цел, копали темной ночью глинистую липкую землю для новой землянки, копали изо всех сил, боясь повторной стрельбы и жадно глотая разинутыми ртами холодный дождь и ветер ненастной осенней погоды или морозный воздух зимы.
Эльза не уставала напоминать мне своими письмами о том далеком хорошем сне, который мне привелось видеть когда-то в жизни и который я утерял навеки.
У господина Куркимяки дела шли все лучше и лучше. Сначала у него работало пятнадцать русских военнопленных, а потом стало работать двадцать пять. Они делали все не только в поле и в лесу, но и на стройке. А Пааво Пиккунен был над ними старший. Хотел бы я посмотреть, как он умудрялся объясняться с ними.
Сначала некоторые военнопленные хворали от тяжелой работы и плохой пищи. Тогда херра Куркимяки отправлял их обратно в лагерь и требовал взамен других. Ему давали взамен других. Потом некоторые военнопленные стали жаловаться на то, что их плохо кормят. Но их тоже херра Куркимяки заменил другими. Однако скоро их перестали ему заменять.
Русские пробили глубокую канаву сквозь каменистый грунт, чтобы соединить два ручья на земле Куркимяки в один ручей. Осталось пробить в камне еще метров пятьдесят канавы, чтобы два ручья превратились в один большой поток, который должен был крутить колесо мельницы, двигать сепаратор и маслобойку на новом молокозаводе и освещать все хозяйство Куркимяки и мое.
Но на этой работе одного русского задавило камнем, а взамен его уже не прислали никого. И когда после этого пятеро русских снова пожаловались на плохую пищу, то забрали обратно не только их, но и всех остальных, а взамен опять-таки не дали больше никого.
Наступили для господина Куркимяки плохие времена. Он ездил в лагерь, чтобы снова выпросить себе партию военнопленных, но ему сказали:
– Едва ли мы сможем удовлетворить вашу просьбу в ближайшее время. Они уверяют, что вы не только не прикармливали их своими продуктами, но даже урезывали тот паек, который мы вам отпускали на них из лагеря.
Говорят, что херра Куркимяки на это долго не мог ничего сказать и только удивленно поглядывал на всех из-под своих морщинистых занавесок. В сорок втором году он слыхал совсем другие речи от этих же самых людей и теперь подумал, наверно, что они просто шутят. Но они не шутили. Им было не до шуток. Был сорок четвертый год.
Но херра Куркимяки горевал недолго. Не дали ему русских военнопленных, ну что ж! Зато в стране было немало русских ингерманландцев и карелов. Это был как будто вольный народ. Правда, когда их снимали с богатых земель Восточной Карелии и из-под Пиетари и везли в Суоми, то не спрашивали, желают они этого или нет. Но чтобы успокоить их, им пообещали у нас землю. Иначе их было бы очень трудно оторвать от хорошей русской земли. Им пообещали дать у нас землю, а так как ее для них еще не приготовили, они работали у наших крестьян за харчи и деньги.
Херра Куркимяки сумел перевезти к себе несколько семей ингерманландцев, и они стали работать у него в поле и в лесу, на скотном дворе и на строительстве мельницы и молокозавода.
Конечно, херра Куркимяки с ними расплачивался не так, как с русскими военнопленными. Кроме муки, картошки и молока, он платил им также марками. Но все-таки он оставался с прибылью. Что стоят в наше время марки? А ингерманландцы шли на такую плату.
Они ждали, когда им, приехавшим из необъятных русских полей, дадут землю в Суоми, рожденной на мху и камне. Хорошее терпение было у этих ингерманландцев, если они рассчитывали, что им дадут землю в Суоми.
Да, херра Куркимяки умел устраиваться и брал от войны все, что мог. Недаром он так прочно ступал по земле своими тяжелыми ногами.
Но бог с ним. Я тоже получал на войне все, что мог. Я получал шестнадцать солдатских марок в день. В месяц четыреста восемьдесят марок, и Эльзе я отсылал четыреста марок чистых. Если прикинуть в уме, что это тянулось не один год и что Эльза не все тратила на черном рынке, то можно было надеяться, что корова находилась теперь от нас вовсе уж не так далеко.
И выходило так, что и я должен был радоваться и молить бога, чтобы он продлил войну как можно дольше. Ведь война давала мне корову. Как не радоваться и не молиться о ее продлении?
Но бог лучше знал, что делать. Война кончилась. И это было самое лучшее, что можно было для Суоми придумать.
21
Я плохо помню, как все это произошло. Мы не успели опомниться, как все началось и кончилось. Правда, мы ожидали этого и усиленно готовились. Мы возили камни и лес. Мы рубили, копали и строили, не переводя дыхания. Нам увеличили паек и заставляли работать весь длинный летний день от зари до темноты. Но эта была пустая работа, и поздно было за нее приниматься.
Я работал на второй линии нашей обороны. Она считалась самой крепкой из всех. Кто-то дал ей название: «Ожерелье смерти». Все наши силы ушли на то, чтобы создать ее страшные звенья и срастить их между собой.
Русские ударили раньше, чем мы ожидали, хотя ожидали мы их все время. Но это ожидание длилось так долго, что мы устали ожидать. И в этот момент они ударили.
Все наши «ожерелья смерти» они прорвали и промчались одним рывком от Пиетари до Виипури. Я не знаю, как это выглядело, но говорят, это было похоже на то, как будто сам бог разгневался на маленькую грешную Суоми и метнул в нее полную пригоршню огня и железа вместе с русскими солдатами.
Я не знаю, как это выглядело, упаси меня боже знать! Я был как во сне. Все перемешалось для меня в этом мире, и я перестал помнить, где я и кто я. Но если это был сон, то очень страшный, вовсе не похожий на тот, где тихо и мирно стоял в тени скалы на покатом каменном бугре маленький красный домик с белыми окнами.
На мою спину лил холодный дождь, и в мокрое лицо дул ветер. Я прижался щекой к шершавому фундаменту небольшого дома, от которого остался только один кусок стены с расщепленными бревнами. Я прижался к нему и к земле и думал о том, чтобы меня не заметили. Только об этом я думал тогда. Больше у меня ничего не было в голове. А вокруг меня грохотал гром, и подо мной вздрагивала земля.
Тогда я не мог ничего понять и даже не пытался понять. Я только думал о том, чтобы меня не заметили и не раздавили. Но кто стал бы меня замечать? Что я значил тогда среди этой ревущей каши из огня и железа, по которой молча хлестал косой холодный дождь?
Я прижался к мокрому фундаменту, ища у него спасения.
Железные горы мчались, как ветер, сквозь дым и дождь, грохоча гусеницами, а перед ними, и рядом с ними, и позади них взлетали кверху столбы черной, сырой земли. Они взлетали выше танков и застывали так на секунду, похожие в это время на куст, у которого вместо листьев и плодов черные земляные комья. А потом эти комья падали вниз, рассыпаясь по башням танков, и уже новые глыбы земли висели в воздухе на их месте.
Русские танки катились вперед рядами, и одному из них некуда было свернуть, когда на его пути попался небольшой дом. Он прошел сквозь этот дом, как утюг проходит по складкам белья.
Я даже не слыхал треска. Слишком много было всякого другого треска. Я только видел, как часть крыши зацепилась за башню, протащилась за ней немного и потом отвалилась.
По танкам били наши пушки. От их выстрелов вырастали возле танков черные кусты земли и дыма с красными вспышками посредине. Некоторые снаряды попадали в танк. Они ударялись о броню, лопались и разлетались. Тогда я не понимал, что это значит, и мне было все равно, что это значит, лишь бы танк не раздавил меня. Но теперь мне ясно. Снаряды наши отскакивали от русской брони. Они не могли ее пробить.
Но вот один снаряд, кажется, все-таки проник в танк, и тот сразу вздрогнул и остановился. Появилось много черного дыма. А потом открылся верхний люк и оттуда, хлопая себя руками по горящей одежде, вывалился человек. Только один. И сразу же из люка вырвались широкие языки огня и заметались вправо и влево, слизывая с башни зеленую краску.
А потом страшный гром раздался над самой моей головой. Я закрыл глаза, прижимаясь к земле еще плотнее. Камень фундамента дрогнул, толкнув меня в плечо и в скулу, но не отвалился. Подо мной сильно встряхнулась земля, и гром покатился куда-то дальше в сторону севера, сверля и колыхая воздух на своем пути. Надо мной прошел русский танк.
Когда я снова поднял голову и открыл глаза, я увидел кое-что пострашнее танков. Я увидел русских. Они бежали в мою сторону.
Я увидел все поля и нивы от разбитой деревни до отдаленного леса, и все эти поля и нивы были покрыты бегущими прямо на меня русскими солдатами. Господи боже мой! Это шла на нас Россия. Мы раздразнили ее, и она двинулась с места и пошла в нашу сторону всей своей громадой.
На их пути еще продолжали кое-где вырастать кусты из черной земли и камней, и с каких-то скалистых бугров засвистели им навстречу наши пули, но они бежали вперед…
Я только таращил глаза на их мокрые лица, по которым хлестал косой дождь, на их раскрытые рты, из которых вырывалось частое и тяжелое дыхание. И у меня рябило в глазах от множества этих лиц, которые казались мне похожими одно на другое.
Но вот один из них, бежавший впереди, заметил, должно быть, кого-нибудь из моих товарищей, которые, как и я, не успели вовремя убежать. Он вскинул на ходу автомат и дал короткую очередь. Пробежав после этого еще несколько шагов, он заметил еще кого-то уже в другом месте и снова выпустил из автомата несколько пуль.
Тогда я ни о чем не думал. Все в мире перемешалось в одну страшную кучу: разрывы снарядов, свист пуль, огонь, дым и дождь, но русский солдат проходил сквозь все это и что-то еще видел и соображал.
А потом он так же точно заметил меня, повернул автомат и в мою сторону, и я почувствовал, как мелкие крошки камня и цемента брызнули мне в лицо. Я припал к земле. Но уже нельзя было лежать больше ни секунды, если я хотел остаться в живых.
Я вскочил на ноги, забыв про свой автомат, и бросился наперерез бегущим русским, мимо облепленного грязью и окутанного дымом мертвого русского танка, мимо обломка крыши, туда, где виднелись кусты смородины и мелкие деревья позади огородов.
Я добежал до кустов и бросился наземь. А надо мной пропели русские пули – целая очередь из автомата. Я выждал, пока они умолкли, потом вскочил, пробежал немного и снова лег. Русские с криком пронеслись мимо. Они пробегали впереди меня и позади меня. Они пересекали весь этот большой, засаженный смородиной и малиной огород, в котором я думал укрыться, и я полз, как червяк, от куста к кусту, чтобы они меня не заметили и не прикончили.
Не знаю, сколько их пробежало и сколько осталось лежать скошенных нашими пулями. Но когда стало немного тише, я вскочил и побежал к деревьям позади огорода. А от них я взял направление на лес, который начинался в стороне от деревни. Это был мой родной финский лес. Он, как мать родная, укрыл бы меня от всех этих страшных дел, которые тут творились, и указал бы мне путь домой.
Но когда я перебегал последнюю поляну, перескакивая через убитых и раненых, кто то схватил меня за ногу и крикнул по-русски: «Стой!» А потом сразу же добавил по-фински: «Сейс!» и выругался по-русски. Я потерял равновесие и ударился о землю лицом и грудью.
Пока я поднимался, русский тоже успел подняться. Он понял, куда я держу путь, и загородил мне дорогу к лесу. Его зеленая рубашка была разорвана на груди и намокла от крови.
Он сделал ко мне шаг и вдруг наморщил от боли загорелое молодое лицо, которое напоминало чем-то молодое лицо Вилхо. Только оно выглядело рыхлее и желтее, чем у Вилхо. Он сделал ко мне шаг и еще раз сказал с болью в голосе:
– Сейс!
Я смотрел на него, и мне было любопытно и страшно. Вот стоит передо мной тот, о котором у нас столько говорили и писали, но о котором я ничего не знал. Он подошел ко мне так близко, что я отчетливо увидел свежую ссадину на его подбородке и брызги грязи на его щеке, а в карих глазах – боль и ярость. Целых двадцать семь лет мне твердили о нем, о его голой, пустой и огромной стране. И вот он стоит предо мной, наклонив слегка голову, и кричит:
– Стой, гад! Сейс!
Я не понимаю его слов. Я слышу только звуки, которые вылетают из его запекшихся губ, и думаю о том, как бы от него скорее уйти, пока не подбежали другие русские, и прыгаю в сторону.
Но он хватает меня за плечо. Он чуть поменьше меня ростом, но я чувствую страшную силу его пальцев. Мне стоит большого труда освободиться от него. Но он снова хватает меня, а я изо всей силы отталкиваю его прочь. Тогда он падает и, падая, цепляется за меня. Я тоже падаю прямо на него, на его окровавленную грудь.
Должно быть, я больно надавил на него во время падения, потому что он застонал. Но он не выпустил меня, и мы стали кататься по траве, хватая друг друга за горло и ударяя друг друга кулаками.
Все же я выбрал момент, когда он закашлялся и слегка разжал руки. Я вырвался и вскочил на ноги.
Можно было тут же ударить его камнем по голове и убить, но я не мог его ударить камнем. Не хотел я с ним вовсе драться. Как не мог он этого понять?
Ведь он не убил моего брата. Это я теперь точно знал. Я только отскочил от него, чтобы он снова не схватил меня за ногу своей железной рукой, и побежал. На этот раз я добрался до леса.








