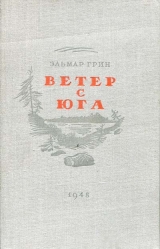
Текст книги "Ветер с юга"
Автор книги: Эльмар Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)


Эльмар Грин
Ветер с юга

1
Время идет вперед и делает свое дело. Ничего как будто не случилось такого, чтобы плясать от радости, но все-таки не так уж плохо стало жить на земле.
Ночью опять был туман, а утром подул теплый южный ветер и разогнал его. И сразу стало видно, сколько новых, черных от сырости камней выступило из-под снега на покатых полях по обе стороны лощины и каким широким стал ручей, который тоже совсем недавно пробился сквозь толстый снег наружу и теперь рассекал вдоль всю длинную лощину из конца в конец.
Он тоже казался черным издали и уходил, изгибаясь то вправо, то влево среди снега, куда-то в промежуток между отдаленными каменистыми холмами, на которых росли хвойные леса. И эти леса тоже выглядели черными от осевшей на них сырости.
Мой бугор тоже почернел и оголился. Нога уже не скользит больше на его крутом склоне, когда я спускаюсь по нему утром, идя на работу, или поднимаюсь поздно вечером к себе домой. Подошва сапога уверенно чувствует себя на шершавой поверхности камня.
Мой маленький красный домик стоит на верхней части этого каменистого склона и смотрит одним своим белым окном на север, куда обращен склон, а другим на восток, где тянется лощина с ручьем.
Мне говорили, что я не совсем хорошо выбрал место и что нужно было поселиться на участке с уклоном на юг. Я и сам это знаю не хуже других. Я бы сам охотно установил свой дом на южном склоне и повернул его окнами на юг, но у этого бугра нет южного склона.
Вместо южного склона сразу же позади моего огорода торчит кверху отвесная скалистая стена. Она выше дома и заслоняет собой с юга свет и солнце. С ее верхнего края свешиваются корни деревьев и пласты бурой травы. Эти корни и трава сейчас тоже полны влаги. И влагой же сочится сверху донизу вся гранитная стена, изрезанная трещинами.
Надо быть дураком, чтобы повернуть здесь домик окнами на юг. Что из них тогда увидишь? Вот эту сырую каменистую стену и уткнувшиеся в нее четыре короткие грядки?
Конечно, я понимаю, что детям нужно больше солнца. Но почему иногда не потерпеть немного? Херра[1]1
Господин.
[Закрыть] Куркимяки не мог мне сразу дать другого места. Он охотно выделил бы мне какой-нибудь солнечный склон, но у него самого их было не так уж много. Он прямо так и сказал мне тогда:
– Я не могу раздавать направо и налево землю, которую получил от отца и деда.
И я поспешил ответить:
– Да. Это верно. Это верно.
Но я проработал у него к тому времени двадцать пять лет. Это что-нибудь да значило. И он тоже это понимал. Поэтому он задумался после этих слов.
Он думал, а я смотрел на его морщины и ждал. Но трудно узнать мысли человека по морщинам, которые глубоко врезались в его лицо, словно трещины. Я пробовал угадать что-нибудь по его глазам, но не видел их, оттого что над ними тяжелыми, косыми складками нависали веки, похожие на маленькие живые занавески. Трудно угадать какие-нибудь мысли на таком лице, застывшем в трещинах. Поэтому я стоял и ждал, что он скажет. И он сказал, наконец, ворчливым голосом:
– Тебе надо где-нибудь поближе, чтобы ты на работу успевал.
И я ответил:
– Да…
Сердце у меня заколотилось от радости, когда я понял, что он не собирается совсем отказать мне. И я заодно уж набрался смелости и сказал:
– Но если бы вы были так добры и отвели мне, как я уже просил, кусок болота или леса, чтобы я потом с половины урожая…
Но он перебил меня сердито:
– Об этом рано еще говорить. Рано.
И пошел от меня прочь, все еще хмурясь и доставая из кармана портсигар. А я пошел за ним. И больше не стал ему ничего говорить, чтобы не рассердить его совсем. Но мне казалось, что он все-таки что-то решает.
И верно. Он шел так минут пять, дразня мои ноздри дымом хорошей сигаретки, а потом ткнул ею в сторону этого бугра и сказал:
– Вот. Хватит тебе здесь дом поставить. И близко будет от работы, и земля там есть под огород.
И с той поры я хозяин этого каменного бугра, прилегающего к высокой скале, с небольшой березкой и кустарником на вершине.
Когда-то, должно быть в очень древние времена, от этой скалы откололась большая каменная глыба величиной с мой дом. Она откололась и скатилась вниз по северному склону бугра и легла у его подножия. И вот этот короткий промежуток от каменной стены до того места, куда докатился отколовшийся от нее обломок, весь этот каменный горб стал моим.
Я арендовал его у господина Куркимяки, и он брал с меня за это плату, как за настоящую землю. Но я ни разу не упрекнул его в этом. Нельзя было его сердить.
Бывает, что некоторые сердятся и ругаются и требуют что-нибудь. Но что они получают? Они получают расчет. А я работал у него слишком долго, чтобы получить расчет. И притом ведь он не отказал мне. Он только сказал: «Рано». Значит, наступит время, когда я получу кусок леса или болота. Совсем небольшой кусок. Мне много не нужно. Господи, небольшой кусок леса или болота, на котором у меня через год зацветут пшеница, рожь, картошка и горох. Я знал силу своих рук и не боялся ни больших корнистых деревьев, ни болотной топи. Мне бы только получить хоть маленький кусок, чтобы я мог сказать: «Вот это моя земля, мое хозяйство».
Но нельзя было сердить господина Куркимяки частым повторением одной и той же просьбы. Он не любил, когда его сердили. А я проработал у него двадцать пять лет, и было бы обидно получить расчет в такое время. Поэтому я ничего не говорил ему больше и только старался приспособить свой бугор как можно лучше для жизни.
2
Каменная глыба, скатившаяся вниз многие тысячи лет назад, загородила путь ручью, который делал небольшую петлю в сторону моего бугра, прежде чем устремиться в длинную лощину. И хотя ручей нашел себе путь, обогнув эту глыбу, но все же ему пришлось для этого немного подняться. И вот перед каменной глыбой получился довольно глубокий водоем, который послужил мне колодцем. Вода в нем всегда слегка клокотала и была свежая и чистая, как стекло. А обогнув камень, она спускалась дальше настоящим водопадом, устремляясь к середине лощины.
Напротив водоема и камня я построил из досок маленькую баню, поставив ее углами на четыре небольших каменных обломка. Она была совсем маленькая, без предбанника, и вмещала в себя только двух человек. Но все же это была моя собственная баня.
Доски и гвозди, которые пошли на ее постройку, я купил у господина Куркимяки. У него же я купил кирпич для печи и котел. Он не взял с меня за это денег. Он просто записал это в счет моей будущей работы, но сказал при этом, что котел стоит недешево.
За дом он тоже не взял с меня ни одного пенни. За дом я тоже должен был только работать и больше ничего. Работать по двадцать дней каждый год. Он сначала хотел, чтобы я отрабатывал ему за дом по тридцать дней в году, Но дом все-таки был очень маленький, с одной только комнатой внутри, и со стороны казался скорее половинкой домика. Поэтому он назначил цену: отрабатывать ему за дом по двадцать дней в году до конца моей жизни.
Я прикинул, что стоимость бани я отработаю ему за полтора года, а отрабатывать по двадцать дней в году за дом не так уж страшно. Зато моим детям этот дом перейдет бесплатно.
Так же думала и моя жена. Какой радостью засветилось ее лицо, когда она узнала, что я пошел на это! Мы слишком долго жили в маленькой, тесной комнате общего рабочего барака, где у нас не было ничего, кроме кровати, стола и двух скамеек, на которых спали наши дети. У нас не было своей кухни, своей бани, а теперь у нас появилось все. Было отчего засветиться радости на круглом румяном лице моей Эльзы.
Только Вилхо не одобрял этого переселения. Он говорил:
– Ну, вот еще один mӓkitupalainen[2]2
Житель бугра.
[Закрыть] прибавился в Суоми к десяткам тысяч других. Оседлал камень и радуется своему каменному счастью.
Но что может понимать в этом деле глупый двадцатипятилетний мальчишка, которого никогда не тянуло на землю? Он воображал, что если он выучился сбивать масло и варить сыр на молокозаводе Калле Похьянпяя, то уже постиг всю мудрость жизни. Но он был молод и глуп и даже не выучился еще придерживать свой язык, который больше двух минут не мог пролежать спокойно у него во рту.
Умение язвить еще не означает, что твои мозги лучше всех. А он, как видно, думал иначе, если позволял себе высмеивать тех, кто был спокойнее его по характеру и молчаливее его. Ясно, что это он на мой счет проехался, когда рассказал анекдот о двух финских стариках.
Ничего забавного не было в этом анекдоте, и смеялся только он сам, да Эльза улыбнулась из вежливости – вот и все. Ну что тут смешного: ну, шли два финна-старика в лес на работу. По дороге они заметили заячьи следы на снегу. Один и говорит:
– Заяц пробежал.
Они прошли в лес и работали там до полудня. Потом сели на поваленное дерево, перекусили и снова работали до вечера, а потом пошли домой. И когда они опять проходили мимо заячьих следов, другой старик ответил:
– Да, заяц…
Я не знаю, что тут смешного в этом анекдоте. И, по-моему, тот, кто его выдумал, слишком далеко хватил. Зачем стал бы второй старик тянуть с ответом до вечера, если он мог ответить гораздо раньше, например в полдень, когда они закусывали.
А еще лучше было бы совсем не рассказывать таких глупостей и больше уважать своего старшего брата. Гораздо полезнее было бы поучиться у старшего брата уму-разуму, чем высмеивать его.
Если бы он чаще прислушивался к моим советам, то не попадал бы в такие истории, как тогда на танцульке. Вечер был устроен для благородных людей. Они из своего кармана уплатили в тот вечер за помещение. А он тоже полез туда, как будто и его приглашали, да еще скандалить начал, когда его попросили вон. Будь при нем старший брат, он бы не допустил его до этого.
Хорошо, что там оказался полисмен, который осадил его, а то бы ему не поздоровилось, потому что молодой Вихтори Куркимяки уже снял очки. А когда Вихтори Куркимяки снимает очки, то это плохой признак. Лучше отойти от него в такой момент. Все помнят, чем кончились его встречи на ринге с такими молодцами, как Арви Мерикоски, Тауно Ярвинен, Вапу Сало, Аате Вуорела и со многими другими.
Вилхо тоже должен был помнить об этом и не лезть, куда его не звали. А он полез и даже не обратил внимания на слова Вихтори Куркимяки. А тот прямо сказал ему:
– Прошу вас выйти, иначе вы будете иметь большую неприятность.
И при этом все его худощавое тело напряглось, готовое действовать. А все знают, что действует оно, как хорошо заведенный механизм, и кулаки его всегда точно попадают в то место, куда он их нацеливает.
Но глупый Вилхо, наверно, забыл про это и продолжал лезть вперед. И вот хорошо, что тут случился полисмен, который сразу понял, чем дело запахло, и попросил Вилхо удалиться. Но, уходя, Вилхо все-таки пригрозил молодому Куркимяки:
– Вы мне еще ответите за это.
А тот лишь усмехнулся. Что ему оставалось делать в ответ на глупость этого мальчишки? Он усмехнулся, пожал плечами и снова надел очки.
Но упрямый Вилхо решил отплатить за это, и когда дети богачей снова устроили в том доме вечер, он опять пошел туда. Но, к счастью, молодой херра Куркимяки был к тому времени отозван по делам в Хельсинки, и на вечере оказалась только его сестра, тоненькая темноволосая Хильда, приехавшая на каникулы из yliopisto[3]3
Университет.
[Закрыть]. Но с ней, кажется, у него драки не было, и он вернулся домой ни с чем. И кто-то даже сказал, что она будто бы тогда же взяла с него слово вообще никогда и нигде не сталкиваться с ее братом на кулаках. Но я этого не знаю, бог с ними. Одним словом, пустой он был человек, и ничего путного от него нельзя было ожидать.
3
На молокозаводе Калле Похьянпяя, можно сказать, и не было настоящих людей, если не считать хозяйского сына Эльяса, работавшего там же старшим мастером. Этот знал свою дорогу в жизни и не сворачивал с нее никуда. Он по природе своей был боевой парень, и когда ему предложили поступить в suojeluskunta[4]4
Шюцкор.
[Закрыть], он сразу же поступил, потому что там тоже все были боевые парни, готовые, если надо, головы сложить в драке. Он ничего не боялся и прямо говорил при всех:
– Мы еще покажем себя, перкеле[5]5
Чорт. Употребляемое в разговоре, это слово имеет значение нашего «чорт возьми», «чорт побери».
[Закрыть]! Не думайте, что мы собираемся в бирюльки играть. Финляндии предстоит великая роль в истории, и мы выполним эту роль. Россию мы будем бить первые, а потом нам помогут другие страны. Большевиков нужно раздавить, перкеле, иначе они захватят весь мир. И мы первые будем в этом деле, потому что мы самый смелый и сильный народ в мире, перкеле! И, кроме того, мы ближе всех стоим у Пиетари[6]6
Ленинград.
[Закрыть]. Мы отнимем у них Пиетари. Это тоже наш город, перкеле! И мы отнимем у них Север. Он тоже наш. Там живут наши финские племена. А русские ничего не понимают в делах Севера и только мешают нам, перкеле. Финляндия будет великой страной. Запомните мои слова. Это я вам говорю, перкеле!..
И он всегда трогал рукой свой пуукко[7]7
Финский нож.
[Закрыть], когда говорил это, и страшно таращил свои маленькие черные глаза, похожие на две блестящие пуговицы, да еще скалил белые зубы, над которыми топорщились короткие черные усики, подрезанные точь в точь как у Гитлера.
Но мне он всегда улыбался, не знаю почему. Каждое утро, когда грузовая машина старого Похьянпяя подъезжала к скотному двору господина Куркимяки за молоком, Эльяс еще издали приподнимался на кузове и махал мне шапкой, показывая белые зубы. А потом спрыгивал с машины и первым долгом шел прямо ко мне.
Не знаю, чем я ему угодил, бог с ним, но он все время крутился возле меня, пока у коровника наполняли молоком бидоны. Он Хлопал меня по спине, щупал мои руки у плеч, заглядывал снизу мне в глаза и говорил:
– Вот каких молодцов родит наша Суоми, перкеле! Кто может с нами сравниться? Ты счастливый, Эйнари. Смотри, какие у тебя кулаки, перкеле! С тобой никакие большевики не страшны. Таким бы только воевать, а не землю пахать, перкеле! Поступай в наш отряд. А? Ведь ты теперь богач – свой дом имеешь, перкеле! Защищать его надо от красных. Мне вот совсем защищать нечего, – я еще только простой рабочий у отца – и то пойду на войну первый, если война начнется, потому что так надо. Родина требует. А у тебя дом свой, перкеле!
Каждый раз, когда он так говорил, мне хотелось напомнить ему, что это еще не мой дом. Но какое это имело значение для него? Парень говорил от всего сердца, и не стоило его перебивать.
Я молча слушал все, что он говорил, а сам подвигался к бидонам, чтобы помочь ему скорей поставить их на машину. Когда бидоны поставлены на машину, то шофер начинает его торопить, и ему тогда уже больше ничего не остается, как тоже вскарабкаться наверх вслед за бидонами.
Но пока я подвигался к бидонам, он еще многое успевал сказать, похлопывая меня по спине. Он даже не говорил, а кричал, потому что такая была у него привычка:
– Мы с тобой еще покажем себя, Эйнари! Верно? Люди еще увидят, какие дела мы можем творить, перкеле! Пусть только начнется. Пусть начнется скорей! Вот о чем я все время мечтаю. И тогда берегись, ryssӓ!..[8]8
Оскорбительное название русского.
[Закрыть] Вот этими руками душить буду их, как цыплят, перкеле!
И он протянул вперед свои руки, скрючив пальцы. Нельзя сказать, чтобы они выглядели очень страшными, эти руки и пальцы, потому что сам он был не из крупных – чуть повыше среднего роста и не особенно плотный, хотя и терся возле борцов и боксеров где-то там при спортивном клубе в Кивимаа.
Но он так свирепо выкрикивал это и так страшно сверкал глазами и зубами, что даже Кэртту и Эльза замирали возле бидонов с молоком у коровника. И я не знаю, замечал он это сам или нет, но, подходя к ним ближе, он принимался еще грознее махать кулаками и кричать так, что временами голос его совсем осекался и из горла вырывался только хрип:
– Пора покончить с этим племенем, перкеле, если мы сами хотим жить! Они обложили нас и с юга и с востока. Они душат нас, ты чувствуешь это? А?
Я отвечал, что чувствую. Еще бы не чувствовать, когда у нас даже школьники знают, что от рюссей все зло на свете.
А он продолжал:
– Вот видишь. Даже дети про это знают. А я говорю: довольно! Пора положить этому конец, перкеле! Мы не можем существовать с ними одновременно. Двоим нам нет на земле места. Или Суоми, или Советский Союз, перкеле!
И он продолжал выкрикивать в таком же духе, пока мы не подходили к бидонам, и обе женщины смотрели на него с уважением. А потом он улыбался и подмигивал им, чтобы разогнать их страх и дать понять, что хотя он и страшен для врагов, но свои могут его не бояться. Со своими он добр и обходителен.
Я помогал ему погрузить бидоны на машину, и он влезал туда же, встряхнув изо всей силы на прощанье мою руку и глядя на меня при этом с таким видом, как будто хотел сказать: «Ничего, Эйнари, не горюй. Мы еще с тобой покажем себя».
А потом к нему наверх влезала одна из женщин, потому что кто-то должен был присутствовать при сдаче молока на заводе его отца и привезти назад бидоны со снятым молоком.
Я всегда хотел, чтобы это была не Эльза. Не потому, что она так часто поглядывала на черные усы и белые зубы Эльяса Похьянпяя и охотно смеялась его шуткам, а просто так… лучше было, когда на машину садилась сухая и злая Кэртту Лахтинен, а Эльза шла обратно в коровник.
Это не значит, что я боялся чего-нибудь, упаси боже, хоть я и знал хорошо, что Эльза когда-то собиралась выйти замуж за Эльяса и не сразу сделала между нами выбор. Может быть, она и жалела иногда, что выбрала все-таки меня. Этого я не знаю. Но похвалу Эльясу я слышал от нее не раз, однако не сердился за это, бог с ней. Я знал, что если уж она выбрала, то выбрала, и дело с концом. А вот собирался ли Эльяс на ней жениться, – это другой вопрос, и я думаю, что если бы спросить ее об этом, то не сумела бы она и сама с уверенностью ответить. Но я никогда и не собирался задавать ей таких вопросов.
Когда машина трогалась, Эльяс еще раз махал мне рукой, показывая зубы, и я тоже кивал в ответ как можно приветливее, особенно если рядом с ним садилась Кэртту, а не Эльза.
Все-таки хороший он был человек, и все у него было наружу. И это совсем неплохо, что он так ненавидел русских и не боялся сцепиться с ними. Такие люди нужны нашей родине. Кому же иначе ее защищать, как не таким смелым ребятам, которые головы свои готовы сложить, если это понадобится. А от русских всего можно ожидать. Мы достаточно наслышались и начитались о них в наших газетах, чтобы знать, что это за птицы.
Я кивал на прощанье уходившей машине и потом говорил Эльзе:
– Пойдем завтракать.
А она отвечала:
– Сейчас. Только положу сена коровам.
Я помогал ей задать коровам и телятам корму, и мы шли домой завтракать. Мы огибали покрытый валунами большой бугор, который мешал видеть наш дом прямо от усадьбы господина Куркимяки. Мы огибали его и выходили к ручью, охватывавшему этот бугор большой петлей и проскакивавшему в длинную лощину как раз между ним и нашим бугром. Затем переходили ручей по широкой, толстой доске немного выше обломка скалы и водоема, клокотавшего перед ним, и поднимались по западному склону своего бугра прямо к своему дому.
4
Свой дом… Я помню, сколько веселого шума было у нас в тот летний воскресный день, когда я закончил отделку дома и мы потащили в него свои пожитки.
Пока мы с женой устраивались, детишки наши прыгали по траве у подножия отвесной скалы на верхней части бугра. Это был маленький зеленый клочок, про который херра Куркимяки сказал: «огород».
Но это еще не был огород. Когда я ткнул в него лопатой, она лишь наполовину ушла в грунт. А дальше был сплошной камень. Чтобы сделать на этом месте огород, мне пришлось привезти сюда тридцать восемь возов земли и торфа. И только после этого получились те короткие четыре грядки, которые живы и сейчас.
За землю и торф херра Куркимяки тоже занес что-то в свою книгу, за использование лошади и повозки тоже. Но я уж это не считал. Неудобно было приставать к нему с каждым пустяком.
Зато на следующее лето у нас на этих грядках зазеленели свои овощи, которых нам хватило до самого рождества. Даже цветы росли тут же по краям грядок. Этим занималась моя маленькая Марта. Она посадила и подсолнечники, но росли они вяло. Только утром и вечером попадали на них солнечные лучи, и то в самые длинные дни лета. А жаркое полуденное солнце загораживалось отвесной скалой.
Сын мой Лаури не сажал подсолнечников. Но это не значит, что он мирился с той прохладой и сыростью, которыми был полон воздух у подножия скалы. Он тоже очень любил солнце и жадно смотрел вверх на край скалы, откуда свисали корни травы и кустарников, зеленые ветки которых были полны южного солнца. И он сначала смотрел вверх, на маленькую березку, стоявшую у самого края вершины, а потом начинал карабкаться туда, цепляясь за трещины скалы. Но он срывался каждый раз, падая вниз на мягкие грядки, однако с каждым годом поднимался все выше и выше. И видно было, что он в конце концов доберется до этой вершины.
А мать не переставала сиять от радости. Она у меня невелика ростом, но полная и крепкая и могла многое выдержать на своих круглых плечах. Бывали дни, когда ей одной приходилось доить всех коров на скотном дворе господина Куркимяки. А их там было ровным числом четырнадцать штук. И она не жаловалась. Она сияла, как солнце, гордясь тем, что у нас теперь свой угол. Женщины очень любят, когда у них есть свой дом, свое отдельное хозяйство. Так уж они устроены.
Но ей не очень-то нравилось, что самый отлогий северный склон нашего каменного бугра был гол и пуст. С первых же дней нашего переезда она принялась ходить по нему вдоль и поперек и ковырять лопатой плотный слой зеленого моха, которым он местами оброс.
И она недаром старалась. Под слоем зеленого моха ей удалось найти две длинные, глубокие трещины. Она еще больше углубила и расширила их киркой, натаскала в них корзиной земли и посадила в одной трещине четыре куста смородины, а в другой – два куста малины.
Я тогда смеялся над ее стараниями и говорил, что ничего из этого не выйдет. Но уже через два года все это разрослось и стало давать ягоды, особенно малина.
И тогда уже она смеялась:
– Ну, что? Ничего не вышло? А вот это что, по-твоему?
Она придвигала ко мне чашку с малиной, зачерпывала целую пригоршню и начинала пихать ее мне в рот. И при этом она нарочно давила ягоды у меня на губах и щеках.
Тогда я хватал ее в охапку и подбрасывал к самому потолку нашей маленькой комнаты и целовал своими выпачканными красным соком губами ее горячие круглые щеки и губы, и маленький нос, и глаза, которые она тут же закрывала, запрокидывая голову назад.
Для меня это не составляло тогда большого труда. Она хоть и была у меня плотная и тяжелая, но я сам тоже был не плох. И когда мы стояли рядом, то ее белокурые волосы никогда не поднимались выше моего плеча, как бы пышно она ни взбивала свою прическу.
Я мог тогда не только подбрасывать ее к потолку. Я мог поднять на плечи всю свою семью и нести ее через поле или лес куда угодно. Я мог потом вывалить их всех троих на траву и пуститься бегать и играть с ними в пятнашки не хуже их всех. А ведь мне тогда уже стукнуло тридцать шесть лет. Это был такой солидный возраст, что в зимнюю войну меня не взяли в солдаты.








