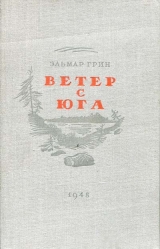
Текст книги "Ветер с юга"
Автор книги: Эльмар Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
15
Всю зиму меня грызла досада на себя за то, что я оказался таким плохим братом, и весной я снова собирался куда-нибудь сходить или съездить, чтобы опять найти русских. Но я так и не успел больше никуда ни сходить, ни съездить.
В конце весны ко мне однажды вечером подошел поближе Пааво Пиккунен, сунул мне в руку какую-то бумажку, оглянулся по сторонам и шепнул:
– Прочитаешь, когда будешь один.
Я удивился. С каких это пор он стал заниматься записочками, как барышня. Последнее время из него слово трудно было вытянуть, не то что записочку. С каждым днем он делался все молчаливее и молчаливее. Только с лошадьми он иногда перекидывался кой-какими словами, а с людьми перестал разговаривать совсем.
Ничего в нем не изменилось. Лицо осталось таким же круглым, и морщин под глазами и вокруг глаз оставалось столько же. Та же шапка была на его голове, те же сапоги на ногах, те же толстые суконные брюки, та же шерстяная фуфайка, тот же шарф, та же тужурка. Но он как будто ссохся немного за последние месяцы. Ссохся со всех концов одновременно и весь уменьшился в размерах.
И сил у него тоже стало меньше. Он по-прежнему работал с утра до ночи. В его руках все время был какой-нибудь инструмент. Кончив работу в кузнице, он сразу шел к тому месту, куда мы навезли год назад строительного леса и камня. И там он сразу же начинал тесать для стройки разные бревна и плашки.
Но сил у него стало меньше. Это видно было каждому. Он уже с трудом ворочал бревна и все чаще выпрямлял свою маленькую спину, делая передышки. А в груди у него сипело и хрипело. Это от табаку и водки. Главное – от водки. Слишком уж часто прикладывался он к ней. Не было воскресенья, чтобы он не вылил в свою глотку все, что заработал за неделю.
Даже херра Куркимяки стал это замечать. Однажды он зашел в рабочий домик как раз в такое время, когда Пааво сидел на своей койке, уставившись осоловевшими глазами в стену напротив. Это было в воскресенье, а накануне, в субботу, он не успел обтесать все те плашки, за которые взялся, хотя и пообещал это хозяину. Он забыл, что он уже не тот, кем был раньше, и сказал хозяину про ту кладку, которая загораживала дорогу:
– Это все я сделаю сегодня, чтобы убрать с дороги.
Он старался сделать, но не сделал. Он забыл, что с каждым днем у него все больше и больше уходит времени на то, чтобы выждать, пока успокоится сипенье и хрип в груди.
И он не сделал того, что обещал хозяину, не стесал всей кучи. В другой раз он бы потратил на это еще ночь и даже воскресный день, потому что он обязательно доводил до конца все то, что обещал. А на этот раз слишком велика оказалась груда бревен и слишком слабы оказались силы в его маленьком теле, которое сжималось и сжималось с каждым годом.
Он прохрипел над этими бревнами до глубокой ночи, но потом все-таки пришел домой и лег на койку, не раздеваясь, в шерстяном свитере, тужурке и штанах. А утром он вспомнил, что этот день воскресный и что пришла пора пропить заработанное за неделю. Он не считался с тем, что вино подорожало. Ему важно было пропить заработанное. А коровница Кэртту Лахтинен всегда имела пару бутылок наготове.
И вот он сидел так на койке, уставясь светлыми, как озерная вода, глазами в стенку, а херра Куркимяки вошел, увидел его в таком виде и вспомнил то, что тот обещал накануне. И он стал ругать его и кричать тонким голосом и даже топнул несколько раз ногой:
– Тебе в солдаты, может быть, захотелось? Так живо пойдешь у меня! Совсем выгоню к чорту, чтобы и духу твоего не осталось! Не нужно мне лентяев!
И он ушел очень сердитый. А Пааво продолжал сидеть, как сидел, хотя два старика-поденщика и Кэртту все еще стояли навытяжку, напуганные сердитым голосом хозяина. Пааво продолжал смотреть на стенку перед собой, но только глаза его начали вдруг как-то странно блестеть.
Никогда я раньше не видал его плачущим, а тут вдруг слезы сразу переполнили его глаза и хлынули через морщинки, собравшиеся гармошкой, на его рыхлые желтые щеки. Так он сидел, глядя в стену, а из глаз его ручьем бежали слезы, такие же светлые, как глаза. Они стекали по его щекам на маленький круглый подбородок, на старый коричневый шарф, которым была обернута его сухая шея, на шерстяной свитер и дальше вниз, на старые суконные брюки и загнутые крючками сапоги.
Казалось, он весь изойдет слезами. Но он вдруг повалился на кровать, отвернувшись от всех.
Да, интересный он был человек, наш маленький молчаливый Пааво Пиккунен, и трудно было его понять. А главное, как это он уменьшался все время в размерах, словно окорок в жару, из которого капля по капле вытекает ценный жир.
16
Про его бумажку я вспомнил только поздно вечером, когда подходил к своему бугру.
Я вытащил ее из кармана и развернул. Их оказалось две бумажки. На них было что-то напечатано, одинаковое на обеих. Прочитать я не смог, но при свете звезд разглядел какой-то портрет, напечатанный в верхней части каждого листочка. Я всмотрелся в него и чуть не крикнул от удивления:
– Вилхо!..
На бугор я уже поднимался бегом и дома первым долгом спросил Эльзу:
– Дети спят?
Она ответила, что спят.
– Зажги скорее лампу.
Она зажгла лампу, и я развернул бумажки. Да, это был Вилхо! Боже мой! Его портрет был напечатан до середины груди. Все было на месте. Те же красивые смелые глаза и тугие щеки, та же улыбка. А ниже было напечатано по-фински:
«Дорогой брат Эйнари!
Горячий привет тебе из Советского Союза. Судьбе было угодно, чтобы я оказался вдали от ужасов фронта. Не беспокойся за меня. Живу я хорошо среди других таких же, как я. Обращение с нами и питание вполне хорошее. Желаю и тебе благополучно дождаться конца войны, и тогда мы снова встретимся на том же месте.
Твой брат Вилхо Питкяниеми».
А на обороте каждого листка то же самое было напечатано подлинным почерком самого Вилхо. И даже подпись его была передана точно. Это писал сам Вилхо. Он писал мне. Это было его первое письмо ко мне за все время войны, и он был жив и здоров, мой глупый, бестолковый брат Вилхо.
Я не помню, сколько раз я подбросил в тот вечер кверху свою Эльзу. А когда мы покончили с жареной картошкой и с korvike[20]20
Эрзац-кофе.
[Закрыть], – она сказала:
– Может быть, о другом все тоже врут про русских?
И я ответил:
– Не знаю. Ничего не знаю.
Я не утерпел и на следующий день взял с собой листочек и показал его господину Куркимяки. Мне хотелось услышать, что он скажет на это, и посмотреть, как будут выглядеть морщины на его лице, когда он увидит портрет моего брата. Ведь я еще помнил разговоры про ногти и отрубленные руки и ноги.
Но он сказал совсем не то, что я ожидал. Когда он всмотрелся в портрет Вилхо, то глаза свои сощурил так, что все морщинки вокруг них стянулись в одну кучу. А потом они разошлись, и на местах остались только самые глубокие трещины. На лбу две из них стали как будто еще глубже и прорезали поперек весь его лоб от переносицы до переднего края шляпы. Он посмотрел на меня из-под своих занавесок и сказал:
– Надо бы проверить, кто это собирает такие вещи, и заявить о нем ленсману. Ты знаешь, до чего мы докатимся, если будем верить всякому вранью?
И я сказал поспешно:
– Да. Это верно. Это верно.
И тут же на его глазах разорвал листок на мелкие части и бросил их по ветру.
Действительно, бог знает, до чего можно докатиться, если начинать верить таким вещам. Страшно даже подумать об этом. Поэтому я изорвал листок. Ветер унес кусочки в разные стороны. Но мне было немножко весело в эту минуту, не знаю почему. А хозяину я сказал:
– Жалко, что мне не попалось их больше. Вот если бы найти все, что они сбросили, чтобы сразу пресечь всю заразу…
И херра Куркимяки кивнул головой так сильно, что дрогнуло мясо, обвисшее ниже его щек. После этого он потоптался немного на месте, косясь на меня, и потом заговорил все тем же ворчливым тоном, каким говорил всегда:
– Тебе новая работа предстоит. Выгодная работа. Я бы мог не разъяснять и просто направить тебя на эту работу, но чтобы ты видел, как я тебя ценю и уважаю, я разъясню тебе, в чем тут дело. У Похьянпяя взяли погонщика, который не только был погонщиком, но и помогал, кроме того, на заводе. Остались у него теперь только Эльяс и шофер, да и те, того и гляди, будут взяты. Машину у него тоже отбирают для нужд войны. Молоко придется возить на лошади. Но виноват он сам. Слишком несолидно выглядит предприятие с точки зрения государственных чиновников. Даже электродвигателя до сих пор не мог установить. Но не в этом дело. Он просил у меня дать ему в помощь тебя. Я сказал, что этого не могу сделать. Ты нужен мне самому. Но будешь ездить к нему два раза в день, отвозить на нашей лошади молоко и помогать там перегонять его через сепаратор и сбивать масло. Но и здесь на конюшне и в коровнике вся работа остается за тобой. И допахать все то, что намечено, тоже придется тебе же. Ничего не поделаешь. Придется немного быстрее все делать, а иногда и часть ночи не пожалеть. За это я увеличу твое жалованье до пятнадцати марок в день. И за работу на молокозаводе тоже буду платить по десять марок в день. Но ты должен стараться приглядываться там ко всему внимательнее. Учиться. Понимаешь? Скоро будет и у меня свой молокозавод. Это ты знаешь. Так я тебе заранее обещаю, что ты займешь там не последнее место, если будешь стараться.
Я не сразу как следует понял все, что он сказал. Слишком уж неожиданная была эта новость. Но одно я понял сразу и, чтобы уточнить это, переспросил его:
– Значит, по двадцать пять марок в день?
И он кивнул головой:
– Да.
Бог ты мой! Конечно, я был согласен. За лишние марки я готов был работать день и ночь подряд. Тут не нужно было и уговаривать. Но одно меня беспокоило:
– А когда сенокос начнется, тогда как? Мне ведь нельзя будет отрываться.
Он успокоил меня:
– К тому времени я достану людей.
– Откуда господин думает их достать?
– Достану.
– Ну что ж. Уж если так, то поработаю за двоих.
17
Эльзе опять досталось от меня после этого. Я так высоко ее подбросил, что она стукнулась о потолок плечом. Пришлось ее несколько раз поцеловать, чтобы заглушить воркотню. А так как ее губы было очень приятно целовать, то я уж заодно добавил еще и еще.
А потом мы заговорили о корове. Не так уж трудно стало теперь скопить на нее то, что требовалось. Четыре дня – сто марок, сорок дней – тысяча марок. Ведь это просто здорово получалось.
Но такие уж пошли тогда несчастные для нас дни, что не успел я заработать даже первой тысячи, как опять все нарушилось и покатилось к чорту, совсем не по той дороге.
Эльяс Похьянпяя недаром говорил, что мы еще с ним покажем себя. Так оно примерно все и получилось. Мы показали себя…
Когда я первый раз привез на молокозавод бидоны с молоком, Эльяс очень обрадовался нашей встрече. В последние дни я всегда оказывался в поле, на пашне, во время его приездов на машине за молоком. Поэтому мы уже давно с ним не видались. И теперь его белые зубы так и засверкали из-под маленьких черных усов, когда он заорал:
– Ого, перкеле! Вот и Эйнари в наших краях появился! Здорово, приятель! А мы вчера машину сдали и шофера тоже заодно, перкеле! И я думаю: «А как же теперь с молоком? Кто возить будет?» А отец говорит: «Каждый сам привезет». И вот сегодня все другие уже привезли и сдали и уехали. Снятое вечером обещали забрать. А от Куркимяки все нет и нет никого, перкеле…
Я сказал ему:
– Мне нужно было там кое-какие дела сначала закончить. Ведь я тут задержусь. Приехал поработать за Мустонена.
Он подхватил:
– Знаю, знаю. Может быть, и меня заменишь? А? Попробуй. Пятнадцать марок в час будешь получать для начала. Разве плохо? Перкеле… Хочешь, я скажу отцу?
Я ответил:
– Нет, мне он не даст пятнадцати марок в час.
Не знаю, что было в этом смешного, но Эльяс так и покатился со смеху от моих слов. По крайней мере зубы его минуты две были выставлены наружу, и даже слюна на них успела высохнуть за это время. И сквозь смех он крикнул:
– О, перкеле! Да у тебя аппетит, как у щуки! Это не плохо, конечно. Ей-богу, не плохо. Люблю таких. Но неужели ты это всерьез?
Я сказал:
– Мустонен получал у вас пятьдесят марок в день, а мне херра Куркимяки дает за его работу только десять.
Он снова рассмеялся и сказал: «Перкеле».
Мы внесли оба тяжелых бидона в помещение, и там Эльяс опять сказал:
– Да я не про то, что он меньше тебе дает, перкеле. Это его хозяйское дело. Но меня удивляет: неужели ты бы справился и с этой работой?
Я спросил:
– За пятнадцать марок в час?
– Да.
– Конечно, справился бы.
– О, перкеле!
Я помог ему вылить из бидона часть молока в небольшой алюминиевый бак, накрытый сложенной вчетверо марлей. Он окунул туда длинную стеклянную трубочку, зажал большим пальцем ее верхнее отверстие и вытащил обратно. Трубочка оказалась наполненной молоком. Он сунул ее нижний конец в пустую стеклянную пробирку и отнял палец от верхнего отверстия трубки. Молоко из трубки сразу вылилось в пробирку. Это он взял пробу на жирность.
Я помог ему вылить молоко из бака в сепаратор и снова наполнить бак молоком из бидона. И он снова взял пробу на жирность. Таких стеклянных пробирок с пробой у него в ящичке стояло несколько. С этими пробирками они потом что-то делают. Добавляют в них, кажется, по капельке серной кислоты и крутят их в какой-то машинке с такой быстротой, что весь жир у молока скапливается в одном конце пробирки. Так они определяют процент жирности молока, доставленного каждым хозяином, чтобы точнее установить цену, которую молокозавод выплачивает каждому, кто сдает молоко.
Когда мы вылили в сепаратор еще один бак, Эльяс сказал:
– А мне уже надоело все до смерти. Еще в зимнюю войну я хотел на фронт, а меня не взяли. Теперь все участники зимней войны получили ордена, а я нет. А чем я хуже других, перкеле? Я тоже хочу иметь орден. Пусть меня отпустят хоть на эту войну, и тогда они увидят, как надо по-настоящему воевать. За целый год они не дошли даже до Пиетари. Разве так воюют, перкеле! Надо наступать и бить, наступать и бить, чтобы не дать рюссям опомниться. Ведь это такой живучий народ. Им хоть неделю дай передышки, так потом их и с места не сдвинешь, перкеле. Наступать надо, если мы хотим удержать все, что взяли, и еще взять кое-что. Сколько лет к этому готовились, и вдруг остаться ни с чем. Я, например, хочу в Пиетари взять себе один дом, который получше, на их главной Невской улице. Разве я не имею права взять себе хоть один дом за все свои труды? Ведь это наш финский город, перкеле. А отец хочет взять земли в Восточной Карелии. Он уже ездил туда и облюбовал кусочек. Надо же, наконец, наладить свою жизнь как следует, а то самому приходится работать в собственном хозяйстве, как простому рабочему, как будто я только для этого родился. Пора подняться выше и избавиться от этого. Рюссей – вот кого надо заставить на нас работать, перкеле! Но сначала надо их победить. Наступать на них надо сначала. Вот и немцы требуют, чтобы мы наступали скорей, а мы сели и сидим.
Я спросил:
– Как немцы требуют? А им какое дело, наступаем мы или нет?
Он ответил:
– Ты ничего не понимаешь. Мы же теперь союзники.
Я сказал:
– Ах так! Но почему же тогда они от нас требуют, а не мы от них? Разве не мы здесь хозяева? Ведь они сами в гостях на нашей земле.
Но он снова с досадой махнул рукой.
– Ты если ничего не понимаешь, так уж лучше молчи. «В гостях», перкеле! Где ты видишь гостей? Это такие гости, что того и гляди у нас Пиетари из-под носа вырвут. Наступать надо, если мы не хотим, чтобы наши планы прахом пошли. Разве, сидя на месте, завоюешь себе дом на Невской улице или землю в Восточной Карелии? Наступать надо. Бить рюссей надо, перкеле! Эх, нет меня там! Я бы разъяснил! Я бы показал! Неужели не отпустят меня туда? Хоть бы один десяток рюссей ухлопать, перкеле…
Я старался приглядываться ко всему, что он делал, как учил меня херра Куркимяки. Мало ли что может быть. Может быть, мне и вправду его заменить придется. А сепаратора я совсем еще не знал и не мог понять, что он возле него делал. Поэтому, если уж дело на то пошло, глядеть надо было в оба. Парню очень хотелось уйти бить русских, и в конце концов он сумел бы вырваться. Кто тогда его заменит?
Он спросил меня:
– А разве ты не хотел бы прикончить хоть одного рюссю? Ведь от них все зло на свете, перкеле…
Я подумал и ответил:
– Да. Был случай, когда мне очень хотелось пристукнуть хоть одного из них.
Он подхватил сразу:
– И пристукнешь! Ты обязательно пристукнешь! Придет время, и ты еще пристукнешь не одного. Ты молодчина! Тебе в нашу организацию надо вступить. Я давно тебе об этом говорю. Пиши заявление. Ведь у тебя свой дом, перкеле! Его защищать надо. Вместе рюссей бить будем, когда вступишь. Истребить их надо полностью, иначе все наши замыслы прахом пойдут, перкеле!..
В это время вошел его отец и сказал:
– А почему не крутите? Кого ждете? Или без Мустонена все дело стало?
Я сразу пошел и выпряг лошадей из саней, на которых привез бидоны. Эльяс показал мне, что надо делать. Я зацепил постромки за деревянный провод, торчавший вбок от высокого толстого столба, и начал гонять лошадь потихоньку вокруг этого столба, который сразу завертелся вокруг своей оси вместе с шестерней, закрепленной наверху. А от шестерни закрутился большой железный вал, уходивший сквозь стену в помещение. А там от вала закрутился приводной ремень, идущий к сепаратору, и сепаратор сразу приятно загудел, и две белые струи полились из двух его трубок в два алюминиевых бака: широкая струя снятого молока и тонкая густая струя сливок.
Все мое дело состояло в том, чтобы лошадь шла ровно. Я нарочно для этого приехал на нашей старенькой кобылке. С таким делом управился бы и мальчик. Повод от уздечки был привязан к палке, прибитой к столбу перед лошадью. Лошадь крутила столб вместе с палкой, палка тянула за повод лошадь. Получалось так, что лошадь сама себя тянула, и тут не требовалось никакой погонялки.
Я мог идти потихоньку за лошадью, причмокивать слегка время от времени и ни о чем не думать добрый час, пока все молоко не проходило через сепаратор. Правда, я кое о чем все-таки думал, особенно после слов Эльяса о русских. Я думал о людях, которые выкалывают пленным глаза, отрубают им руки и ноги и сажают после этого на цепь в темном подвале, не разрешая им даже написать письмо на родину – хотя бы маленькое письмо с портретом на одной стороне и с текстом на другой, которое можно бы потом размножу жить на печатном станке и сбросить с самолета поближе к селению, где проживает у пленного какой-нибудь брат, хотя бы и плохой и недостойный брат. Что можно думать о таком народе? Истреблять их нужно полностью, иначе из-за них чьи-то замыслы прахом пойдут, перкеле…
Когда молоко было пропущено через сепаратор, я помог Эльясу перетаскать сливки в заднюю комнату, где была цементная ванна с водой и льдом. А бидоны со снятым молоком мы поставили в угол, чтобы вечером вернуть их владельцам. Свои бидоны я опять поставил на повозку, чтобы отвезти их госпоже Куркимяки. Она знает, сколько такого молока уделить нам, своим работникам, сколько телятам и поросятам.
И совсем не было ничего трудного в такой работе. За что тут было получать десять марок? Не понимаю. И дальше работа была не труднее. Мы перенесли из задней холодной комнаты баки со вчерашними сливками и поставили их в теплую воду. Теплая вода была налита в широкий четырехугольный котел, под которым Эльяс еще до меня развел огонь.
Отец его ушел в это время. И тогда Эльяс зачерпнул для меня полную кружку сливок и сказал:
– Хочешь, пей, пока старика нет. Пей, не стесняйся. Для тебя мне ничего не жалко.
Не стоило мне этого делать. Я после краснел за свою жадность. Но тогда я подумал: «Почему не выпить густых свежих сливок, если их так много и можно пить их бесплатно? Меньше съем за обедом дома». Но не стоило этого делать, особенно брать кружку из рук Эльяса Похьянпяя, хоть он и хороший парень, очень нужный для родины. А он хлопал меня по плечу и твердил:
– Пей. Для тебя я все готов сделать. Нам бы с тобой все время вместе следовало быть. Мы бы таких дел наделали…
Немного погодя мы вылили несколько баков подогретых сливок в маслобойку, и я опять ушел гонять лошадь. Он перенес приводной ремень на ось маслобойки и крикнул:
– Пошел!
Я гонял лошадь, а маслобойка, похожая на бочку, проткнутую сквозь пузатые бока осью, крутилась в это время, показывая потолку то одно свое дно, то другое. А внутри у нее болтались теплые сливки, захлестывавшие время от времени маленький стеклянный глазок, вделанный в ее стенку. Когда на этот глазок вместо белых сливок начали оседать желтые крупинки масла, Эльяс крикнул мне:
– Стой, перкеле!..
Я остановил лошадь и подбросил ей сено из повозки. А он крикнул мне снова:
– Отряхнись как следует! Засучи до локтей рукава и вымой руки. Да смотри, чтобы под ногтями чисто было! Вот щетка, вот мыло, вот кран. А потом наденешь вот этот халат.
Сам он тоже сменил халат на другой почище и убрал свои черные волосы под белую полотняную шапочку. Мне тоже пришлось надеть такую же шапочку.
Я делал все, как он велел, и старался присматриваться ко всему, что он делал, потому что мало ли что в жизни бывает… Конечно, я не мог рассчитывать на пятнадцать марок в час, но, бог ты мой, если бы мне за такую работу добавили еще хоть двадцать марок в день, то я бы и тогда справился с ней. Двадцать и двадцать пять – это сорок пять марок. За сорок пять марок я мог поднять на плечи весь их молокозавод и унести его за сотню километров.
Эльза и не догадывалась, какой доход мог нам еще прибавиться. Но только надо было присматриваться, внимательнее присматриваться ко всему, что делал Эльяс Похьянпяя.
Я видел, как он окатил холодной водой деревянную поверхность круглого столика-пресса, у которого середина выступала кверху легким конусом. Он окатил ее несколько раз и потом начал таскать из маслобойки решетом слипшиеся комья зернистого масла, давая предварительно пахте стечь сквозь решето в маслобойку. Он вываливал это масло на столик-пресс, пока не заполнил его.
А потом я начал крутить ручку, скрепленную с деревянным зубчатым валиком, идущим от центра стола к его наружному краю. Я начал крутить за ручку этот валик, а под ним завертелся весь стол вместе с маслом, которое валик подминал под себя.
А Эльяс лил на это масло чистую холодную воду, смывающую на цементный пол остатки пахты из масла. Он переворачивал масло двумя деревянными лопаточками, тоже смоченными в воде, скатывал его в комок и снова пихал мне под валик, поливая его водой. А валик опять раскатывал его в длинный зубчатый блин.
Когда масло стало плотным и чистым от пахты, Эльяс опять скатал его в ком и унес в соседнюю комнату, где положил на большой деревянный стол, тоже смоченный водой. А потом снова начал таскать на пресс зернистое масло из маслобойки.
Я пробовал есть это масло. Брал несколько комков пальцами и клал в рот. Но оно показалось мне не очень вкусным без картошки и хлеба. А Эльяс, видя это, сказал:
– Ешь, ешь. Не жалко. Я вот не могу есть. Противно. И сливки не могу пить. Обязательно желудок расстроится, перкеле. А ты ешь, если лезет. Не стесняйся. Только хлеба не вздумай сюда таскать. Если мой старик увидит хоть крошку хлеба не то что в сливках или в масле, а на полу, то он тебя просто убьет на месте, перкеле. Ну, крути. Мне еще масло нужно успеть сформировать до обеда. Надоело все, перкеле!.. Неужели так и не придется побывать на фронте? Хоть бы десяток рюссей… Опять все ордена и кресты получают, а я нет, перкеле.








