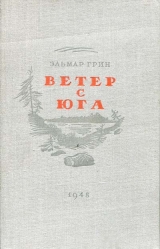
Текст книги "Ветер с юга"
Автор книги: Эльмар Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
22
Лес укрыл меня от русских, укрыл от смерти. Я перешел много скалистых бугров, обошел много озер и болот, уходя все дальше и дальше в глубь родной Суоми. Шел мелкий дождь, и дул холодный ветер. Под ногами у меня чавкало, ноги промокли, но зато я ушел от того, что творилось там, вдоль дорог.
В опустевшей лесной избушке я нашел небольшой бумажный мешочек с пшеницей. Рядом с ним лежало несколько пустых крупных бумажных мешков. Я прихватил их с собой и опять углубился в лес.
Наступила темнота, а я все шел без пути, без дороги сквозь ветер и дождь, грызя сухие пшеничные зерна. Уже поздно ночью я вздумал перевалить большую гору, но сил хватило добраться только до ее вершины. Там я нашел сухое место под большим валуном. Развернув мешки, я залез в один из них ногами, другой разорвал вдоль и закутал им плечи и голову. Мешочек с пшеницей я подложил под голову, остальные разостлал под собой, лег на них и заснул.
Проснулся я утром, когда уже совсем рассвело и когда холод пробрал меня насквозь. Дождь перестал, но воздух был такой же прохладный. Я высунулся из-под валуна и увидел далеко внизу, у подножия горы, большое озеро, а слева от него – дорогу.
Хорошо, что я не стал ночью спускаться с этой горы. Я бы вышел к озеру. По блеску воды я определил бы, что путь вокруг него короче, если идти влево, и пошел бы влево, уткнувшись прямо в дорогу. А дороги были опасны, пока по ним рвались вперед русские.
Значит, обойти озеро нужно было справа, хотя и нельзя было охватить глазом, как далеко оно тянется и где кончается. И думая о том, что озеро мне придется обогнуть справа, я сидел на вершине лесистой скалы, возле большого валуна, смотрел на противоположный берег озера и старался постигнуть, что ждет меня там.
Берег поднимался от воды большими гранитными уступами, и на каждом уступе стояли высокие ели и сосны, прямые, как игла. Они стояли там уже сотни лет, уйдя корнями в трещины камней, и смотрели своими острыми вершинами в небо.
Нелегко им было ужиться на голом камне, потому что нет в нем соков для жизни. Много труда стоило их корням вскормить такие огромные стволы, отягощенные толстыми мохнатыми ветвями. Но вот они все-таки вскормили их, и теперь эти громады тянутся к небесам, прочно утвердившись на камне. И озеро отразило их всех в своей глубине, повторив каждый каменный уступ, каждую группу огромных зеленых красавцев.
Мне всегда приятно смотреть на такие места, где зелень силой своей и терпением победила камень, потому что я сам по опыту своему знаю, как трудно утвердиться жизни на голом камне. И тем обиднее стало мне, когда я заметил, что здесь какие-то дурни, с пушками и минометами, начали обстреливать русские танки, показавшиеся на дороге.
И уж если этим дурням непременно захотелось сложить без пользы свои головы, то хоть выбрали бы для этого место где-нибудь среди голых камней, которые не жалко кромсать и дробить и разбрызгивать мелким щебнем по земле.
Так нет же! Они открыли стрельбу прямо с этих зеленых уступов, нависших над тихим озером, и немедленно получили с дороги ответ. Большая ель, окутанная на мгновение клубом дыма, надломилась вдруг у основания и медленно начала падать. Она хлопнулась о край камня и мягко заскользила вниз с уступа на уступ, теряя на своем пути сучья и хвою.
Со стороны дороги начинали бить все новые и новые русские орудия. Каждый их выстрел слизывал с каменных уступов противоположного берега кусок зелени, оголяя их. Засевшие среди камней наши артиллеристы и минометчики пытались отвечать русским. Вспышки их выстрелов по-прежнему мелькали то здесь, то там. И еще больше вспышек было от пулеметов и автоматов. От их работы непрерывно трещала вся гора сверху донизу.
Но все новые и новые орудия русских били по всему крутому склону противоположного берега. Берег кипел весь в огне и в дыму, от подножия до вершины, и понемногу стряхивал с себя деревья и камни, которые скатывались в озеро.
Когда орудийный огонь затих и ветер сдул с каменных уступов последние клочья дыма, я не увидел на них больше прямых и гордых деревьев, смотревших в небо. Торчали кое-где только жалкие обломки с остатками сучьев.
И в это время к подножию скалы хлынула русская пехота и начала карабкаться вверх. Ей навстречу трещали автоматы и пулеметы, но какой был от них толк?
Я не видел, чем все это кончилось, и торопливо шел все дальше и дальше от этого страшного места, огибая озеро справа. Голод мучил меня, и я грыз пшеничные зерна. В лесу не выросло еще ничего съедобного: ни ягод, ни грибов. Но я все-таки шел в лес, а не к людям. Так страшны были люди в эти дни.
23
Я незаметно проскочил мимо русских на свою сторону, но из леса не выходил. Я встретил в лесу еще нескольких таких же горемык, как я, и мы решили укрыться в гуще ветвей от всего мира на то время, пока люди сходят с ума.
В пустом лесном домике мы нашли брошенную в подвале старую картошку и решили, что как-нибудь проживем. Однако нас выловили из леса свои же. Они не спросили у нас, голодны мы или нет. Они прогнали нас без остановки пешком сорок километров и совсем ослабевших заперли в лагерь, где уже были десятки таких же, как мы.
Нас долго держали там, очень долго. Никогда раньше я не думал, что родная Суоми может так немилостиво поступить со своими бедными сынами. Мы работали, как лошади, а кормили нас, как цыплят.
Это очень тяжело, когда живешь и чувствуешь, как день за днем уходят из твоего тела соки и не возвращаются обратно. Тяжело жить и думать, что не для тебя светит жаркое летнее солнце, не для тебя ясный божий день и вся красота земли.
Эльза, конечно, ничего не знала о моей судьбе, и я ничего не писал ей. Зачем писать? Чтобы она тревожилась и возила мне последние крохи? Пусть лучше ничего не знает. Я молился только об одном, чтобы дотянуть до конца и не свалиться раньше времени.
Нам страшно было смотреть друг на друга – такие мы стали. И мы уже не шутили, не смеялись, не дружили друг с другом, хотя арестовали нас всех за одинаковые мысли и проступки. И теперь я знаю, как просто можно нарушить людскую дружбу. Перестань давать людям есть, и они будут смотреть друг на друга волками.
Но в тот день, когда до нас дошла весть о конце войны, мы все-таки взглянули друг на друга не так угрюмо. И всю ночь мы переговаривались, лежа на деревянных нарах:
– Вот кончилась война, а кончилась ли она для нас?
– А почему бы ей не кончиться и для нас?
– Мы не поверили в свои силы… мы ушли…
– И правильно сделали. Разве не ясно теперь, что верить было не во что?
– Как не во что? Ведь Россия пошла на мир. Если бы мы оказались слабыми, она бы совсем раздавила нас.
– У России нет привычки давить кого-нибудь.
– Кончилась война для Суоми. Но как же теперь мы?.. Неужели нас не скоро отпустят?
– Отпустят.
– Не отпустят. Мы грешны перед своей родиной.
– Зато мы не грешны перед Россией.
– А что от этого изменится?
– Все изменится. Россия сильна. Она заставит наших правителей выпустить из тюрьмы всех, кто был против войны с ней. Ведь ты читал условия договора. Разве мы не приняли их? Кто заставил наших правителей принять их?
– Да. Это сила… это сила.
– Россия… что мы знаем о ней?
– Ничего мы не знаем.
– А ведь она была все время совсем рядом с нами. И мы не видали от нее никакого зла, а говорили про нее только злое.
– Зато теперь ты узнал ее.
– Немцы помогли тебе узнать ее. Их благодари.
– Немцы!.. Попался бы мне в руки хоть один из них, перкеле!..
– Да, кончилась, наконец, война для Суоми. Но как же мы… Может ли Россия заставить выпустить нас?
– Конечно, может. И обязательно заставит. Ведь мы тоже были против войны с Россией и своим делом доказали это. Россия не забывает своих друзей.
– Друзей? Давно ли рюсся-большевик стал другом финна?
Это я так сказал. Не мог я вытерпеть. Надо было кому-то так сказать, иначе чорт знает, до чего можно было докатиться. Я не знаю, правильно ли я поступил, что так сказал, но должен был кто-то это сказать в конце концов, или к чорту пошло все, чему учили людей в Суоми два десятка лет. Может быть, не мне, а кому-нибудь другому следовало это сказать, но не сказать нельзя было никак, и вот я сказал.
А мне сразу же ответили:
– Ты старый идиот. Только такая дружба и дала бы покой твоей Суоми. Если бы не торчал так заметно из-за спины у наших правителей зажатый в кулак нож против России, то жил бы ты в мире уже двадцать семь лет. Не было бы зимней войны сорокового года и не было бы этой проклятой бойни. И шла бы наша граница на юге по-прежнему по Rajajoki,[23]23
Сестра-река.
[Закрыть] потому что Россия умеет жить в мире с любым соседом, если только он сам от всего сердца этого желает.
Так мне сказали, и я промолчал в ответ, потому что я – это был я, перкеле… Чего от меня еще ждать? Не я создавал то, что было вокруг.
А они продолжали беседовать:
– Да, дорого обошелся нам этот торчавший за спиной нож. А за чьей спиной он торчал?
– А вот это нужно выяснить и взыскать с того за нашу кровь и слезы.
– Хо-хо! Чего захотел! Взыскать! Будь доволен тем, что сам уцелел.
– Все можно сделать в дружбе с Россией. Ворочать можно горы вместе с ней.
– Да. Кончилась война для Суоми, наконец. Кончилась. И как бы тяжело ни достался мир, а для народа он все-таки радость. Но что будет теперь с нами?
– Ничего страшного. Только бы не нарушался мир с Россией. Она поможет нам.
Но тут я опять вставил свое слово:
– Стыдно принимать помощь от злейшего врага Суоми, от рюсси.
Я опять сказал то, что должно было быть сказано. Как же не сказать этого, бог ты мой! Где же мы тогда, и кто мы?
Но мне опять ответили: «Дурак».
Я повернулся на спину, вытянул свои ноги так, что они свесились над краем нар, и закрыл глаза, как человек, имеющий полное право отдохнуть после выполненных хороших дел.
И я сказал:
– Сами вы дураки. Совсем спятили все от страха перед рюссей.
А они продолжали твердить свое: «Россия, Россия». Бог с ними.
Я не знаю, что могло так быстро испортить людей, которые двадцать семь лет понимали все совсем по-иному. А теперь они говорили такие вещи, каких мне раньше ни от кого не приходилось слышать, разве только от своего глупого Вилхо.
Так мы беседовали в ту первую ночь мира. Тощие лица смотрели с двухэтажных нар на одну-единственную бледную лампочку, свисающую с потолка. Каждый говорил вслух то, что думал, но никто не улыбался.
И с тех пор уже не было таким беседам конца. С тех пор каждую новость, доходившую до нас, мы глотали с такой же жадностью, как свой водянистый суп. Некоторых из нас навещали жены или сестры. Они рассказывали, что делается на свете.
Немцы все еще сидели в нашей стране, не желая уходить, хотя им делать уже больше было нечего. Они уже сделали свое дело, заставив нас пройти сквозь все, что только может вынести человек. Чего им надо было еще? Говорили, что они под конец прямо-таки захватили наш север и что там началась настоящая война между нашими войсками и немецкими. И те, кто говорил это, не выглядели огорченными таким поворотом дел. Скорее даже наоборот. Вот как кончаются дела между союзниками, где один захотел быть хозяином другого.
В Хельсинки приехала русская комиссия, чтобы проследить, как мы выполняем условия перемирия.
Услыхали мы также о том, что все русские скоро будут отправлены к себе на родину, а наши вернутся из России. Вот это было хорошо. У меня сердце заколотилось от радости, когда я узнал об этом. Значит, и Вилхо тоже скоро будет дома. Как же иначе? Вернется и он, раз вернутся другие. Единственный мой брат, глупый Вилхо…
Пришел октябрь с холодными дождями и ветром, а мы все еще тянули свою лямку. Мы слыхали, что из тюрем уже были выпущены наши политические заключенные и что эшелоны с русскими уже потянулись к Виипури.
Все это было так. Мы сами видали их иногда издали. А когда однажды нам пришлось грузить в вагоны дрова на разъезде Хонканиеми, мы увидели их совсем близко. Их эшелон остановился, ожидая встречного поезда, и они вылезли из вагонов, потому что день выдался сухой и теплый.
24
Да, это был хороший осенний день. Они шутили и смеялись, подставляя осеннему солнцу свои загорелые лица. Еще бы им было не шутить и не смеяться. Они ехали домой, к себе в Россию, которая победила всех, кто хотел ее раздавить. Они приедут и узнают, почему она победила. Может быть, они и сейчас это знают. Ведь оттого, что они поголодали два-три года в наших лагерях, они не перестали быть русскими. Есть же на свете люди, которые знают такое, чего другим никогда не узнать…
В эшелоне находились семьи с женщинами и детьми. Три года просидели они безвыходно в лагере. Так мы хозяйничали на земле, которую захватили. Ни одного русского не оставляли на свободе, даже стариков, женщин и детей.
И вот теперь они шутили и смеялись, толпясь у вагонов. Мальчики и девочки перебегали с места на место, ко всем приглядываясь, потому что дети всегда дети. В одной части эшелона мужчин было больше. Некоторые из них сидели задумавшись, некоторые пели вполголоса свои песни, а некоторые закусывали, повернув лица к солнцу. Одни из них ели хлеб с маслом, другие просто грызли няккилейпя и запивали чем-то из котелков и фляжек. Не нам было разбираться, кто из них и как попался. Но это были русские и, значит, хорошего у нас видели мало.
Нас они заметили сразу, как только вылезли из вагонов, но сначала только косились в нашу сторону, не говоря нам ни слова. Ведь мы были их врагами. Мы дрались с ними на фронте и потом морили их голодом в наших лагерях. Как же должны были они смотреть на нас?
И мы тоже косились на них не очень приветливо. Когда у человека желудок от пустоты дрожит и сжимается, ему не очень-то весело видеть куски хлеба и масла, исчезающие в чужом рту.
Мы стояли, заслоненные от русских своими конвойными, и ждали, когда уйдет их поезд, потому что он мешал нам носить бревна через линию железной дороги к пустым платформам на запасном пути.
У русских тоже конвойными были наши финские сержанты и солдаты, но они не особенно караулили их. Они просто отошли в сторонку и закурили, так что никто не мешал нам коситься друг на друга.
Но вот один русский, невысокий и коренастый, в новой финской шинели, доел свой хлеб с маслом. Он доел хлеб, смахнул крошки с колен и приподнялся с узелком в руках, а потом потянулся слегка и крикнул вдруг по-фински веселым, сытым голосом самому переднему из нас – Отто Укконену:
– Miks niin surullinen olet?[24]24
Ты чего такой печальный?
[Закрыть]
Тот помолчал немного, шевеля мускулами на худых щеках, и потом проворчал:
– Nӓet itse.[25]25
Сам видишь.
[Закрыть]
Русский вгляделся в него повнимательнее и еще раз спросил:
– Oletko nӓlkӓ vai mitӓ?[26]26
Голоден или что?
[Закрыть]
Но Укконен не ответил, продолжая сжимать и разжимать свои худые челюсти.
Разговорчивый русский развязал вдруг свой узелок, вынул половинку круглого хлеба и пошел к нам ближе. И он уже хотел протянуть Укконену этот хлеб, когда наш конвойный сержант с автоматом в руках загородил ему дорогу и сказал:
– Ei saa![27]27
Нельзя.
[Закрыть]
Тогда вперед выступили еще двое русских, и один из них крикнул:
– Hei, Suomen pojat! Miksi olette vangittu?[28]28
Эй, финские ребята! Почему вы арестованы?
[Закрыть]
И кто-то проворчал ему в ответ из нашей кучи:
– Aivan turha kysymys.[29]29
Совершенно лишний вопрос.
[Закрыть]
Все новые и новые русские стали подходить к нам, услышав эти слова, а наши конвойные бросили курить и загородили им дорогу. Даже vӓnrikki[30]30
Прапорщик.
[Закрыть] поспешил к ним на помощь. Широкоплечий и приземистый, он стал перед нами.
Первый русский все-таки протянул еще раз вперед свой хлеб, но vӓnrikki положил руку на кобуру и рявкнул:
– Ei saa!
Русский опустил руку с хлебом. Даже дети притихли, с любопытством ожидая, что будет дальше.
Но тогда от вагонов отделился высокий и плечистый русский с бумажным свертком в руках. Голос его оказался громче и басистее, чем у нашего прапорщика.
– Miks ei saa? Pois tieltӓ![31]31
Почему нельзя? Прочь с дороги!
[Закрыть]
И он отпихнул нашего прапорщика в сторону с такой силой, что тот едва устоял на ногах. И после этого русский двинулся прямо в нашу толпу. И так как я на его пути оказался по своему росту самым приметным, то он протянул мне свой пакет и сказал:
– Se! Ota venӓlӓiseltӓ.[32]32
На! Возьми от русского.
[Закрыть]
И другие русские по его примеру протянули нам хлеб и папиросы.
Я взял пакет, который мне был протянут. Почему не взять хлеб, если тебе его дают от чистого сердца и если сам едва стоишь на ногах от голода? Но я ничего не сказал. Что я мог сказать? Я хотел ему кивнуть головой, но когда взглянул на его лицо, то не мог даже кивнуть головой и остался стоять с открытым ртом…
Боже мой! Я узнал этого человека… Но я никому и никогда в жизни не скажу, где я видел его раньше.
Да, это был он. Этот широкий и тяжелый подбородок и нос, похожий на мой, загнутый сапогом, только чуть покороче, я узнал бы где угодно. Никакая полнота щек не изменит их формы. А главное – короткий косой рубец на верхней части лба…
Я стоял с пакетом в руках и смотрел на него, ничего не говоря. Что я мог сказать, боже мой! Я хотел только одного: чтобы он не узнал меня. И, кажется, он не узнал, хотя в его карих глазах и мелькнуло такое выражение, как будто он вспоминал о чем-то. Его губы приветливо улыбались мне, и только свисток проскочившего мимо нас встречного поезда заставил его снова сделаться серьезным и оглянуться.
Дежурный по разъезду дал сигнал, и все русские направились к своим вагонам. Большой русский тоже пошел не спеша вслед за другими. На ходу он обернулся, махнул мне приветливо рукой и, подбирая подходящее финское слово, крикнул:
– Nӓkemiin![33]33
До свидания.
[Закрыть]
25
Поезд с русскими ушел, а мы все еще стояли на месте и смотрели куда угодно, только не в глаза друг другу. Но вот кто-то горько усмехнулся и сказал, глядя в землю:
– Вот вам и рюсся!
И в голосе его был слышен великий стыд. А кто-то другой, очень слабый и тонкий, как былинка, согнулся вдруг пополам и сел прямо на землю. И мы услыхали, как он всхлипнул, – настолько был он слаб. Он держал в своих тонких грязных пальцах четыре куска «фанеры»[34]34
Так финские солдаты иронически называют плоский сухой хлеб – няккилейпя.
[Закрыть], и все мы увидели, как на них капнули слезы.
– Перкеле! Никогда не будет мне прощения, – сказал он, – ведь я убил двоих… Они бежали на меня с автоматами там, на фронте. А я сидел между камнями с пулеметом и стрелял. Они бежали прямо на меня и кричали свое «хура», и я выпустил по ним очередь. И вот один из них упал сразу, а другой не хотел падать. Он непременно хотел добежать до камней, в которых я засел. Его уже шатало так, что он делал больше шагов вправо и влево, чем вперед, но он ни за что не хотел падать и все шел ко мне, а я все выпускал и выпускал по нему короткие очереди, пока он все-таки не упал наконец… А может быть, этот хлеб дал мне сегодня родной брат того, кто шел и шатался от моих пуль, засевших в его теле? Почем я знаю? Перкеле! Какие мы звери, и как противно все это!..
В своем пакете я нашел половинку круглого хлеба, разрезанную вдоль до середины, а в этот разрез был засунут плоский кусок масла. Как видно, он отдал мне свой паек. Откуда же мог он взять этот хлеб и масло? Все они отдали нам свои пайки, полученные на дорогу. Отдали нам, своим врагам, которые душили, били и морили их голодом в наших лагерях. Вот какие были на свете люди, о которых мы ничего не знали! А ведь они все время жили рядом с нами, совсем рядом.
26
Все это мне вспомнилось у себя дома, за столом, когда напротив меня сидел мой брат Вилхо. Он много выпил. Мы оба много выпили. Я велел Эльзе принести из погреба пять бутылок вина – все, что она накопила за время войны, и мы выпили их вдвоем.
Сколько лет мы ждали этой встречи! Ведь мы уже не надеялись увидеться больше никогда. Но бог был милостив к нам, и мы увиделись.
Я попал домой раньше его. Кто-то сказал, что нас тоже выпустили из лагеря не просто, а будто бы по настоянию русской комиссии. Я не знаю этого. Я ничего не знаю. Бог ты мой! Мы столько насмотрелись и наслышались за эти годы, что готовы были поверить не только этому.
В эти дни по всей Суоми только и было разговору, что о русских. Оказывается, у нас многие хорошо знали русских, многие встречались и даже жили с ними раньше, и теперь рассказывали о них очень много интересных вещей.
И я удивлялся: почему они раньше не рассказывали этих вещей, если знали о них? Почему они раньше твердили «ryssӓ, ryssӓ» и только теперь заговорили venӓlӓiset.[35]35
Русские.
[Закрыть]
Домой я пришел вечером. Это был прохладный и тихий осенний вечер. Мы так и просидели весь этот вечер дома. Я посадил всех троих к себе на колени, обхватил их своими большими руками и прижимался по очереди щекой к их белокурым головкам.
Лаури и Марта сильно вытянулись за эти годы. Теперь в школу они ходили вместе.
Эльза немножко сдала. Щеки ее уже не распирало так, как прежде, но румянец с них еще не совсем сошел. В глазах ее сохранился все тот же веселый, насмешливый огонек. И губы ее были по-прежнему полные и мягкие. К ним я тоже прикасался время от времени щекой и губами. Все было мне близким, родным, нераздельным.
Она спросила, почему я так долго не писал, но я ничего не ответил. Зачем было ее огорчать? Это был весь мой мир, который я обнимал руками в тот вечер. Ради этого мира я жил на свете и трудился. В нем была вся моя радость.
А Эльза гладила мои опавшие щеки и рассказывала понемногу все новости, какие совершились тут без меня.
Херра Куркимяки уже достраивал молокозавод и мельницу. Это будет крупное хозяйство со своим электричеством, гораздо крупнее, чем у Похьянпяя, который все еще крутит свой сепаратор лошадью. А пока молоко идет к Похьянпяя. По-прежнему на машине приезжает за бидонами Эльяс. Ведь он раньше всех вернулся из армии домой и теперь рассказывает такие вещи про то, как они рыскали по лесам и болотам, что прямо мурашки по спине пробегают, когда его слушаешь. Он вставил себе один золотой зуб, и когда улыбнется, то девки оторваться не могут…
Я сказал Эльзе:
– Ты про мельницу и молокозавод начала говорить.
Она сказала:
– Да, мельница будет большая, и молокозавод тоже наподобие крупной фирмы Викстрем. Хозяин говорит, что все молоко из деревни Суокюля и с фермы Антти Косола будет у него. Кроме того, он и сам имеет уже порядочное стадо коров. За время войны купил девять коров и еще купит. Лошадь купил, свиней четыре штуки, овец двенадцать штук и птичник завел. Ведь русских у него совсем недавно отобрали. Весь прошлый год они работали на стройке, пахали, сеяли, убирали и молотили. Они же пробили в камне русло для второго ручья, который вольется в наш. Осталось только прокопать небольшую перемычку, чтобы слить их вместе. А двух ручьев хватит, чтобы двигать все его хозяйство. Так ему сказал инженер, которого Вихтори привез из Хельсинки. Русские дешево ему обошлись. Если бы они не ухитрялись делать потихоньку разные коробочки, корзиночки, портсигары, браслеты, игрушки из жести, дерева и коры и обменивать их у наших крестьян на картошку, рыбу и хлеб, то они не выдержали бы такой жизни. Ведь на день они получали только четыре куска няккилейпя и пол-литра снятого молока. А сейчас у нас ингерманландцы. Вихтори привез четыре семьи. Поместил их у Пааво. Ведь он один остался во всем доме после ухода Кэртту. Где ей было выдержать, если на каждую из нас приходилось уже по пятнадцать коров. А когда у нас поселились ингерманландцы, мне сразу легче стало. Со мной стали работать две женщины и три девушки. А мужчины с Пааво. Он молодец. Золотые руки. Он успевает делать все – и в кузнице, и на конюшне, и на постройке. Но пьет по-прежнему каждое воскресенье. Пьет, кашляет и сохнет, стареет понемногу. Сейчас он старший на работах. Но это уже не надолго. Ингерманландцы тоже уходят. Приезжал из Хельсинки какой-то русский военный представитель и спросил их, хотят ли они вернуться на родину. И они все в один голос: «Хотим, хотим!» Видно, что истосковались они по ней. Я по женщинам сужу. Повеселели сразу, как только узнали, что их домой пустят. Еще бы! Они там где-то возле Пиетари жили. Землю имели. А здесь кто же им землю даст, если свои без земли? И даже я рада за них, хотя не знаю, каково-то мне без них теперь достанется. Завтра грузиться начнут…
– Завтра?
– Да. С утра.
Я осторожно снял их всех со своих колен.
– Давайте спать, а то опоздаю к ним утром.
Она удивилась:
– Ты же хотел дня четыре никуда не ходить.
– Схожу к ним утром.








