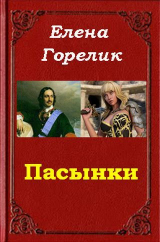
Текст книги "Пасынки (СИ)"
Автор книги: Елена Горелик
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
Неведомо, что ответил бы ему Пётр Алексеич, но дверь тихонечко отворилась, и в неё бочком, чтоб ничего широкой модной юбкой не задеть, с тихим шорохом скользнула дама. В первый миг Данилыч её не узнал. Дама как дама. Платье, правда, красивое, дорогого шёлка и с отделкой из тончайших брюссельских кружев. Причёска тоже обычная – золотистые волосы пышно взбиты вверх и красиво уложены, только несколько завитых прядей ниспадают на плечи. На груди сверкает колье – изумруды с бриллиантами – а в волосах такой же венчик. По зелёным глазам и острым розовым ушкам разве принцессу и признал. Признал – и восхитился. Хороша, стерва, до чего же хороша…
Альвийка, несмотря на роскошный наряд, выглядела стеснённой и немного растерянной.
– Хороша ты, лапушка, – Пётр Алексеич, всегда скупой на искренние похвалы женщинам, не стал сдерживаться, признал очевидное теми же словами, что только что мысленно произнёс светлейший. – До чего же хороша… Вижу, расстарались бабы на славу.
– Они зачем-то сделали меня в два раза тоньше, – тихо, словно боясь глубоко вдохнуть, сказала принцесса, указав на свою талию, затянутую в тугой корсет. – Видимо, решили, что моя фигура недостаточно стройная, а глаза недостаточно большие… Скажи, Петруша, я теперь всегда должна буду так одеваться?
– Увы, – Пётр Алексеич словно забыл о светлейшем, всё внимание обратив на альвийку. За ручки её взял, ишь ты, и глядит ласково. – Таковы моды европейские. Станешь императрицей – новую моду придумаешь, коли пожелаешь.
– Придётся, не то помру от удушья. А корсет приравняю к пытке, и велю в него пойманных заговорщиков затягивать… Доброго вам утра, князь, – уныло поприветствовала светлейшего невесёлая невеста.
– И тебе доброго здравия, твоё высочество, – заулыбался Данилыч. – Ты уж вытерпи сей денёк, а там модисток муштровать станешь, чтоб переделали платье по-твоему. Мою Дарью видала ведь? Дама в теле, а в такую струнку утягивается – самому страшно. И ничего, терпит.
– Мне такое не привычно, – ещё печальнее сказала альвийка. – В этом…платье я совершенно беспомощна. Напади кто, даже убежать не смогу, не то, что биться.
– На случай, ежели нападёт кто, у нас полный город войска, отобьёмся как-нибудь, – отшутился государь, откровенно любуясь княжной. – Ну, идём, лапушка. Скорее управимся – скорее от корсета избавишься.
– Это радует, любимый… Что ж, идём. Я вытерплю.
Принцесса, оперевшись на любезно подставленную руку Петра Алексеича, с такой нежностью улыбнулась ему, что у светлейшего защемило где-то там, где должна быть душа. Впервые в жизни он завидовал другу-царю не оттого, что он царь, а оттого, что на оного друга с любовью смотрит такая красивая женщина. Впрочем, Данилыч не обольщался. Если государь сейчас похож на стареющего льва, то эта дама отнюдь не кошечка, каковой её ошибочно полагают окружающие. Львица она. Ещё достаточно молодая и сильная, чтобы разорвать любую добычу.
Само собою, светлейший оказался прав. Дважды тащиться по метели, пусть и в каретах, до церкви и обратно пришлось под тихий, но различимый чутким ухом гул. То разноголосо и разноязыко матерились вельможи с послами. Гвардейцам, сопровождавшим кортеж верхами, приходилось куда хуже, но те если и ругались матерно, то в мыслях, языка не поганили. Принцесса же была на высоте. Ни словом, ни взглядом не показала, что страдает от тесного корсета, хотя старалась поменьше двигаться. Отныне её следовало титуловать императорским высочеством – обручённая царская невеста ещё до свадьбы официально становилась членом правящей семьи. Но если помолвку расторгали, а такие случаи в истории семейства Романовых были, то несчастная девица становилась хуже зачумлённой. Её ссылали в глушь, её десятой дорогой обходили свахи и соседи, и она умирала в тоскливом одиночестве. Впрочем, судя по настроению государя, идти по дедушкиным и батюшкиным стопам, перебирая невестами, он не собирался. Остроухая тоже своего не упустит. Вон как в его руку вцепилась, не оторвёшь. Притом улыбается царедворцам, кои ей кланяются, с такой светлой радостью, что ей даже можно поверить. Что значит – не простая дворянка, а урождённая принцесса. Такая будет, улыбаясь тебе в лицо, против тебя же ковы строить. И, судя по кислым физиономиям послов, многие из них это уже уразумели.
Интересно, поняли ли они замысел Петра Алексеича? Должны бы уже, ведь не слепые.
Альвы тоже хороши. То от принцессы своей, во грехе живущей, носы воротили, теперь кланяются. Ну, эти-то хоть не подобострастно, как иные, а потрясённо. Ну, ничего, поживут среди людей, обтешутся.
Празднество длилось чуть ли не до полуночи и, едва метель утихла, завершилось фейерверком. Государь с невестой к тому времени давно уже покинули гостей.
«Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает» – начертано на ордене Подвязки, несмотря на его легкомысленное происхождение. Так и нынче – да будет стыдно тому, кто подумал, будто Пётр Алексеевич вместе с княжной Таннарил прямо с празднества помчались в спальню. Увы, придётся разочаровать. Раннэиль только сменила парадное платье на домашнее, альвийское, и после того они оба отправились… правильно: к лежавшим в жестокой простуде царевнам. Лиза, та больше всех жалела, что из-за каких-то соплей и кашля лишилась возможности покрасоваться на балу. Наташа хныкала и шмыгала носом, жалуясь на головную боль. Унылый лазарет, да и только. Но вот с батюшкой им повезло: он обладал редкой способностью заражать своим настроением всех окружающих, не суть важно, какое это настроение. Сегодня у него была радость. Дочери, спустя совсем небольшое время, слушали его рассказ о празднестве и радовались вместе с отцом, решившим хотя бы этот вечер отдать семейству. Перепало нежданной дедовской ласки и нелюбимому внуку, лежавшему в такой же простуде в соседней комнатке. «Ты выздоравливай, Петруша, не огорчай нас…»
Словом, почти что идиллия. Крайне редкая картина в семье Романовых.
А поутру, как обычно, навалились дела. Зима выдыхалась последними морозами, и уже сейчас требовалось решать насущные проблемы флота, не дожидаясь тепла. А у флота были проблемы. Воюя со Швецией – а по сути ещё и с англичанами, стоявшими за спинами шведов – Пётр спешил строить корабли. Как можно больше кораблей. Оттого гнали их из сырого леса, и каждую весну выяснялось, что несколько судов непригодны к выходу в море. Два года мира позволили сделать кое-какие запасы, но по правилам кораблестроения требовалось сушить лес самое меньшее лет пять. Притом не в Петербурге, а где-нибудь в другом, менее сыром и более тёплом месте. Пока такое местечко сыскалось в Казани. Там же и заложили полтора года назад склады с корабельным лесом. Но полтора года – не пять, и даже не три, если уж совсем невмоготу станет. Мало. Строить корабли из такого – всё равно, что прямо с лесосеки брёвнышки возить. Результат будет столь же плачевным. Оттого следовало ужом извернуться, но добыть ещё два-три мирных года для страны. Лучше – все пять, но то уже если повезёт.
Анализируя события последних дней, Раннэиль пришла к выводу, что Пётр Алексеевич, подавив дворянский заговор и нанеся огромный урон европейской дипломатии в лице местных конфидентов оной, тем самым делал Европе некое предложение. Мол, я ваш хвост могу и ущемить, ежели понадобится, так давайте лучше договоримся по-хорошему. Она укрепилась в своём мнении, когда Пётр Алексеевич показал ей собственноручно писаное послание венскому императору Карлу Шестому. Тоном военной реляции российский император излагал австрийскому коллеге обстоятельства, по которым нахождение посла фон Гогенгольца в Петербурге не желательно, ибо упомянутый более вредит общим интересам обеих империй, нежели способствует согласию. Теперь австрияку придётся заменить посла на кого-нибудь поумнее, а этого ещё и примерно наказать. Накажут его наверняка не за то, что способствовал заговору и покушению на царствующую особу, а за то, что попался, но главное результат, а не предлог. А с новым послом разговор будет несколько иным, чем со старым, придётся имперцам кое в чём Петру уступить. Такое положение государя вполне устраивало, особенно в свете возросшей активности английских дипломатов в Копенгагене и Потсдаме, и нездоровых шевелений Версаля. Плохо было одно: австрийский канцлер фон Зитцендорф был противником союза с Россией, и пока его позиция оставалась достаточно сильной, чтобы тормозить переговоры. Это Раннэиль уже знала, за довольно небольшой срок усвоив те основы, без которых лучше в европейскую политику не лезть. Изменить расклад сил могли только некие события на востоке, способные сподвигнуть турок на попытку захвата Белграда, и, если княжне не отказала её альвийская проницательность, Пётр Алексеевич этого явно ожидал.
Но то были дела внешние. Что же до внутренних, то есть до следствия над заговорщиками, надобно было привести все документы в порядок за оставшиеся до отъезда два дня. Картина заговора и так была ясна, но из показаний подследственных нужно было составить обвинительное заключение для будущего суда, и чтоб комар носа не подточил. Самая работа для княжны-дознавателя. А тут как раз сообщили, что в крепость из мастерских доставлена дюжина новых пушек на замену списанным в гарнизоны. Не было средства вернее вытащить Петра Алексеевича из бумаг: пушкарское дело он любил самозабвенно, и лично проводил опасные испытания новых орудий. Пушка обязана была выдержать выстрел четверным пороховым зарядом, только после того её принимали на вооружение. Иногда случались и конфузы, пушки разрывало. Но, что странно, при том страдал кто угодно, кроме императора. «Заговорённый», – шептались солдаты, мелко крестясь при виде царя, явившегося принимать новенькие, ещё блестящие орудия. И, пока он играл в любимые игрушки наверху, княжна проследовала в Тайную канцелярию. Именно там сейчас хранились папки с материалами по делу Долгоруких-Голицыных.
Экстракты из показаний было составить нетрудно, благо, имелся богатый опыт. Княжна выписывала нужные формулы, стараясь не обращать внимания на грохот, доносившийся через все стены и перекрытия. Господин Ушаков, уступивший даме свой письменный стол, комнаты не покинул. Перечитывал проработанные ею показания и сверял с приложенными выписками. Судя по его немного удивлённому лицу, пока всё сходилось. Андрей Иванович явно не мог привыкнуть к тому, что знатная дама, принцесса, невеста государева – и вдруг занимается сыскным делом. Но должное её умению всё же отдавал.
Наверху снова громыхнуло.
– Это всё, – с облегчением вздохнула Раннэиль, откладывая в сторону последнюю папку. – Говорили ли подследственные что-либо, помимо записанного здесь?
– Алёшка Долгоруков второй день просит, чтоб государь его выслушал, – ответил Ушаков, бегло просмотрев последний экстракт и одобрительно кивнув. – Покуда его императорское величество здесь, можно было бы передать ему просьбу сию.
– Я слышала девять выстрелов, – вздохнула княжна. – Пока Пётр Алексеевич не выстрелит из всех двенадцати пушек, к нему лучше с такими просьбами не подходить. Но я сама готова выслушать Алексея Григорьевича. И даже задать ему один вопрос, который не даёт мне покоя со дня его ареста.
Полномочия альвийки имели своим основанием всего лишь устное распоряжение государя, но для Ушакова этого было достаточно.
– Сей же час распоряжусь, чтобы его доставили в допросную.
– И чтобы Петру Алексеевичу, как покончит со стрельбой, передали про то, – добавила княжна.
– Само собою, матушка…
Всё тот же подвал, всё те же скамьи, грубый стол, страшного вида железяки в очаге. Только очаг тот не зажжён, железяки холодны, палачей нет. На столе кружка с водою, несколько чистых листов бумаги и дешёвый оловянный письменный прибор с перьями. Когда княжна спустилась вниз, арестованного уже доставили. Поскольку пыткам он подвержен не был – альвийка буквально вывернула его наизнанку без единого шлепка – князя Алексея стерегли два вооружённых до зубов солдата-преображенца в мундирах и треуголках фузилерной роты. Ничего не поделаешь, приказ государев.
– Ну, и слава богу, – с тяжким вздохом проговорил Алексей Григорьевич, увидев княжну в дверях. – Где матушка, там и батюшка недалече. Верно ли, Анна Петровна?
Вид у него был подавленный. Мало того, что сам себя по доброй воле оговорил, отчего страдал душевно, так и не мылся, не брился почти трое суток. Тяжёлого запаха, который в заключении копится месяцами, пока не было, но чуткий нос Раннэиль уже улавливал его зарождение.
– Верно, Алексей Григорьевич, – учтиво, словно на ассамблее, ответила альвийка, присаживаясь за стол напротив арестованного. – Государь изволит быть здесь немного позже. А я, открою вам маленькую тайну, только что перечитывала ваше дело.
– Занятное, должно быть, чтение, – криво ухмыльнулся князь.
– Ничего особенного. Поверьте, это не первое и даже не десятое дело подобного рода, что мне приходилось вести за свою жизнь. Ах, Алексей Григорьевич, чего только не случалось за эти три тысячи лет… – княжна словно углубилась в воспоминания о старых добрых временах родного мира. – Там мне приходилось иметь дело с подследственными-альвами. В крайнем случае – с гномами. Те ещё упрямцы, но и их можно разговорить, умеючи. И всё же там, на родине, ведя следствие, я хорошо представляла себе мотивы преступников. Зная сие, проще дознаться истины. В вашем случае мотив не очевиден.
– Значит, плохо ты людей знаешь, матушка.
– Не стану этого отрицать. И всё же, чего вы добивались на самом деле, Алексей Григорьевич? Убрать императрицу, убрать меня, доконать Петра Алексеевича, усадить на престол его внука – это очевидное. Но дальше-то что? Вы рассчитывали править империей, управляя мальчиком? Значит, вы переоценили свои силы. Два, от силы три года – вот каков был бы срок правления Долгоруких.
– А это тоже не очевидно, матушка, – хмуро возразил опальный князь. – Кабы зажали бы всех в кулаке, то и было бы всё наше.
– У вас, простите, кулак для того слабоват, – иронично усмехнулась княжна, чуть подавшись вперёд. – Времена нынче такие: за кем армия, с тем и сила. Мальчик рано или поздно это понял бы. Или нашёлся бы, кто подсказал. А вы, родовитые, армию не жалуете, ибо она – та лесенка, по которой талантливые мужики во дворяне выходят, вас тесня. Это большая ошибка, Алексей Григорьевич. Но вернёмся к нашим…вернее, к вашим мотивам. Чего вы добивались не в частности, а вообще? Какова конечная цель?
– Подумай, матушка, – последовал ответ. – Вижу, что умна ты не по-бабьи, так и догадайся, чего я хотел.
Играть в угадайку княжна не очень любила, но умела. Здесь достаточно было сложить все известные ей факты о семействе Долгоруких и проанализировать поведение Ивана, которого и до этой истории знала лично.
– Вольности, – сказала она, потратив на размышления не более минуты. – Вы хотели добиться шляхетских вольностей.
– Вестимо, – погрустнел князь. Наверное, не ожидал такого скорого и точного ответа. – Каждая собака знала, что я много лет был посланником в Варшаве. И все те годы думал, как бы у нас, сиволапых, завести вольности для шляхетства, как в Польше. Тогда, глядишь, и зажили бы не хуже гоноровых, а то и получше.
– Что-то ваши рассуждения о вольностях для шляхетства не слишком сочетаются с намерениями «зажать всех в кулаке», – подловила его княжна. – Это во-первых. Во-вторых, вы знаете, как в Европе, да и у нас тоже, ставят здания от казны. Возведут красивый фасад, а задки обыватели потом за свой кошт достраивают, над каждой копейкой трясутся. С лица получается ладно, а с заднего двора – сплошное непотребство. Но вы, в каретах разъезжая, на задние дворы не заглядываете. Для вас Европа – это красивенький фасад. Мне же довелось два года созерцать её с того самого заднего двора. В Польше дела обстоят ещё хуже, и знаете, почему? Всё из-за тех же вольностей шляхетских. Сами поляки говорили мне: нет в мире людей счастливее наших панов и несчастнее нас. Шляхетские вольности – это сорняк, пьющий соки из страны. И этот сорняк вы, простите, желали пересадить на русскую грядку?
– Может, ты и права, матушка, – Долгоруков сделался мрачнее тучи. – Но тебе-то, принцессе высокородной, какое дело до черни? Мужичьё наше не в кулаке – в цепях держать потребно, с рождения и до смерти. И бить смертным боем, с виною или без оной, чтоб даже помыслить о непокорстве боялись. Да и дворянчики голоштанные тоже источник смуты, к ногтю бы их прижать. Тогда и бунтов никаких не станет. А то развёл государь эту… Табель о рангах, чтоб она сгорела, мужичьё подлое шпагами обзаводится… Не было б сего непотребства, так и было бы благолепие.
Раннэиль ничем не показала омерзения, но сейчас посредством этого небритого князя с нею говорило то самое дремучее варварство, какое она прежде замечала в некоторых альвах. И от которого предостерегал отец. На усатых лицах солдат, кстати, отразилось отвращение: мелкотравчатые дворяне либо те самые выслужившиеся мужики терпеть не могли родовитых за их запредельную спесь. Полное непонимание – или нежелание понимать, что по сути то же самое – элементарных основ государственности создавало опасную иллюзию, будто страна может прожить без «подлого люда». Между тем, калачи не на деревьях растут, и хлеб земледельца горек от пролитого пота. В случае альвов – труд садовода тоже не прогулка по полянке. Мало просто бросить зерно в землю и праздно дожидаться урожая, там руки нужно приложить, и в немалом количестве. О ремёслах и вовсе речи нет, кроме рук ещё и голова на плечах требуется. А эти… сиятельные варвары, не знающие, откуда берётся снедь в их тарелках, да и сами тарелки тоже, изволят рассуждать о том, как обустроить державу. Альвийские княжества, управлявшиеся такими вот долгоруковыми, жили недолго. Польше тоже светит незавидная судьба, там деградация государства зашла так далеко, что даже медицина бессильна. Но России такой судьбы Раннэиль не желала. С некоторых пор.
– Вы заблуждаетесь, – холодно произнесла она, вставая. – Это я вам говорю с высоты своих трёх тысяч лет. Но ваш мотив я поняла. Благодарю за откровенность, и более не считаю нужным продолжать нашу беседу… Уведите подследственного, – это уже солдатам.
– Но государь же… – начал было Долгоруков, повисая на руках дюжих гвардейцев.
– Я передам ему вашу речь, дословно, – мрачновато пообещала княжна. – Если он пожелает, велит снова привести сюда и выслушает лично. Но я бы на вашем месте на это не рассчитывала.
Табель о рангах – одно из любимых детищ Петра – была так ненавидима родовитыми, что, удайся Долгоруким заговор, стала бы первой жертвой. Да за такое намерение государь своими руками бы удавил, а княжна не стала бы вмешиваться в процесс. Теперь она куда лучше понимала не только мотивы Долгоруковых, но и мотивы своего возлюбленного, желавшего посадить родовитых на ту же сворку, что и «подлых со шпагами». Сломать «дикого барина», заставить его служить отечеству, а коли не может или не хочет, пшёл вон в солдаты, дурак. Превратить дворянство в реку, питаемую многими ручьями, вместо гиблого болота.
Болото, как и следовало ожидать, сопротивлялось. Ничего удивительного, что княжна после разговора с Алексеем Долгоруковым чувствовала себя испачканной.
На стену она поднялась как раз после двенадцатого выстрела. Судя по отсутствию металлических обломков и стонущих раненых, обошлось без происшествий, мастера не подвели. О том же яснее всяких слов говорил довольный вид Петра Алексеевича. Княжна не стала скрывать вздох облегчения: помешать государю рисковать собственной головой ради военных забав она не могла при всём желании, оставалось только молиться богу, чтобы сохранил его жизнь и здоровье. И уж последнее дело при этом показывать свой страх. Улыбаться, и, вслух порадовавшись за удачное завершение дела, деликатно взять его величество под руку.
– Сожалею, господа, – промурлыкала княжна, радостно улыбаясь офицерам, – что вынуждена похитить у вас Петра Алексеевича, но увы, возникло некое дело, не терпящее отлагательства.
Офицеры, давно и неплохо знавшие государя, поёжились: прежде такие бесцеремонные попытки оторвать его от любимого дела плохо заканчивались. Допустим, женщину бы материть не стал, уж тем более по уху бить, но вполне мог рявкнуть что-то вроде: «Поди вон, дура!» Но вслед за испугом им пришлось пережить потрясение. Государь не только не послал дамочку подальше, но и одобрительно кивнул ей, и даже позволил отвести себя в сторонку… Что творится-то, люди добрые?..
– Ну, что там стряслось? – поинтересовался Пётр Алексеевич, едва они спустились в кабинет Ушакова, выставив его владельца: «Поди делами займись, Андрей Иваныч». – Я ж тебя знаю, по пустому не стала бы тревожить.
Улыбка исчезла с лица альвийки, словно ветер свечку задул.
– Князь Алексей хотел говорить с тобой, – сказала Раннэиль, не скрывая оттенка тревоги в голосе. – Если хочешь, вели привести его в допросную, но…
– Но ты с ним сама уже поговорила. Так, Аннушка?
– Да, Петруша. И… я хотела спросить, верно ли, что ты его к казни готовишь?
– Алёшку-то? Само собой, – хмуро подтвердил государь. – Нешто ты за него просить взялась?
– Нет, родной мой. Наоборот, я буду настаивать на его казни, даже если ты решишь его помиловать. Ибо с этого дня он мой личный враг.
– Что он тебе сказал?
Не голос – раскат грома, пока ещё отдалённый.
Раннэиль, исполняя обещание, данное князю Долгорукову, дословно и без отсебятины передала его сентенции. Те самые, что возмутили её до глубины души.
– Ну и дурак он, – фыркнул Пётр Алексеевич, выслушав её. – Один раз дурак, что так думает, и дважды дурак, что так говорит.
– А кто он, если так поступает?
– Изменник, само собою. Я таких давил и давить буду, пока живу. А они меня ещё не скоро в гроб загонят.
– Долгорукие никогда не простят тебе того, что ты не пошёл у них на поводу, – негромко и мрачно проговорила княжна, отвернувшись к оконцу. – Ты хочешь казнить князя Алексея, а прочих сослать, лишив чинов, званий и имущества. Но обстоятельства со временем меняются, и сосланные могут вернуться. Насколько я смогла понять Долгоруких, они сами не переменятся никогда. Те, кто доживёт до возвращения, примутся за старое, учтут прежние ошибки, и с этой напастью придётся бороться снова… Голицыны куда умнее. Они уже поняли всё, что нужно было понять, и больше никогда не восстанут против тебя. Алексей Долгоруков, даже сидя в подвале Тайной канцелярии, мечтает о шляхетских вольностях, но только для одной своей семьи. Прочие ничуть не лучше, вспомни его братца.
– От меня-то ты чего хочешь, Аннушка? Чтоб я их всех на плаху отправил? – хмуро поинтересовался государь.
– Нет, Петруша. Этим ты отвратишь от себя даже тех из знатных, кто тебе верен.
– Разумение у тебя есть, – Пётр Алексеевич немного смягчил тон. – Но и твоя правда: Долгоруковы не угомонятся. Прополоть бы сей огородик, уж больно запущен… Ты давеча что-то там говорила на предмет дальнего пути, и что, мол, всякое может случиться? – он подошёл и приобнял княжну за плечи. – Вроде как и помилованы они будут, а…не вернутся уже.
– Кое в чём они тоже правы, любимый, – совсем тихо сказала Раннэиль, печально улыбнувшись. – Мы с тобой друг друга стоим.
– Плохо ли нам от того, Аннушка?
– Нет.
– Так о чём печаль?
Раннэиль хотела было ответить: «Уже ни о чём», – но не смогла. Что-то, словно червь, вгрызлось в душу и не давало покоя. Не помогли о том забыть ни разговоры в карете о делах насущных, но не столь грустных, ни поцелуи, ни завал из бумаг, ждавший их в «кабинетце». Все, зная, что царский обоз скоро должен отправиться в Москву, словно сговорились утопить его величество в письмах, рапортах и доносах. Пришлось разбирать этот бумажный вал хотя бы на предмет того, что подлежит немедленному рассмотрению, а что можно отложить до возвращения или оставить на Макарова. Понимая неподъёмность такой работы – уже через полчаса стало ясно, что не управятся до самого отъезда – Пётр Алексеевич махнул рукой, озадачил свою красавицу и секретарей, а сам пошёл распоряжаться насчёт сборов в дорогу.
Княжна сбежала к нему в третьем часу пополудни, её терпение тоже оказалось не бесконечным.
– Всё, – выдохнула она, потирая пальцами ноющие виски. – Сил моих нет, Петруша. Не могу больше читать доносы твоих верноподданных друг на дружку.
– В особенности зная, что написанное – правда, – со странной весёлостью ответил Пётр Алексеевич, которого альвийка застала за личной проверкой готовности карет и саней.
Готовность была, как обычно, в лучшем случае наполовину, хотя, странное дело, его это почему-то не злило.
– Бог с ними, Аннушка, лучше вели, чтоб нам в малые палаты обед подали.
Малыми палатами он называл несколько маленьких комнат с тесным кабинетом, находившиеся на первом этаже. Эдакие личные апартаменты, где он мог отдохнуть телом и душой от чего угодно – от государственных дел, семейных неурядиц или обыкновенной хандры. Пётр Алексеевич не посещал их с тех пор, как учредил Верховный тайный совет. По возвращении в Петербург после болезни он поселился в верхних комнатах, откуда выставили опальную Екатерину, и там же жил по сей день вместе с княжной Таннарил. Потому малые палаты можно было счесть тихим местечком, где вполне уместно спокойно пообедать. Государь велел выставить у дверей караул, чтобы уж точно никто не помешал.
Обед был немудрёный: супчик с гренками да варёное всмятку яйцо. Пётр Алексеевич даже пошутил, что княжне удалось-таки сделать из него образцового бюргера. Но от его взгляда не укрылось, что она, скажем так, немного не в духе.
– Что тебя тревожит, лапушка?
Вопрос был задан посреди невиннейшего разговора о кулинарных пристрастиях германских горожан, и княжна невольно вздрогнула.
– Три слова, родной мой, – сказала она, невесело поглядев за окно. – «Как в Польше».
– Да полно тебе думать о негодяе Алёшке Долгоруком, – покривился император. – Забудь. Ему всё одно голову снимут.
– Беда в том, Петруша, что не он один такой, – княжна снова потёрла виски, словно у неё болела голова. – Он хочет видеть здесь Польшу. Остерман – Австрию. Бестужев – Англию… Почему Россия никому не нужна? Страна не хуже других, мне есть с чем сравнить.
– Вот ты о чём, – хмыкнул Пётр Алексеевич. – Потому и не нужна, что за Россию им никто не заплатит.
– Даже ты?
– Они не дети малые, чтоб мать родную за сласти любить.
– Остерману Россия не мать, его, немца, хотя бы понять можно. Я бы ещё поняла альва, сетующего, что здесь хуже, чем у нас на родине. Мы – пасынки России. Но почему некоторые русские от матери своей отрекаются? И не просто отрекаются, а и убить хотят? Этого я постичь не в состоянии. Наверное, дура.
– Вот и не суди о том, чего не постигла, – менторским тоном ответил Пётр Алексеевич. – Поживёшь тут, освоишься, тогда и понимать начнёшь.
– Так помоги мне понять, любимый. Что их так привлекает? Только красивый фасад, за которым, если потрудиться заглянуть – грязь и кровь?
– Дуракам да ленивым того хватает, – вынужден был согласиться государь. – Однако же и доброго в Европе немало, что перенять не стыдно. Вот к чему я сам стремлюсь, и стремление то в других побуждаю.
– Может, и побуждаешь, – невесело усмехнулась княжна. – Да только просыпается не то, что следовало бы. Они видят, как ты строишь Амстердам на Неве, и думают, что это и есть главное. Фасад, которым можно торговать, навешивая на него то один герб, то другой. Это польский путь. Для России однозначно гибельный. Но будет ли хорошо России, если она пойдёт по голландскому пути?
– Не тебе о том судить, Анна.
Когда Пётр Алексеевич называл её просто Анной, это означало, что он раздражён. Что она, вольно или невольно, задела его за живое. Таких случаев Раннэиль припоминала всего два. Сегодня – третий.
– Голландцы свой шанс давно упустили, – тихо сказала она. – Ты рассказывал. Теперь они тень себя самих. Нужен ли нам путь, что ведёт к поражению?
– Не тебе о том судить! – гневно повторил Пётр Алексеевич, впервые за всё время повысив на неё голос. – Что будет делать Россия, как будет жить Россия, и каким путём пойдёт Россия – решать буду я, император всероссийский! А тебе бы лучше помолчать! Вы свою империю, видать, от великого ума прос…ли, и не тебе поучать меня, какой путь выбирать!
Не слова – удар наотмашь, да по больному месту. Потрясённая княжна не могла понять, что его так взбесило. Неужели она тоже ударила его по больному месту? Но где? Что она сказала обидного?.. Тем не менее, нельзя было позволить их размолвке скатиться до банального скандала. Тысячелетнее придворное воспитание взяло верх над эмоциями.
– Как будет угодно вашему императорскому величеству, – безупречным аристократическим тоном произнесла она, склонив голову.
Не такого ответа он ждал, явно не такого. Издав нечто, похожее на злой рык, Пётр Алексеевич швырнул полотняную салфетку в тарелку, порывисто поднялся и, опрокинув стул, ураганным ветром вынесся за дверь.
Март этого года, 1725 от Рождества Христова, выдался не то, чтобы особенно богатым на события, но скучать не приходилось никому.
Австрия, несмотря на утрату Габсбургами испанского трона, не утратила влияния на эту страну. Насколько было известно, давно шли переговоры о военно-политическом союзе, но никто, кроме нескольких человек в Вене и Мадриде, не мог точно сказать, насколько близки стороны к подписанию итогового договора. Зато одна лишь перспектива его заключения заставляла нервничать страны Северной Европы, и, конечно же, англичан. Впрочем, англичан нервировало буквально всё, что разыгрывалось не по их нотам. Дипломаты Георга активно обрабатывали датского короля Фредерика, то суля выгоды, то завуалировано угрожая. Они же не вылезали из Стокгольма и Потсдама, стремясь залучить в свой союз Швецию и Пруссию, а Август Саксонский сам тайно от всех слал письма в Лондон. В Версаль он, впрочем, тоже писал, равно как и в Вену, и в Петербург, всем жалуясь на разорение.
Словом, прорисовывались контуры большого европейского раскола, и всё зависело от позиции двух держав, располагавшихся по обоим флангам континента. Франция слыла не просто католической, а фанатично католической страной, но в войнах последних ста лет как правило примыкала к союзам, где большинство государств были протестантскими. К тому же, Версаль неизменно поддерживал турок и зависимых от Порты магрибских пиратов. Хотя от последних страдало средиземноморское побережье Франции, а политесы с османами постоянно осложняли отношения с Австрией – на Россию и её протесты Версаль традиционно смотрел сквозь пальцы – французы продолжали строить корабли для турецкого флота, поставлять пушки и военных консультантов в турецкую армию, и отсылать султану богатые подарки. В последнее время активность в этом направлении даже усилилась. Глядя на это безобразие, Россия вполне логично готовилась к войне, и эта же логика подталкивала её к союзу с Австрией – а в свете вышеописанных перспектив, и с Испанией. Самое смешное, что в Версале это знали, но опять же традиционно не уделяли должного внимания, искренне считая Россию чем-то вроде большого кочевого стойбища. Зато в других европейских столицах к возможному присоединению России к союзу двух католических держав относились намного серьёзнее. Настолько, что датского посла в Петербурге то и дело запрашивали на предмет, не выяснил ли он чего-нибудь нового об этих переговорах.







