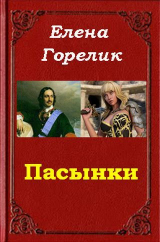
Текст книги "Пасынки (СИ)"
Автор книги: Елена Горелик
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
– Мне никогда не нравились твои авантюры.
– Зато они всегда были результативны, мама. Отец это ценил.
Фамильный цинизм не подвёл. При одном упоминании об отце мать замолчала, только выше вздёрнула острый подбородок.
– Делай, как знаешь… Полотенца мне! – приказала она какой-то девушке.
Всё, что смогла противопоставить упрямой дочери старая альвийка – ответить ей по-русски, на языке, который Раннэиль знала очень плохо. Но дочь её поняла. Положила наконец поношенную треуголку на подоконник и, аккуратно засучив рукава платья, принялась разводить в тазу с водой крепкий травяной отвар из маленького кувшинчика.
На мать она больше не смотрела. Зачем? Их отношения были окончательно прояснены многие сотни лет назад, и мало что могло бы их изменить в лучшую сторону. Но главное сделано: княжна сделала первый шаг за порог неизведанного. Ввязалась в авантюру, как выражалась матушка.
Следующие несколько часов она почти не помнила. Кто и что делал – всё подёрнулось серым туманом. Остались только ощущения. Вот их-то княжна запомнила крепко, на всю жизнь.
Самым страшным казалось ей то, что этот человек едва ли не до рассвета, когда жар наконец спал, и он смог забыться во сне, был в полном сознании. И в моменты, когда его трясло от лихорадки, и когда его бил тяжёлый грудной кашель, и когда лишился голоса, и когда одолевала дикая слабость, уносившая силы вместе с потоками плохо пахнущего пота – его разум ни разу не затуманился. Глаза оставались ясными, в них жила мысль, пусть мрачная, но вполне рассудочная. Глаза не лгут. Но княжне казалось, что лучше бы он метался в бреду. По крайней мере, дух не страдает вместе с телом.
Этот человек явно считал иначе, и употребил все духовные силы на то, чтобы не провалиться в неведомый альвам мир человеческих грёз. Зачем?
А кроме того – если, конечно, ей не показалось, если она сама не впала в горячечный бред – этот человек что-то ей говорил… От спёртого воздуха и запаха болезни у самой княжны невероятно разболелась голова. Она вспомнит, что слышала, после, когда в том действительно будет необходимость.
Княжна действительно мало что смыслила в целительском искусстве, и для неё действия матери были сродни магии. Непонятно, как, но работает. Матушкины медовые отвары и растирки сделали своё дело. Они не столько уничтожали болезнь, сколько давали телу больного силы ей сопротивляться. Впрочем, на этом принципе была основана вся альвийская фармакопея. Сюда бы ещё парочку сильных амулетов, и исцеление стало бы делом недели, от силы десятка дней. Но этот мир лишён магии, и путь к выздоровлению займёт у государя не меньше месяца. Да и после того, если верить словам матушки, ему придётся ограничивать себя в еде, напитках и…прочих привычках, вроде курения табака. К лечению приступили буквально в последний момент. Ещё день-другой, и не спасла бы никакая медицина. Тем не менее, кризис миновал. О том и лейб-медик, немец, и матушка-княгиня вслух не говорили, но Раннэиль даже в неверном свете многочисленных восковых свечей видела, как просветлели их лица. Смысл фраз, которыми время времени обменивались целители, не дошёл бы до воительницы, даже если бы они говорили по-альвийски или по-немецки, но глаза-то в самом деле не лгут.
Этот человек переборол болезнь, и пойдёт на поправку. И княжна, заготовлявшая новую порцию пропитанных целебным отваром полотенец, с огромным трудом сдерживала улыбку.
Он будет жить. Сколько там ему напророчила матушка? Лет десять-пятнадцать?
– Кризис миновал, – княжна, углубившаяся в свои мысли, не услышала, как подошла мать, и вздрогнула от её тихого голоса. – Больной спит, но это целебный сон. Я приказала приготовить нежаркую баню, когда он проснётся. У русской бани тоже есть хороший целительный эффект, если применить её процедуры с умом.
– Ты проверяла это на холопах под Москвой, – с тонкой улыбкой ответила княжна. – Хорошо, мама. Я постараюсь проследить, чтобы слуги исполнили твоё приказание.
– Ты отправишься отдыхать вместе со мной, – тоном, не допускавшим возражений, произнесла старая княгиня.
– Я останусь здесь и присмотрю за больным.
– Ты осмеливаешься…
– Да, мама. Осмеливаюсь.
Мать тоже знает, что есть всего одна сила, способная заставить альвийское дитя не повиноваться родителям. Она должна понять, и, судя по метнувшейся в глазах тени ужаса, поняла. Но примет ли?
– Вот что ты задумала. И почему, – холодно усмехнулась княгиня, привычно подавив душевное смятение. – Не думала, что айаниэ постигнет кого-то из моих детей, но увы.
– Ты меня знаешь, мама. Может быть, хуже, чем хотелось бы, но тебе известно, что даже собственные чувства я всегда ставила на службу народу и нашему Дому, – тихо ответила Раннэиль.
– Он – человек, дочь. Человек. И у него есть жена, – шёпот матери был страшен. – Ты об этом подумала?
– Я о многом подумала, мама. Прошу тебя, не мешай.
– Хорошо, что старость добивает меня, и я в самом деле скоро перестану тебе мешать, – зло бросила княгиня, развернувшись на пятках плоских альвийских туфель, и, подхватив подол своего лекарского балахона, двинулась прочь.
– Не пытайся меня уязвить, – вдогонку ей проговорила княжна. – Что бы ни случилось, я твоя дочь, и я люблю тебя.
Мать вздрогнула, замерла, сгорбилась, словно эти слова сделались неподъёмным грузом для её тонких плеч, но, так и не обернувшись, вышла из душной комнаты, одним жестом приказав княжнам Аэнфэд следовать за ней. Девушки молча покорились наставнице.
Княжна подавила тяжёлый вздох и, сложив пропитанные полотенца аккуратной стопкой, передала их толстухе-служанке. Отношения с матерью, делившей детей на любимых и нелюбимых, всегда были её больным местом. Но у них ещё есть время. У одной – чтобы понять и принять собственную дочь такой, какая она есть, а у другой – чтобы пробиться к сердцу матери.
А пока самое главное – чтобы он выздоровел. Её служение уже началось.
Княжна осторожно присела на краешек постели, стараясь не потревожить сон больного. Но больной, как ни странно, тут же открыл глаза.
Да он не спал!
Его губы зашевелились, но с них срывалось только хриплое сипение. Раннэиль, забеспокоившись, придвинулась поближе и склонилась, стараясь разобрать слова. Будь проклят немецкий язык, не родной для обоих… Тем не менее, она со второй попытки сумела понять сказанное.
– Рассорились с матушкой, принцесса?
«Ах ты ж… притворщик! – княжной овладел странный весёлый гнев. – Понять речь ты не мог, мы говорили по-альвийски, но суть уловил совершенно точно».
– Мой государь удивительно хорошо читает в душах своих подданных, – с тонкой усмешкой проговорила княжна.
– Не сердитесь на неё. Помиритесь ещё, – разобрала она хриплый шёпот больного. – Лучше расскажите…что-нибудь.
– Что желает услышать мой государь? – почти пропела альвийка.
– Нешто побасенок своих нет? – в его шёпоте послышалась ирония, а потрескавшиеся, покрытые коркой губы растянула усмешка – почти такая же, как у неё самой. – В гиштории альвов я не силён: братец ваш скуп на слова, а прочие вовсе молчат. Хоть вы что-нибудь расскажите, пока я от скуки не помер.
Последние слова могли бы показаться обидными, но княжна ясно видела, что это шутка, причём неуклюжая. Её, воительницу, сложно было смутить солдатским юмором. Привыкла. Альвы-воины, бывшие в её подчинении, так же грубы, как воины-люди. И этот человек – тоже воин, несмотря на некоторые…ммм…особенности своего характера.
– Мой народ сотворил немало легенд, – проговорила она, старательно подбирая немецкие слова, чтобы наиболее точно передать смысл. – С чего мне следует начать, мой государь?
– С начала и начните.
Княжна выпрямилась и наконец смогла увидеть его глаза. Глаза, из которых ещё не ушла тяжесть осознания близкой смерти, но уже появилась и разрасталась надежда. И ещё – в его глазах горел огонёк беззлобной иронии, ему вовсе не свойственной.
– Как пожелает мой государь, – она изящно склонила голову, придав этому движению оттенок такой же беззлобной насмешки. – Расскажу вам, с чего начался мой народ…
Легенду о Сотворении рассказывают всем юным альвам. Сама княжна не так давно декламировала её своей воспитаннице Ларвиль. Теперь расскажет её этому человеку. Этому глубоко нездоровому, с тяжёлым характером и страшной судьбой…самому драгоценному человеку на свете. Но если айаниэ не пришло к нему? Он ведь не альв, права матушка…
…В какой момент он осторожно взял её за руку, покрытую мозолями от меча, княжна не могла сказать. А его взгляд изменился. Ушла весёлость, и пришло нечто иное, что сложно выразить одним словом. Скорее, это было отражение некоего принятого решения, в котором он только что утвердился окончательно. Но Раннэиль теперь точно знала ответ на мучивший её вопрос, и успокоилась. Эту чашу яда они изопьют вдвоём.
И – да – ей действительно не показалось, это не было игрой её воображения. Те слова, что он сказал ей, находясь на волосок от смерти.
Он человек? У него есть жена? Он – государь огромной страны, и окружён не самыми законопослушными вельможами? Княжна всё отчётливее понимала сложность реализации своего замысла, но, во-первых, поделать уже ничего не могла, да и не хотела, а во-вторых, со странным равнодушием осознала, что ей плевать на мнение окружающих. Хоть альвов, хоть людей. Пусть суетятся слуги, пусть плетут интриги придворные и иностранные послы, пусть возмущаются альвийские князья и распускают нелепые слухи крестьяне. Пусть. Она совершит задуманное, не пройдёт и года.
Негромкий, серебристый голос княжны, рассказывавшей альвийскую легенду по-немецки, сперва перекрывал возню прислуги, а затем даже дворня, едва ли понимавшая немецкий язык, притихла. Что они почувствовали, эти крестьяне, взятые в услужение во дворец? Княжна не знала и не стремилась узнать. Она говорила и говорила, плетя узор древней легенды. Горели свечи, потрескивали дрова в изразцовой голландской печи, именуемой камином, где-то за окном раздавались голоса караульных – шла утренняя смена – едва слышно скрипел снег под сапогами солдат. Где-то в глубине огромного здания переговаривались люди, глухо звенела посуда на кухнях – Петергофский дворец просыпался. Но княжне не было до этого никакого дела. Её мир сжался до размеров одной маленькой натопленной комнаты, обтянутой штофными обоями и завешанной бархатом.
Её путь в будущее начался отсюда. А долгим или коротким он выдастся – зависит уже от неё самой.
4
Из трёх свечей, заправленных в шандал, зажжена была только одна, и вовсе не из экономии. Письма уже читаны, а размышлять над оными можно и при одной свечечке. Он привык работать с раннего утра, а зимой рассветы поздние.
Вот оно как, значит, оборачивается…
Терпение, Остерман, терпение. Оно никогда не подводило тебя в этой удивительной для немца стране.
Месяца не прошло с тех пор, как император, учредив Верховный Тайный совет, отбыл в Петергоф для лечения и отдыха. И в первые три недели верные люди ничего сверхобычного не докладывали. Отписывали, как идёт лечение, да каково самочувствие государево. Но в последние шесть дней… О, да, тут есть над чем поразмыслить.
Главным – и весьма неприятным – сюрпризом стало письмо Петра Алексеевича в Синод. Далеко не первое вообще, но стоящее особняком. Во второй раз за последние двадцать лет государь испрашивал у отцов церкви дозволения на развод с супругой, уличённой в неверности. И если уж его с Евдокией Лопухиной развели, то шансы на удовлетворение просьбы государевой нынче ещё выше. Екатерина Алексеевна хоть и легка нравом, но ума невеликого, народ её, чухонку, из лютеранства перекрестившуюся, не очень-то жалует, да и измена её, в отличие от измены Лопухиной, подтверждена достоверно. Но в прошлый раз государь просил – а по сути требовал – развода для того, чтобы сочетаться браком с другой женщиной, уже родившей ему детей. Что если и нынче ситуация близка? Скольких сыновей он уже похоронил, помнишь, Остерман? И каково относится к единственному внуку, коего рад был бы обойти наследством?
Осторожность, осторожность и ещё раз осторожность. В таких делах, как престолонаследие, крайне важно не ошибиться. Если у государя на примете появилась молоденькая бабёнка, способная к деторождению, то он так или иначе своего добьётся, и наследнику престола быть. Но кто она? До сего дня Остерман терялся в догадках, пока не получил цидулку от соотечественника-вестфальца, состоявшего в услужении у лейб-медика. И писано было в той цидулке, будто император благоволит альвийской княжне. Будто отношения их вполне невинны, не зайдя далее частых долгих бесед, но симпатия между государем и княжной очевидна, и наверняка получит развитие… Ещё бы их отношениям не быть невинными! Человек едва отошёл от тяжкого недуга, только-только стал принимать царедворцев – лёжа в постели, будто покойный ныне Людовик Французский на закате дней своих. Куда ему амуры разводить? Но Остерман крепко подозревал, что дело не только в телесной слабости. Государь попросту не ведал, как себя вести с девицей августейшей крови, да ещё нелюдью. Что ж, после простой дворянки и низкородной пасторской экономки его величество наверняка попробует связать жизнь с принцессой. Для разнообразия. А альвийка – настоящая принцесса. Хитрому вестфальцу достаточно было одной-единственной недолгой встречи с княжной Таннарил, чтобы это понять. Теперь письмо в Синод приобретало совершенно определённый смысл, и это означало серьёзные изменения в придворных раскладах.
Но принесёт ли этот союз здоровое потомство, и примет ли русское дворянство наследника престола с альвийской кровью, если таковой явится – неведомо. Посему совершенно сбрасывать со счетов юного Петрушу не стоит. Внук государев, да ещё родич императора австрийского. И не связан родством с остроухими. Ох, задал задачку своему слуге Пётр Алексеевич, сам того не ведая. Остерман никогда не складывал все яйца в одну корзину, но сейчас, образно говоря, корзины сии либо малы, либо эфемерны. Поди угадай, в какой именно его…перспективы будут сохраннее.
К тому же, следует учесть, что при дворе имеется несколько партий. Как поведут себя те же Долгорукие и Голицыны, ещё можно предвидеть. Станут всячески интриговать в пользу Петруши, на сего отрока у них возложены надежды на возвышение. Но Головкин или Меншиков… Что они? На кого поставят? За Репниным – армия. За Бутурлиным – гвардия. За Ягужинским – сыск. Толстой тот же с Ушаковым своим, верным псом государевым. Каждый из них и в одиночку был силой, а уж если объединятся вокруг некоей фигуры при государе… Одному только бедному Остерману приходится полагаться на свой изворотливый ум.
Терпение, Андрей Иванович, терпение. Выиграет не тот, кто приложит больше всего усилий ради достижения своей цели, а тот, кто верно угадает победителя и вовремя к оному примкнёт. Наблюдай, Остерман, и делай выводы.
Главное – не упустить момент.
– Марфутченок, еду в Петергоф, скажи, чтобы выезд готовили, – сообщил он жене, явившейся в кабинет с угощением в руках – краснобоким яблоком, невесть как долежавшим до новолетия, и большим пирожным, почти совсем свежим.
Марфа Остерман, урождённая Стрешнева, некрасивая, похожая на старый бочонок в своём ношеном домашнем платье, и бровью не повела.
– Поешь сперва, – с ласковостью сказала она, водружая принесенное на пустующее блюдо. – Государь на угощения не больно щедр, на пустой желудок-то хоть не езжай.
Посмотрев на жену почти с нежностью – только по весне дочку родила, и опять на сносях, лапушка – он принялся грызть пирожное, подставив ладонь, чтобы не летели крошки на бумаги. Остерманы были богаты, но жили, словно германские бюргеры. Ведь роскошь развращает, не так ли?
– Пойду, Яган, скажу, чтобы карету заложили да платье твоё вычистили.
Марфу при дворе не любили, и она платила двору тою же монетой, хоть и не пренебрегала ассамблеями. Мало того, что супруг лютеранин, так ещё и сама быстро привыкла к быту немецкой жены. И сей быт ей нравился. Дом, дети, забота о благополучии мужа, да обязательный воскресный поход в церковь. Само собой, в православную – переход в лютеранство ей бы точно не простили. Что ещё нужно примерной супруге скромного чиновника? Чтобы помянутый муж-чиновник сие ценил.
Андрей Иванович ценил.
Через два часа он уже трясся в холодной карете. Бумаги, потребные для доклада государю, держал в особой кожаной папке, коию не выпускал из рук, а на переднем сидении стоял небольшой ларчик. Негоже являться к даме без подарка.
* * *
– Свершилось.
– Что именно?
– Государь, как я и предвидел, направил письмо в Синод.
– Не выйдет по-твоему, друг мой. Я намедни с владыкою Феодосием беседу имел.
– С архиепископом Новгородским? И он тебя допустил к беседе?
– Не понимаю твоего удивления. Я ведь не сволочь с улицы, я…
– Ладно. Что сказал владыко?
– Что государь в своём намерении твёрд, и любую проволочку воспримет как бунт. А ты знаешь, каков он во гневе. Казнить не казнит, но сошлёт куда подальше, где и костей твоих никто не сыщет. В Синоде дураков нет, противу воли государевой идти. Развод ему дадут. Дело это небыстрое. Как ни поторапливай, а ранее, чем к весне, письма с согласием он не получит.
– Два месяца. Два месяца… Вот так вот, значит… Ну, что ж, и на худом масле можно блинов напечь.
– Никак придумал что?
– Придумал. Знает ли чухонка, что муж её вконец оставить решил?
– Пока не ведает.
– Вот и расстарайся, чтоб через пятые руки, но проведала. Остальное я на себя беру… Что ж Петру Алексеичу не терпится так? Неужто есть кто на примете?
– Этого, уж извини, я никак прознать не могу. Не настолько я близок к царской особе.
– Может, принцесску какую немецкую сватают? Ладно, дознаюсь. Есть у меня верные люди в Петергофе, и от особы царской не так уж далеки. А Ваське отпишу, чтобы там в Европах своих поспрашивал, не ездили ли люди государевы собирать портреты принцесс… Вот тебе и царь-батюшка – седина в бороду, бес в ребро. Лучше б ему было помереть месяц тому…
– Бог с тобою, что ты такое говоришь?
– Ну, коли выжил, значит, на то воля божья была. А ты не пугайся. Если по-нашему станется, государь и далее править станет, сколько бог отмерит. Да только не видать ему больше сыновей. Петруше, внуку, после него править!
– Меня ты, само собой, в подробности посвятить не желаешь?
– И рад бы, да сам ещё не ведаю, как именно всё провернуть. Но чухонку надо бы того, обрадовать. Пускай клобук готовит да заранее постится. А ещё лучше, ежели она сляжет. Вот тут нам в помощь будет один пакостный человечишко, коего государь пять лет назад в Казань за неистребимый блуд сослал. Выехать он оттуда не сможет, но на письмецо моё ответит непременно…
* * *
«Бог мой, до чего же красивый народ, – не без сожаления подумал господин вице-президент Коллегии Иностранных дел, раскланиваясь перед чинно сидевшей дамой. – Воображаю, каковыми мастерами должны быть их ваятели, чтобы достойно запечатлеть такое совершенство».
Изумрудно-зелёный шёлк нездешнего платья сиял в скудных лучах зимнего солнца, проникавших сквозь оконные стёкла и тонкие занавеси. Диковинная диадема белого металла с крупным зелёным камнем посредине венчала густые золотистые волосы, свободно струившиеся по плечам, а из-под волос виднелись острые кончики ушей.
«Интересно, альвы умеют ими шевелить?» – мелькнула неуместная мысль.
Остерман неплохо разбирался в людях, и мог на глазок определить возраст собеседника, не ошибившись более, чем года на три в любую сторону. С альвами по понятной причине дело обстояло хуже. Истинный возраст некоторых из них, скажем, той же старой княгини, потрясал: никак не менее двенадцати тысячелетий. Прочие, выглядевшие помоложе, также прожили на белом свете немало, оставив далеко позади библейского Мафусаила. Интересно, сколько на самом деле этой принцессе, которой, если верить её зрелой красоте, не более тридцати?
– Мы встречались вскоре после похорон моего батюшки, – медленно кивнула альвийка, изобразив снисходительную усмешку. По-немецки она говорила с певучим незнакомым акцентом. – Вы изволили выразить нашей семье соболезнования.
– Точно так, ваше высочество.
– Нет, нет, не награждайте меня титулом, на который я не имею права, – в голосе принцессы засеребрились едва слышимые ироничные нотки. – Мы всего лишь верные подданные императора России, его милостью сохранившие княжеский титул.
– Простите меня за мою бестактность, ваше сиятельство, – Андрей Иванович широко улыбнулся. – Я полагал, что ваш брат является суверенным государем по образцу касимовских царей.
– Право же, не стоит извиняться, господин барон, – дама изящнейшим жестом указала ему на резной стул, обтянутый шёлком. – Вы просили передать, что у вас ко мне есть некое дело. Прошу вас, присаживайтесь. Обсудим ваше дело… хотя я, честно сказать, теряюсь в догадках, каково оно может быть. Ведь я, – добавила она с улыбкой, – не обладаю никаким влиянием при дворе. Разве что у вас есть дело к моему брату?
– О, нет, ваше сиятельство, – Остерману ничего не оставалось, кроме как принять приглашение и осторожно, будто под ним был не стул, а горячая плита, усесться на краешек. Отчего-то в присутствии этой дамы он чувствовал себя неловко. – Прежде я обязан принести извинения за то, что оторвал вас от ваших собственных дел. Не откажите в милости, примите от меня скромную компенсацию за доставленное неудобство.
Ларчик, который он держал в руках, был прост и незатейлив. Такой можно купить на любом московском или петербургском рынке – деревянная шкатулочка, покрытая простонародным резным узором. Но ему нравились такие нехитрые поделки, в них удобно было подносить подарки, подобные тому, что он заготовил для альвийки. Ловкое, привычное движение – крышка откинулась, открывая плоскую бархатную подушечку, на которой лежали два странных продолговатых предмета, покрытых затейливой росписью.
Принцесса хорошо скрыла своё искреннее удивление. Только веки чуть дрогнули.
– Что это, господин барон? – спросила она.
– Это, ваше сиятельство, древние сосуды, которые иногда находят в земле таврические греки, – охотно пояснил Остерман, привстав и с поклоном подав шкатулку даме. – Сосудам этим более двух тысяч лет. В оных знатные эллинские женщины изволили хранить ароматные притирания. Греки, что втайне от магометан, запрещающих всяческие изображения людей, привозят иногда эти ископаемые древности, уверяют, что в иных сосудах сохраняется даже приятный запах.
Альвийка, не проявив, впрочем, никакого пиетета к старине, осторожно вынула обе вещицы и принялась разглядывать роспись. По белым бокам чёрной краской либо лаком были выписаны человеческие фигуры. На одном сосуде был изображён эллинский воин в доспехах и с копьём, а на другом – танцующая девушка.
– Какая искусная… наивность, – улыбнулась принцесса, аккуратно укладывая древние сосуды обратно в ларец. – У нас так или наподобие рисуют дети.
– Верно подмечено, ваше сиятельство, – согласился хитрый царедворец. – Ибо как иначе можно назвать древние государства, если не детством человечества?
– Но я не могу это принять, – с сожалением продолжила дама, скромно отводя взгляд глаз, таких же изумрудных, как её платье. – Насколько я знаю, древности подобной сохранности немало стоят, и это, должно быть, очень дорогие вещи.
– О, ваше сиятельство, не беспокойтесь. Это в Европе, через трёх перекупщиков, сии сосуды стоили бы немало денег. Мне же они обошлись в сумму столь скромную, что её не стоит даже упоминать. Истинная же их ценность заключается не в количестве уплаченного серебра, а в самой древности. Ведь давно уже нет ни Эллады, ни её городов-колоний, давным-давно умерли прежние владелицы этих прелестных вещиц, а мы с вами имеем удовольствие любоваться оными. Прошу, ваше сиятельство, окажите милость принять мой дар, сделанный от чистого сердца.
Взгляд альвийки сделался чуточку веселее: она словно хотела сказать: «Царедворец с чистым сердцем – это что-то новенькое». Но вслух произнесла совсем другое.
– Вы меня убедили, – сказала она. – Хотя есть в этой комнате вещи, куда более древние – к примеру, мой венец. Матушка носила его ещё на заре Первой эпохи. Но вы правы. Когда живая память угасает вместе с её носителями, вместилищем памяти становятся записи и вещи. Я принимаю ваш дар так же искренне, как искренне вы его преподносите. Но при дворе батюшки я усвоила несколько незыблемых истин. Если кто-то делает мне ценный дар от чистого сердца, то этому кому-то что-то от меня нужно.
«Для того, чтобы это понять, не нужно быть оракулом, – Остерман нисколько не удивился проницательности альвийки. – Но высказать вслух? Странные манеры были при дворе альвийского императора, её отца».
– Ваше сиятельство весьма проницательны, – произнёс он, сделавшись серьёзным. – Раз уж вам по душе открытые разговоры, буду говорить открыто. У меня дело к вашей почтенной матушке, которую я, зная о её сугубой занятости, не решился побеспокоить лично.
– Вы поступили мудро, – альвийка, продолжая тонко улыбаться, слегка кивнула в знак одобрения. – Матушка действительно сейчас очень занята. Но если вы изложите дело мне, я передам ей вашу просьбу… Говорят, вам нездоровится?
– Увы. С глазами беда, ваше сиятельство, – вздохнул Остерман, отведя взгляд. – Краснеют и чешутся. Иногда так, что сил нет. Никакие примочки не помогают, а ведь мне потребно много работать с бумагами. Сделайте милость, ваше сиятельство, замолвите словечко перед матушкой, а я уж в долгу не останусь.
Дальнейшие заверения и обмен любезностями особого значения не имели. Обычный политес, ничего более. Однако главное Остерман для себя уже уяснил.
Красивая и умная, даже чересчур. Ничего удивительного, что на такую сам император глаз положил. Наверняка догадалась, что заместитель канцлера явился не столько попросить о целительских услугах её матушки, сколько взглянуть на неё саму. И так же наверняка оценивала его персону. Сделает ли Пётр Алексеевич её императрицей, или, опасаясь дворянского недовольства, оставит в фаворитках – ещё неизвестно. Но если эта альвийка получит в руки хоть какую-нибудь власть, то не выпустит её из цепких ручек до самой смерти. А то и преумножит своё влияние. Пожалуй, на ней можно строить расчёты и предлагать помощь, пока она ещё слаба и незаметна. Когда возвысится, воздаст. Именно «когда», а не «если».
«Не завидую я тому, кто решится встать на её пути, – думал Андрей Иванович, давно уже даже в мыслях не именовавший себя Генрихом Иоганном, возвращаясь к своей карете. – Ведь найдутся дураки, и ручаюсь, что это будут Долгорукие. Ненасытные шакалы, мечтающие о славе львов. Предостеречь Алексея Григорьевича, или не стоит?.. Поразмыслю на досуге».
Его ждал Петербург, холодный, продуваемый всеми ветрами. Стол, заваленный бумагами, жена, опять припасшая «своему Ягану» что-нибудь вкусное, пискливые и любимые детушки. И – размышления. Остермана тоже не любили при дворе, но опасались его ума.
И правильно делали.
– Ты редко советуешься со мной, но сейчас тот случай, когда могла бы вспомнить, что у тебя есть брат.
– Вряд ли ты смог бы дать мне дельный совет в том, что касается моей личной жизни.
– Нэ, ты сама не веришь в то, что говоришь. Личная жизнь… Твоя личная жизнь всегда была лишь холстом, на котором ты писала картину величия нашего Дома. Впрочем, ты никогда раньше не теряла голову до такой степени, и твои отношения не заходили слишком далеко. Что изменилось?
– Я изменилась, братик.
– Изменились мы все, если ты о старении. Ты никогда раньше не дерзала связываться непосредственно с властителями, предпочитая влиять на их окружение. Знаешь, у русских есть хорошая поговорка: «Близ царя – близ смерти». Весьма точная характеристика коронованных особ и опасности, исходящей от них. Полагаю, у тебя была очень веская причина изменить своей обычной осторожности в придворных делах.
– Ты прав, братик. Причина очень веская.
– Значит, я угадал… Что ж, желать тебе счастья с моей стороны было бы утончённым издевательством. При дворе обязательно найдутся и те, кто будет искать выгоды от дружбы с тобой, и те, кто возжелает твоей смерти. Ещё неизвестно, кто окажется хуже. Какое уж тут счастье. Пожелаю тебе иного – удачи.
– Спасибо, братик…
– Куды с вёдрами прёшь?
– Не пру, а велено воды наносить. На кухню.
– Вот дура, прости, господи. Царевна Елизавета Петровна снова к нам явились, а она с пустыми вёдрами, да навстречу! А ну вон, и чтоб я тебя не видел, покуда царевна к царю-батюшке не препожалует!
Лиза действительно частенько навещала отца во время его болезни – единственная из всей семьи. Её приезды всегда сопровождались переполохом среди дворни: царевна считала забавным нагрянуть внезапно, никого не предупредив. Не была бы сейчас зима, так наверняка являлась бы верхом, переодевшись в мужское платье. Раннэиль нравилась эта жизнерадостная девочка, и княжна старалась расположить её к себе. Нет, подарки Лиза любила, в особенности те, что могли её украсить. Кружевные накидки работы альвийских крепостных женщин привели её в восторг. Но дружбу не купишь за тряпки, даже очень красивые, и хитрая Раннэиль принялась постепенно опутывать царевну серебряной паутинкой своего обаяния. Не в первый раз.
Она давно отстранила прислугу от приготовления еды и от её подачи в комнату выздоравливающего государя. Сама варила целебные и питательные кашки по рецептам матери, сама утушивала в подливе мелко нарезанную крольчатину, сама разливала либо разбавленное вино, либо парное молоко – в зависимости от прописи и времени суток. Резала фрукты и укладывала дольки причудливыми цветами в тарелке. И сама, красиво расставив всё это на подносе, несла своему подопечному. А потом следила, чтобы он всё это съел. Такая роль была, мягко говоря, непривычна для княжны-воительницы, и она не раз перехватывала осуждающие взгляды, в основном матушкины. Но меняться с ней местами никто не хотел. Во-первых, из-за неприятного характера больного, а во-вторых, из-за его непробиваемого упрямства. На первого же – кажется, это был Блюментрост – кто под предлогом выздоровления пациента посмел попытаться выставить княжну восвояси, Пётр Алексеевич рявкнул так, что у присутствующих заложило уши. Больше таковых попыток не было. Зато поползли слухи, будто у государя намечается новая метресса. Вот только дайте ему выздороветь окончательно, он ещё всем покажет.
Слухи эти дошли и до альвийских вельмож. А это, учитывая строгую мораль, принятую в Домах Высших, означало осуждение. Пока ещё сдержанное, но то ли ещё будет. Впрочем, княжне действительно это было безразлично. Хуже другое: она стала замечать льстивые улыбочки царедворцев, их низкие поклоны и попытки завязать разговор на тему «Скажите обо мне государю». Вот от чего предостерегал её брат. Ссылаясь на плохое знание русского языка, княжна старалась увильнуть от подобных бесед. И в особенности они были ей неприятны, когда она несла императору обед, как сейчас. Но приезд Лизы очень кстати. Дочь государя, любившая общество, при этом не терпела искавших милостей подхалимов, и ещё не научилась по молодости лет эту неприязнь скрывать. Могла и высмеять прилюдно, а потом выслушивать злобное шипение за спиной.







