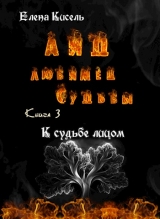
Текст книги "К судьбе лицом (СИ)"
Автор книги: Елена Кисель
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Ему незнакомо безумие первых дней, когда важное и неважное меняются местами, когда бремя Владыки отступает на второй план и притупляется острота слуха… взгляда…
Кажется, я слышал что-то значимое. В рассказе жены, совсем недавно. Слышал – и пропустил мимо ушей, потому что идиот.
Слышал – или нет?
– Палач… хватит медлить, царь мой, это же не смешно… Я жду… жду…
Наплевать.
* * *
Послевкусие сна было непонятным. Плавало в висках мутью стигийских туманов. Память – верткая егоза – мельтешила среди мглы, подначивала: давай, лови! Хочешь вспомнить, что ты там увидел? Ну, хочешь же?!
Вообще-то, должен бы – ничего, раз уж Персефона здесь. Но сон пришел, утянул в себя, замелькал перед глазами белым… снег? Пух? Пепел?
Перья.
Ослепительные, как шапки на вершинах гор. Разлетелись по тяжким, серым камням, разлеглись в ущельях. Наверное, Ника-Победа линяет, вот и разбрасывает, где ни попадя.
Наверное…
Осторожно вытащил руку из-под теплой, румяной щеки жены, Кора прерывисто вздохнула, прошептала: «Аид, опять? Можно подумать – не того Жеребцом прозвали…». «Спи, дела», – выскользнул из-под одеяла, сопровождаемый полусонным обиженным бормотанием: какие там дела, в первую неделю после ее спуска?
Неотложные. Иначе ни в какую не оставил бы теплое ложе с соблазнительно раскинувшейся под скомканным одеялом женщиной. Не стал бы облекаться в царские одежды, делать шаг из спальни – от мужа к Владыке.
Не опаздывал бы – не стал бы.
Прометей утверждал: не следует спешить с карой. Особенно если речь идет о бессмертном. Все равно ведь рано или поздно – покараешь, а поспешишь – богов насмешишь, выдашь кару невиновному…
Интересно бы спросить пророка, что он думает теперь, когда когти орла Зевса ежедневно вспарывают титану живот, добираясь до печени?
Но в этот раз кара запоздала. Могу поспорить, Зевс сполна насладился зрелищем Аполлона и Посейдона, вкалывающих на смертного, посмотрел на иссеченную спину жены – и гнев Громовержца начал остывать.
Когда остывает гнев – приходят мысли. День или два – но Зевс задумается над средством, к которому прибегла его женушка. Или даже спросит ее напрямик, он это умеет. Поинтересуется со всем владыческим гневом: Гера, супруга моя мятежная, а как это ты меня усыпила, чтобы уж настолько надежно-то?
И Гера, испуганная нахмуренными бровями супруга, назовет подельника.
Указав при этом на мой мир.
Мир, в котором водятся чудовища с белыми крыльями.
Дворец был легким, стрельчатым. Не дворец – пара крыльев: примерь – и полетишь. Розовая мозаика змеилась по белым стенам, изображая то пастушек с сатирами, то розоперстную Эос (в таких позах, что розоперстная, увидев такое, стала бы еще и краснощекой). Дворец, сколько его помнили в подземном мире, звенел музыкой, полупьяным весельем, женскими игривыми голосами – а тут вдруг смолк, задышал осторожным, опасливым покоем.
«Никого нет дома», – честнейшим образом смотрели подслеповатые окна.
Ну да, как же, никого нет. Вон и Нюкта у входа разместилась – встречать. В черных с серебром скорбных одеждах, с заранее приготовленной мольбой на лице – что, Ночь, долго за любимого сынка мольбу готовила? Небось, пару месяцев, как узнала о крахе заговора против Зевса?!
– Владыка… молю…
– Где он? – бросил я, шагая с колесницы. – Или ты спрятала его под своим покрывалом, Великая Нюкта?
К дворцу не сделал ни шагу – и без того видно, что хозяина нет дома. Да Владыкам и не к лицу ползать под кроватями, ища незадачливых подданных.
– Он не знал! Владыка, не знал! Гера солгала ему, сказала, что хочет только не допустить Зевса на очередное свидание…
– Глупость нужно карать, о Великая.
– Владыка! Аид! – я окинул ее холодным взглядом.
Руки прижаты к груди. Глаза огромны, бездонны, полны ужаса. Сейчас на колени упадет – просить за любимчика, за маленького, белокрылого любимчика, за маменькина сыночка…
– Я прошу тебя как мать…
– У меня нет детей, Нюкта. Я не понимаю таких просьб.
Вздрогнула. Прикусила губу, потемнела глазами еще больше, хотя куда там – больше?
– Таната ты бы не стал карать за такое, – выговорила глухо.
– За него ты бы не стала просить, – отозвался я равнодушно.
Прикрыл глаза. Шепнул миру: след. Ищи. И черный нос невидимого пса, следуя легкому запаху макового настоя, которым был пропитан дворец, заскользил по скалам, пронесся вдоль асфоделей, потянул воздух Среднего Мира, которым веяло от входов… Там? Нет, не наверху, а совсем даже наоборот – ближе, ближе, мимо Тартарской пасти, мимо тщетных ударов в кованные Гефестом двери, вдоль русла Амелета, к другому дворцу – бархатно-фиолетовому, искрящемуся драгоценными камнями…
– Что же ты не сказала мне, что сын гостит у тебя, Великая Нюкта?
– Владыка… – простонала она безнадежно, зарываясь лицом в свое покрывало.
Мир ликующе лаял в уши: отыскал! Вижу! Чую!
Взять, – приказал я миру. Сюда.
Гипнос вывалился ко мне под ноги через два удара сердца. Взглянул в лицо – охнул, прошептал: «Я правда не знал, Владыка…» – и замер скрючившись, на коленях.
Не пытался ни улыбаться, ни играть в друзей: знал, с кем говорит.
А мне хотелось орать. Не по-владычески, а как в бою – срывая связки. «Не знал?! Ты не знал, на что идешь, усыпляя Зевса?! Навевая на Громовержца крепчайший сон, какой только можно вообразить?! По просьбе дражайшей Геры?!»
– Могу тебе рассказать, – я говорил тихо, невыразительно. Глядя сквозь него. – Очень скоро Зевс доищется, кто его усыпил. Услышав твое имя, он вспомнит – в чьей свите ты состоишь. Потом задаст себе вопрос: по чьему приказу ты действовал.
Он, зажмурившись, мотал головой, кусал губы, как будто больше всего на свете боялся услышать это. Нюкта сделала шаг вперед, хотела молить опять – я остановил ее жестом.
– Ты посеял вражду между подземным миром и Олимпом.
– Нет! – вскинулся, в отчаянии захлопал крыльями. – Владыка, я расскажу Зевсу… поклянусь Стиксом, что действовал без приказа! Стиксом! Я…
Я шагнул назад, пока он не принялся лобызать мне плащ. Что ты, белокрылый, между нами ведь совсем ни к чему такие церемонии. Я бы тебе лучше сейчас – по-старому, чтобы тебя аж под свод унесло. Не за провинность – за непонимание.
Непонимание того, к чему могло привести твое неумение думать.
Крик царапал горло, его приходилось силком пропихивать обратно в грудь.
«Стиксом?! На кой мне Стикс? Ты хотя бы понимаешь, что было бы, если бы я не успел, ты хоть понял, что я был в шаге от того, чтобы ударить из пустоты – и сесть на трон Зевса, ты хоть на секунду осознал, что я готов был – понимаешь, я готов был бить, если у меня не будет другой возможности!!»
– Хорошо, – взгляд спокоен и брезглив, голос – холоднее и ядовитее вод Запада. – Клянись ему. Стиксом. Чем хочешь. Изведай на себе справедливость Громовержца. Ощути его мудрость. Гера, Посейдон и Аполлон ощутили ее в полной мере. Интересно бы знать, что брат припас для тебя.
Бог сна сделался белее своих же крыльев. Нюкта обронила покрывало, которое комкала в пальцах – мягкие складки ночной ткани упали к ногам. Казалось: мать загородит сына. Заступит маленького пестуна от взгляда царя, клятвы Стиксом, кары Зевса…
Осталась стоять на месте. Только губы пошевелились, выбросив неожиданное:
– Нет. Покарай его сам, Владыка. Не отправляй к Зевсу. Это будет выглядеть правдиво. Ты разгневался из-за брата, придумал кару… Владыка, ты обещал мне награду за помощь с Фаэтоном…
Награду – кару? От того, кого звали Страхом? Карателем Олимпа? Гипнос шею вывихнул, уставился на мать непонимающими глазами: чего просит?! О чем говорит?! Тут ведь еще непонятно, кто страшнее-то…
Жаль, умом в Нюкту пошел не любимый сын – ненавидимый. Танат бы понял. Услышал бы главное в голосе матери – потаенную надежду.
Не на справедливость Владыки Аида. На изворотливость Аида-невидимки.
На то, что цари не только карают, но и защищают подданных.
Не трясись ты так, Гипнос. Я тебе сейчас придумаю кару: лютую.
Белокрылый, кажется, не услышал. Продолжил дрожать в мегароне, пока собиралась любопытная свита. Бросал умоляющие взгляды на явившуюся Персефону: заступись, Владычица!
Владычица, устроившись на своем троне, играла крупным белым нарциссом. Посматривала то на мое лицо, то на Нюкту, до ихора кусающую себе губы при каждом моем слове: «посягнул», «брат», «заговор», «Громовержец», «кара»…
Белые перья мельтешили перед глазами, смеялись из сна.
– Легко выбрать кару для того, кто летает. Встань. У тебя нет ничего дороже крыльев, – дружный вздох от всех крылатых в зале. – И я отнимаю их у тебя. Я запрещаю тебе летать.
Тишина белым покрывалом легла на зал, укутала свиту.
– Ле-ле-летать?! – поморгал белокрылый. – Владыка, а как же я…
И обеими руками показал на чашку.
Я пожал плечами – мол, какое мне дело до мелочей? Владыка Аид не оракул – на все вопросы отвечать. Владыка Аид – каратель. Вот, жестокую кару выдумал. А ты – хочешь ползай, хочешь – бегай от смертного к смертному.
Хочешь – харчевню открой и каждому по стаканчику макового настоя наливай.
В общем, вот тебе ужасная казнь, неси, как подобает подземным.
Гипнос так и замер – с чашкой в руках, мелко моргая. Встревоженно зашептались по стенам детки-сны.
Первой прыснула Геката. Пыталась сдержаться – нет, не успела ухватить за хвост серебристый смешок, острый, как игла вышивальщицы. Смешок кольнул Эриний, пощекотал Кер – и размножился, придавленным эхом загулял по залу: «Хи-хи, казнь! Вот уж казнь, так казнь! О-о, куда уж ужаснее!»
Персефона изо всех сил прикрывала ладонью улыбку. Нюкта стояла прямо, глядела – гордыми звездами. Шепнула сыну: «Благодари! Живо!»
Тут уже и до белокрылого дошло. Заухмылялся наконец. Забормотал благодарности (особенно за то, что на Олимпе его еще пару лет точно не увидят). Стиснул чашку, крылья прижал к спине – и двинул усыплять смертных неторопливым, мерным шагом. Напоказ громко стуча сандалиями по бронзовым плитам.
– Мой муж так разгневался, – вполголоса протянула Персефона, – когда узнал, что подданный посягнул на его брата…
– Не гнев – ярость, – поправил я тихо. – Ярость, порожденная страхом навлечь на себя гнев Громовержца.
Подземные дружно делали вид, что не вслушиваются. А может, и впрямь пребывали в экстазе после услышанного.
– Ярость, – согласилась жена. – Я опишу Зевсу. Скажу, что ты долго размышлял над карой, пока выбрал самую суровую.
Геката не сдержалась – выпустила в зал еще один острый смешочек.
Да уж – куда суровее. Настолько, что Зевс вскоре сам его и отменит. Когда весь Олимп лишится сна. Когда смертные, не могущие заснуть, начнут отчаянно взывать к Громовержцу.
– Пять дней? – спросила Персефона задумчиво. – Как ты полагаешь, мой царь?
– Полагаю, что больше.
Гипнос, конечно, невеликого ума, но Нюкте хватит разума сунуть чашку сына какому-нибудь из многочисленных внуков. И приказать плескать вкривь и вкось – чтобы смертные спали через одного.
Из угла метнула задумчивый взгляд Мнемозина-Память – и я вспомнил сон, в котором шел между скал, усеянных белыми перьями.
Во сне они вновь мешались с черными. Причудливыми фигурками в играх смертных – воинами, одетыми в белые и черные гиматии – усеяли серые скалы.
Белые крылья, черные крылья…
Белые убрались с пути, сложены и прижаты к спине, подрагивают в такт каждого шага, с мнимой скорбью: «А я теперь наказанный!»
Черные крылья прозвенели через полгода, в разгар весны.
* * *
Весенние дни с зимними играли взапуски. Перебрасывались погодой туда-сюда. Менялись – инеем, легкими серебристыми дождями, острым запахом свежести, первыми листьями. Деметра была рассеянна, или Персефона устала, – но на поверхности ростки травы серебрились по утрам от заморозков. Лужи позванивали льдинками, а женщины были холодны, как губы Таната – если верить взглядам молодых теней.
Подземный мир проводил Владычицу и нахохлился старым филином. Первый месяц сидел, не ухал, хмуро ворочался во мраке. Второй месяц (новый выводок щенят у волков Гекаты – и то прошел незамеченным) дремал, вяло посматривая огненно-черные сны.
На третий месяц мир оживился, налившись предвкушением. По миру прокатились вести с поверхности. Заглушили даже то, как Гипнос исполнял свои обязанности.
Белокрылый исполнял на славу. Каждый вечер он с трагической миной покидал подземный мир на своих двоих – ногах, не крыльях. Каждый вечер неизменно выдумывал новое: то пытался запрячь в колесницу своих сыновей, то стенал перед Танатом: «Чернокрыл, ты брат или кто?! Подбрось!», то старался напроситься на одну колесницу с матерью. Если напроситься не получалось – начинал стенать еще более громко («О, как я наказан! О, суровость Владыки! О, мои крылья! О, будет ли предел моим мукам?!»). Потом совал свою чашку Морфею или еще кому-нибудь из сыновей, нырял в сень ближайшего раскидистого дерева и наглейшим образом предавался безделью.
Как сыновья Гипноса справляются с делом отца – было видно по множеству сонных теней у моего трона. Подземные сперва даже выбирались посмотреть на поверхность, честно каждый раз описывали: «Сегодня опять подрались. Победил Онир со своим жезлом, только они в пылу боя половину чаши-то на себя пролили!», «Готовенько дело! Даже до середины Эллады не дотащили, уронили в море. Вот Владыка Посейдон выспится! Рыбаки рыбу сонную хватают, кому повезло – еще и нереид…» Потом перестали выбираться, начали гадать: скоро ли Зевс попросит сурового брата проявить милосердие к провинившемуся подданному. Громовержец отмалчивался (как-то нехорошо отмалчивался), Гермес тоже ничего нового не говорил.
– Гипнос, Владыка? Нет, про Гипноса отец ничего… у него сейчас новое: за Гераклом присматривает, не нарадуется! Сынок, понимаешь, и Авгию конюшни прочистил, и с вепрем сладил, и попутно дров успел наломать. Вот отец и посматривает. Ну, так, еще сидит с теми цепями, которыми его повязали. Нет, ничего не говорит. Так, сидит, поглаживает, под нос бормочет. Что бормочет, Владыка? «Хорош молот у Гефеста», – вот что бормочет. И усмехается. Да нет, просто усмехается, больше ничего не говорит.
Каждый раз, как я слышал это «усмехается» – по хребту тонкой ледяной змейкой ползло опасение: брат все-таки – дальновидец, что, если он сумел понять…
Так вот, на третий месяц я окончательно перестал слышать об усмешках Зевса. Да и о чем-либо другом – за потрясающей новостью: Адмет умирает! Новость гуляла по миру, уперев руки в бока, ломилась в дворцы, сочилась с поверхности с чудовищами и тенями. Адмет, Адмет, Адмет, срок, срок…
Редко бывает так, чтобы кончина смертного, пусть и басилевса, вызывала столько толков. Даже если басилевс – любовник Аполлона (мало ли у Сребролукого смазливых мальчиков в свите!). Даже если Мусагет просил Мойр пощадить своего любимчика (опять же – в пылу страсти чего только не сделаешь, а неумолимость Мойр известна всем – от олимпийца до последнего сатира).
Переполох вызвал ответ Мойр: Пряхи внезапно согласились сохранить жизнь Адмету, если он найдет себе добровольную замену к положенному времени.
Положенное время надвигалось с каждым днем: Сизифовым валуном толкало смертного басилевса в спину. Гермес говорил: на Олимпе так и не могут понять, с чего бы это Мойры так расщедрились. Передавал: олимпийцы с уважением посматривают на Мусагета, снискавшего особую милость Прях.
Сплетничал: Афина возмущается. Как вообще можно поменять нити? Артемида поссорилась с Промахос из-за братца. Дионис с Аресом заключают ставки – кто прибежит умирать за Адмета-басилевса.
Мойры молчат. То есть, нет: назначили день, назначили час. Вот теперь уже точно молчат.
Спорят, наверное. На новый гиматий. Или на дары щедрого Аполлона.
Кто добровольно спустится за юного Адмета в мрачное царство Аида? Вплывет тенью под своды Запирающего Двери? Променяет цветущую жизнь на запах асфоделей?!
Новость распутной девкой гуляла по миру, сперва быстро, потом тяжко, медленной поступью. Новость беременела и на ходу рождала вопросы.
Бесконечные вопросы, сливающиеся в один: кто? кто?!
Подземные, вообще-то, азартны не хуже прях. Спорили до пены, до бешенства и потасовок. Приходили к царю разбираться в обиде на подстроенные противниками пакости: «Владыка… она мне все крыльцо коровьим навозом завалила! Нет, вот откуда взяла-то столько?!» Закладывали жертвы умерших или стада быков, у кого что было, перешептываясь в нетерпении: когда уже… кто уже…
В назначенный день в зал судейств в свиту набились те, кто там обычно и не состоял. Шепотки юркими ящерицами скользили вдоль стен, и в них повторялось все то же: кто? ну, кто? Ведь кто-то же – будет?
– Будет, говорю тебе, Эрида, обязательно будет! Эти смертные такие странные, друг за друга помирают…
– М-м, не знаю… вот, Мегара говорила, что во всем дворце таких не найдется.
– Ха, да что ты Мегару слушаешь, ты меня слушай: этот Адмет точно кого-нибудь уломает!
Но Эрида уже не слушает Эмпусу. Эрида плавно, на цыпочках отплывает к Мегаре: нужно же сообщить, что про нее тут говорили! Сеять раздор не приедается.
А мормолики взяли в кольцо Гекату и пытаются выжать из Трехтелой какую-никакую мудрость:
– Я думаю, это непременно будут родители. Мать или отец ведь не откажутся умереть за сына? Или вот слуги еще…
Трехтелая окатывает молоденьких спутниц полной таинственности улыбкой, и тонкая ткань на лицах колышется, скрывая насмешливые взгляды.
– В бою? Посреди бедствия? Да. Но сойти в наш мир добровольно, пусть даже и за сына… О, они оплачут его. Конечно, они будут горько плакать. Но ведь у них же не единственный сын. И обеспеченная сытая старость. А слухи про ласку нашего Владыки распространились по поверхности так широко, что к нам почему-то никто не хочет по доброй воле…
Шепотки перелетают из ушей в уши, порхают с губ на губы, и угомонить их может только появление в свете факелов Гермеса с той самой тенью, которую так ждали.
Гермес рад появиться: с озадаченным и чуть смущенным видом, который обозначает, что и он продул кому-то из подземных крупный спор с этой историей.
Входит медленно, давая рассмотреть, что ведет с собой женщину – тень, понурившую голову так, что не увидать лица. Все, кто ставил на мужчин, потухают, зато вторая часть свиты вытягивает шеи… ну… мать? нянька? старая, истомленная болезнями рабыня?
Жена.
Молодая – не более двадцати. Тросточка – дыханием переломить можно. Вокруг тонкой шейки вьются погребальные украшения, голова опустилась под тяжестью русых кос, с пальчиков вот-вот соскользнут дорогие кольца – наверное, дарил муж. Наверное, он вообще много чего ей дарил – Алкесте, дочери Пелия…
Отдарилась.
Девочка, чего ты-то туда лезла?!
– Подойди. Можешь смотреть.
Я и забыл, как обжигает любовь. К золотой занозе в сердце с годами притерпелся, а вот чтобы чужое – и так… не припомню.
Глаза цвета спелых маслин глядели не на подземного Владыку. Они глядели – в бесконечную даль, за мрак и огонь, и за своды, туда, где были муж и дети. А он – Адмет – он, наверное, сейчас плачет? Бедный… А что же детки, их лишь бы не забыли уложить, девочка только кашлять недавно перестала, ее кутать сейчас нужно и молочком с медом поить. Расплачется, разнервничается, будет звать маму – опять заболеет…
Женская часть свиты горестно развздыхалась: чудовищам тоже не чужда простая женская печаль. Да еще и споры проиграны.
Тень стояла передо мной, глядя в жизнь из смерти, и ждала приговора, и в руках у Эака-судьи дрожал ее жребий. Мурашиный вождь справедлив, он понимает, что это – не асфодели, это даже не Элизиум… Вот только он не вмешается.
И Персефоны нет. Она ведь приходит только когда к ней взывают герои. Алкеста не записывала себя в эти ряды… к кому она там перед смертью взывала? А, к Гестии, чтобы сохранила в доме тепло.
Персефона бы не побоялась вмешаться. Возмутиться решением Мойр и просьбами Аполлона: «Царь мой, как можно выменять жизнь на жизнь!» Вернула бы смертную доживать отмеренные ей годы. Но я-то – я Гостеприимный, а не Милосердный, и потому…
– Владыка, кхм, – деликатно напомнил о себе Гермес. – А может, не надо ее никуда… пока что? Тут ведь такая история получилась: еще погребение не свершилось, как к этому царю Адмету заявился Геракл. Просто по пути, он сейчас как раз едет у Диомеда его кровожадных коняг отвоевывать.
– Слышал.
Больше про коняг, правда, потому что растерзанные лошадьми-людоедами тени ужасно ноют и напирают на свои страдания: «И вообще, как это звучит?! Меня съели лошади!»
– Так вот, Адмет ему как радушный хозяин даже и говорить не стал, что жену хоронит. Оговорился, что, мол, родственница какая-то померла, я в хлопотах, а ты пируй себе! Двери на женскую половину позакрывал, а в мегароне пир для гостя, стало быть, устроил. Ну, ты ж знаешь этого моего братика: весь в папашу. Все равно вызнал, что надо, и решил воздать царьку за гостеприимство.
Здесь Гермес принялся скрести хрящеватый нос с таким задумчивыми видом, что до последней Керы дошло: путь воздания за гостеприимство герой выбрал странный.
– Он что же – решил вернуть ее из моего царства?
– Н-нет, до такого не дошел… – Гермес выдержал паузу, набрал воздуха в грудь и обвел мрачный зал заискрившимся взглядом. – Просто решил ее обратно у твоего вестника потребовать!
Тень вскрикнула от ужаса и закрыла лицо руками. Свита вразнобой заорала по другой причине: от пущего восторга. Зашелестели крылья, зацокали когти. Мнемозина в задумчивости сунула стилос за ухо и вперилась в Гермеса округленными глазами. А за остренькой улыбочкой Гекаты проскользнули почти неслышные слова о том, что Гераклу не суждено свершить десять подвигов во искупление…
Я сперва вообще не понял, о каком вестнике речь. Только когда Гермес зачастил в исступлении:
– Ну и вот, с вечера уже возле толоса сидит, ждет, значит, пока Железносердный наведается жертвенной кровушки напиться. Ждет, а рядом дубина лежит. Знатная такая дубина, здоровая, не об одну голову закалял…
У кого-то – дубина. А у кого-то – меч.
«Невидимка, – пробудилась Ананка за плечами. – Помнишь – я говорила, что тебе нужно научиться не вмешиваться?»
Я мотнул головой, изо всех сил борясь с желанием не думать о последствиях скоропостижной кончины великого героя, надежи и опоры Олимпа. И где – в толосе жены какого-то басилевса!
– …так вот, невидимка, забудь сейчас об этом совете. Нити дрожат. Отсекаются пути. Ножницы Атропос уже раскрылись – резать… и строки в моем свитке начинают выцветать. Невидимка!!
– Вон! Все!
Наверное, я никогда еще не действовал и не думал так быстро.
И никогда не плевал так на то, что обо мне подумают.
Рявкнул тени: «Стоять! Не ты!» – на остальных взглянул такими глазами, что их будто лихими конями за двери вынесло. Нетерпеливо сжал пальцы, призывая хтоний – хорошо еще, был у меня, а не у племянника.
Сомкнул ладонь на холодном, вялом запястье тени – это для кого другого она бесплотная, только не для подземного царя. И ничего не поясняя, невидимкой, в несколько шагов… Где у нас Феры? В Фессалии, а где там дворец, где толос этот?! А, будто бы Владыка – и не найдет!
В лицо дохнуло сначала пропитанным духотой ночи и терпкими ароматами склепа, потом сразу дунуло могильным холодом, и перед носом мелькнули сперва железные крылья, а потом просвистела дубина – и правда, хорошая, крепкая, в особенности – когда уходишь от нее впригибку, как пришлось мне…Тень Алкесты, не издавшую от потрясения ни звука, снесло куда-то в угол, звонко звякнул сосуд, по которому тоже прогулялась дубина, кровь – жертвенная кровь ягненка – давно расплескалась, запятнав ноги схватившимся не на шутку противникам.
Со стороны казалось: двое влюбленных, долгое время не видевших друг друга, слились в страстном объятии. Звуки были под стать: рваное дыхание с одной стороны и шумное пыхтение с другой. Они сдавили друг друга в удушающем приветствии. Они – это Убийца, который пока еще все же не схватился за меч, и сын Зевса, или, может, не он – не поручусь. Кроме Таната, в толосе ворочалось что-то огромное, сопящее, лица рассмотреть не удавалось, только бороду, почему-то торчащую из-под массивной львиной головы. В львиных глазах навеки остекленело удивленное выражение и безмолвное: «Воздуха!»
Благовония смешивались с острым запахом пота, перекатывались во тьме мышцы, и казалось – это безмолвный мрак толоса решил схватиться с каменными стенами, со скалами… борьба шла – сила на силу.
Отброшенная дубина, которой Геракл если и воспользовался – то в первые мгновения и только для неожиданности – валялась под ногами. Тень Алкесты, которую никто не замечал, приоткрыв рот, глазела на собственное умащенное маслами тело, а сын Зевса стискивал вокруг плеч Таната кольцо рук-цепей, не замечая, что Убийца опускает голову, что плечи мелко подрагивают…
Он не терпит цепей – с того самого своего заключения у Сизифа. А значит – сейчас будет ровный, почти незаметный вдох, удар затылком в подбородок, а потом Геракла будто отшвырнет взбесившийся вихрь – и темноту прошьет извлеченное из ножен холодное лезвие, которое не должно здесь появиться сегодня.
И пряди с головы величайшего героя будут отсечены – вместе с головой. Вернее, головами – его и львиной.
Почти угадал. Один удар в лицо затылком Геракл пропустил, а потом вдруг сам разомкнул хватку, и в миг, когда клинок Таната оказался на свободе – герой будто молотом бахнул Убийце по запястью – и одновременно навалился с прежней силой.
Клинок звякнул о камни толоса, равнодушно проехался по полу, и я на миг забыл о том, что собирался сделать, представив себе: какая это сила! Потом Танат, извернувшись ужом, метнулся за мечом, дающим ему последнее преимущество в схватке – и я вспомнил, что хотел сделать.
И, не веря, что делаю это, наступил на клинок в ту самую секунду, как Убийца дотянулся до рукояти.
Пальцы Таната тщетно рванули рукоятку. Раз, потом второй. Но верный меч предал: моими стараниями он будто присох к полу.
Третьего раза не было: Геракл рванул противника назад, и пальцы Убийцы схватили воздух. Правда, тут же сжались в кулак, которым бог смерти попытался заехать смертному герою, но тот кулак перехватил и развернул, очень удачным приемом опытного борца.
Знал он? Или просто чувствовал? Убийца всегда презирал борьбу. Его меч для него – единственное мыслимое оружие, и без меча он…
К тому же, устремившись за клинком, Танат открылся и дал возможность зажать в себя в такой захват, который уже было не стряхнуть.
Я стоял на мече, глядя на черное железо. Гладкое, ровное, когда-то певшее под пальцами. Это железо не должно даже стоять. А лежать на полу толоса какой-то смертной… лежать под ногами, пока хозяина вжимают щекой в эти же холодные камни, пока победитель, тяжко сопя, стискивает ему грудную клетку, выдавливая последние крупицы воздуха, или…
Раздался звон перьев, потом скрип зубов, и почему-то стало ясно, что Геракл не ограничился грудной клеткой. Истребитель Чудовищ хорошо знал слабые места тех, кого истреблял – и теперь он, вцепившись в основание крыльев Убийцы, медленно выворачивал их из суставов.
Следующая мысль была: если Танат не догадается и продолжит молчать… не знаю, сколько я устою на треклятом клинке. А тогда уже…
Но «тогда» не наступило: с той стороны, где на полу копошились две тени – огромная, с львиной головой, и поменьше, с неестественно поднятыми крыльями, долетел придушенный голос Убийцы:
– Чего ты хочешь?
Второй голос басовито прохрипел из недр львиной шкуры:
– Сам знаешь. Пусти ее.
– Нет.
Конечно – нет. Нет – это потому, что тень-то давно во дворце у Владыки. Стикс переплыла, за Гермесом прошла врата с Цербером… как ее отпускать? Куда отпускать?! И чему только героев этих учат… Конечно – нет.
Только вот Танат со своим «нет» – немногословен, а герой не умеет читать между слов.
Скрип зубов Убийцы повторился и перешел в сухой, сдавленный стон.
Надеюсь, он может думать в таком состоянии.
Тень верной Алкесты, до тошноты любящей жены (и дуры, если вдуматься как следует), повинуясь мановению моей руки, подплыла к своему телу в гробнице.
Мне не приходилось раньше воскрешать. Мало кому из богов приходилось: чтобы воскресить – нужно иметь не только разрешение Подземного Владыки, но и голос Мойр. В случае с Сизифом пряхи оказались неожиданно терпеливыми, теперь же…
«Я договорюсь с дочерьми, невидимка…»
Тень и тело стали единым целым. Дрогнули веки, затрепетали ресницы. Из горла донесся тихий всхлип – звоном расстроенной струны кифары.
Львиная голова – а под ней человеческая – тяжко качнулась в сторону звука. Звякнули перья. Неохотно и медленно сын Зевса высвобождал крылья противника от своей хватки. Что-то хмыкнул, пробормотал назидательно: «Ну, смотри мне…» – и поднялся.
Тень, гуще тени шагнула к гробнице, извлекла из каменного саркофага тоненькое, дрожащее тельце. Потом вход и ночное небо с удивленными звездами загородили широкие плечи. Геракл со своей добычей отправился радовать друга-Адмета. Видно, рассудил, что дубинку после подберет. И вообще, кто ее тут возьмет, эту дубинку, этот, Жестокосердный, вообще подняться не может…
Верная Алкеста, не в силах поверить в свое спасение, глухо всхлипывала в львиную шкуру.
Ладно, если ей повезет, теперь она сможет сама спросить у мужа – у бесконечно любящего мужа, почему он позволил ей занять его место.
Мне тут сейчас другое…
Момента, когда Убийца оказался на ногах, я не увидел. Измятые крылья дрогнули, кольнули глаза тысячью острий – и передо мной оказалось совершенно белое, залитое ихором лицо с горящими глазами. Ударил свистящий шепот:
– Значит, это был ты?!
Впервые на моей памяти Танат был в таком бешенстве, что забыл о разговорах взглядами. Впрочем, нет, во взгляде тоже было много.
Взгляд кричал о предательстве.
Я снял шлем и отступил, освобождая меч, – клинок тут же оказался в руках у своего хозяина.
Жаждущий крови и не желающий возвращаться в ножны.
На меня Убийца не взглянул и сразу повернулся к выходу. Туда, где в летней ночи таяли тяжелые шаги и звучало успокаивающее бурчание Геракла – великого героя, одолевшего саму смерть.
Ненадолго одолевшего – если только я не…
Когда я встал на его пути, загородив выход из толоса, Убийца и не подумал свести крылья и пропасть. Бегство – путь не для воинов.
Предупреждать он тоже не стал.
Лезвие ушло снизу вверх в коротком замахе. Черная железная дуга, впитавшая в себя холодную ярость побежденного, стремилась к моему горлу, и от нее можно было уйти в уклоне – подставив себя под второй удар, колющий, напоровшись на ядовитое острие… Или отразить мечом.
Я подождал, пока клинок пройдет свой путь до середины, а потом поднял руку и взял двузубец, и тот послушно пришел из подземного мира и зала, в котором был оставлен.
Волна мощи хлынула в оружие, рванулась вперед с неистовством тысячи воинов – и яростное железное острие не закончило своего пути. Убийцу шваркнуло о дальнюю стенку толоса – жестоко, с глухим ударом и погребальным звоном крыльев. Будто кувшин, который жена швырнула в стену над головой неверного мужа.








