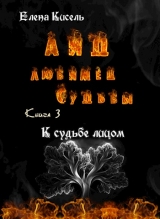
Текст книги "К судьбе лицом (СИ)"
Автор книги: Елена Кисель
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
– Что ты прикажешь мне делать в твое отсутствие?
– Оставаться во дворце.
– Я выполню приказ Владыки. Я буду ждать твоего возвращения.
Равнодушно, холодно. Правдиво. Когда это она научилась так правдиво врать – у Аты, что ли, уроки брала? Поклонилась в знак прощания и покинула зал не спеша – с достоинством царицы подземного мира… как – и ничего не скажешь напоследок, царица?!
Видимо, ничего. Да и тем, кто идет побеждать – не положено напутствий.
Им положены пышные встречи после победы.
Из-под ног куда-то шарахнулся Гелло. Из-за угла полетело бурчание Эвклея.
Не останавливаясь, я надел свой новый шлем – черный, глухой…
Основной зал. Шаг. Скучный, простой – шаг. Владычий, холодный, тяжелый, неспешный… Еще шаг.
Следующий шаг я сделал уже по земле Беотии.
Безмятежно журчал ручей по зеленой ложбинке, зажатой в кулак суровых скал. Где-то далеко у Олимпа гром воевал с огнем, а за пятьдесят шагов стрелы отливала каленым золотом колесница с четверкой храпящих вороных коней – моя колесница.
На ней были двое.
* * *
Он стек на землю не спеша, двигаясь гораздо ловчее, чем если бы у него были ноги. Черные змеиные кольца примяли зелень травы. С гудением унеслись в разные стороны потревоженные пчелы.
Он улыбался – и почему-то сразу стало ясно, что он отлично умеет улыбаться, не то, что я…
Геракл спрыгнул следом, поигрывая своей палицей – хмурая гора, на которую зачем-то посадили сверху львиную бороду. Смерил взглядом с недоумением сначала меня, потом Алкионея…
– Сам поехал, – сказал зачем-то. – Я его хотел на плечо, да и… связать еще. А он сам поехал. Сказал, хочет с тобой увидеться.
Я кивнул, не отрывая глаз от сияющей мне в лицо улыбки.
Ярче лучей безжалостного Гелиоса, в тот первый день. Я пока еще не различал лица – только улыбку…
Наверное, так улыбается Судьба.
– Стрелу он все-таки получил, – сообщил Геракл из-под своей шкуры. – Вместо «радуйся». Чтобы не высовывался.
Я не кивнул. Не моргал. Улыбка слепила глаза, но я знал: если моргну – увижу худшее.
Его лицо.
– Возьми колесницу, – сказал я. – Тебя ждут на Олимпе.
Прозвучало как «убирайся». Гипнос – или кто-то из его сыновей? – шептался у Ахерона со своей подружкой из нимф. У Владыки, шептал он, теперь все звучит как «убирайся». Даже приказ подойти.
Геракл постоял еще мгновение, глядя на воина в черном шлеме. Потом вернулся к колеснице. Кажется.
Вроде бы, не сразу справился с лошадьми, надрывно храпящими, взрывающими копытами мягкую, черную, плодородную землю…
Я не смотрел. Мы уже были одни.
На зеленой цветущей поляне – укромном уголке, огороженном скалами, украшенном цветами и протекающим ручьем… на роскошной арене – одни.
Двое любимчиков.
Он выдернул из плеча торчавшую в нем стрелу, отравленную ядом Лернейской гидры. Держал в сильных, гладких пальцах – покачивал с намеком.
Из обнаженного плеча неспешно струилась черная кровь, но он не обращал на нее внимания. Он стоял, раненый в плечо – и улыбался…
Любимчик.
Мое отражение.
Я видел его лицо сотни раз до того, как посмотрел на него сегодня.
В чашах. Водоемах. Блестящей меди щитов. В серебре – зеркал. В глазах пленниц и рабынь на ложе.
Я знаю, тебя, Алкионей, новый любимец Судьбы.
Ананка почему-то предпочитает вот таких – остроскулых, черноглазых, с широкими плечами (на такие влезет любая ноша!) и упрямым взглядом.
Наверное, я должен ревновать. Наверное, должен стискивать пальцы, вонзая их в родную бронзу двузубца, потому что ты не можешь, не можешь, не можешь быть настолько похожим на меня, потому что я поклялся себе, что у меня никогда не будет сыновей – чтобы никогда напротив меня в бою не встал кто-то, настолько схожий со мной!
Но чудовища не ревнуют. И Судьбы у нас нет: предназначение.
Ты ведь об этом знаешь, правда? Новое поколение правителей, рожденное от Геи и Тартара – вы хорошо понимаете свое предназначение.
Улыбающаяся юность, небрежно перепоясанная шкурой пушистого барса.
Ты мог бы быть моим сыном. Но ты – сын Матери-Геи, нет, иначе: я знаю, что ты ее любимый сын. Я знаю, какое сходство она в тебе видит.
Мне на руку это сходство – ты ведь помнишь, чем там закончилось, в прошлый раз?
Жаль, я не вижу у тебя в руке серпа – тогда бы сходство стало полным.
Вообще не вижу оружия: щурюсь, стараясь различить сквозь улыбку: что там в руке? Палица? Секира? Может, дротик? А может – и вообще оружия не видно?
Нет, не видно. Наверное, это – общее для всех Гигантов: самим быть оружием матери-Земли. Наверное, это их общая тактика: не бросаться вперед. Улыбаться приглащающе в лицо противнику. Свивать-развивать кольца, приминая поблекшую к осени траву, принимая позы – одна другой лучше, так и хочется прицелиться.
Наклонять голову, шевелить губами: «Давай, плесень!» – или что-то еще такое же…
– Страшно… Владыка? – участливо раздалось из-за улыбки.
Все, хватит, наскучило. Знаешь, Алкионей, у меня пока что хорошо получается сражаться с отражениями. Владыки вообще-то любят поговорить, даже с врагами, но мне больше нравится карать.
С удовольствием побеседую с тобой, когда ты окажешься на Полях Мук. Или в отцовской темнице – Тартаре.
Через дверь.
Пока же – давай закончим.
С отражениями биться просто. Как с памятью.
Я уже пробовал, и сейчас родная скука вздыхает обреченно: «Ну, давай еще раз…»
Что видишь, скука? Двоих, глядящихся друг в друга? Юношу и старика? Воина и царя? Вырастающую перед беспечным воином тень? Она вырастает основательно, без излишней торопливости, Алкионей радостно усмехается ей – будто игривой подружке, поманившей на сеновал, откидывает голову, любуется грозным знаком чудовищности и непобедимости…
Он велик. Он могуч, этот знак власти, попирающий ногами Гею-Землю напротив ее ухмыляющегося сынка. Тьма нависает тяжким бременем над фигурой, укрытой в багряное, и фигура кажется властной и непреклонной.
И нетерпеливым гадючьим жалом трепещут черные лезвия двузубца.
Вместилище мощи мира, лежащее в ладони.
Близко. Очень близко. Трава под ногами погибает от соприкосновения мира, рвущегося из руки. Смерть просится наружу, с жал двузубца – чтобы убить того, кто осмелился назваться Погибелью Владыки. Желание истребить сочится с кончиков жезла, наведенных в лицо отражению.
В убийственный, тонкий серп ухмылки. Кажется: вот-вот в бороде скользнут два опасных ручейка седины, проедят себе дорогу в черноте…
Рука ласково стискивает двузубец: давай? давай…
Отражение даже не понимает, откуда приходит удар.
Единственный. Удар-Владыка, удар-уничтожение, удар-небытие…
…отражение дробится на мириады осколков – взрывается и опадает воздушной пылью на землю.
Подниматься оказалось неожиданно трудно. Тело отказывалось верить. Бог не должен лежать лицом в истоптанную траву, он должен – повелевать! Приказывать! Быть смыслом!
Я выпрямился и встал вновь – смыслом против бессмыслицы, против Алкионея, ухмыляющегося хитрой улыбкой дурака. Боги не падают. Я не лежал только что на земле, это – ложное сновидение, посланное Ониром, Атой или их подружкой Лиссой-безумием. И верный двузубец со мной, и теперь только бить, повелевать…
Я ведь налегке! Ни Ананки, ни памяти: я и власть, мира больше нет рядом, мы – навеки единое целое, и двузубец – легче перышка, и я повелеваю ему: удар!
Удар-приказ, удар-мир, удар-я…
… снова не заметил, когда он ответил. По волшебству, что ли, у него в руках копье появляется?
На этот раз – не в щит, а в живот, броню не пробило, но ударило так, что я попятился, поскользнулся на следе собственной колесницы – и с сокрушительной силой уселся на землю.
В пепел. Значит, мой удар все же был – словно пламя Флегетона выпалило зелень, от жара потрескались даже камни, и пересох дочерна тот самый текущий ручей.
Алкионей хихикал, глядя на меня сверху вниз глазами аэда.
Безумец, конечно. Чего смешного увидел?
Владыку, сидящего враскоряку на черном пепле? Да это ему привиделось, вам любой рапсод скажет – не бывает такого. Это ж кем надо быть, чтобы в своем воображении посадить на задницу Стикс, и Коцит, и Врата Тартара?
А Владыка – вот он, на ногах стоит, смотрит исполненным мрачной повелительности взглядом. Скипетр с ладонью – единое целое. С кем ты связался, сын Геи? Что ты вообразил себе?!
Эту битву воспоют рапсоды.
Удар – двузубец, удар – черная молния, удар – мир…
Почему радуга на небе? Сегодня все безумны, а Ирида в особенности. Нынче боги воюют в обороне, уже запылал Олимп, а ей – радуга…
…а, это не на небе, это в глазах. Когда ж он… он ведь даже не замахивался?
Или ему и замахиваться-то не надо?
Хищно щерятся псы пониже двух острий – разозлились. Где там твое копье, Погибель Аида? Ты еще не бежишь, Погибель Аида? Не видишь, что у копья Владыки два жала и оба наведены тебе в лицо – единым приказом?
Единым ударом?
Удар – смерть. Удар – крах. Удар – победа…
О, Эреб, какая же тут твердая почва. Если бы только Владыка мог грохнуться затылком о скалу, как отброшенная кукла Ананки – пришлось бы худо…
Но ведь чудовище, которое называют богом, бог, которого называют чудовищем – он ведь не может? Он – не может?!
Удар – ярость, удар – мрак, удар – стон…
Это не я сплевываю сквозь зубы благоуханный ихор. Это не я валяюсь в пепле, черном и потому не пачкающем хитон. Не я пытаюсь заслониться треснутым щитом от очередного удара.
Нет, это не я!
Я же все сделал как надо. Я же Владыка. Ведь нет оружия, которое бы меня…
Чем же ты бьешь, Погибель Аида?!
Почему ты не добиваешь меня, когда я падаю? Почему ты не заслоняешься от моих ударов и не препятствуешь мне их наносить? Ты как будто истово веруешь, что я – Владыка, ты наслаждаешься этим, а потом ты каждый раз поднимаешь свое оружие – и…
Удар – недоумение…
Двузубец стонет разочарованно – ведь не мог же промахнуться! Ведь Владыки, у которых нет ничего, кроме своей власти и своего мира – они не промахиваются. А я был в этот момент – двузубцем, миром, властью, я не мог промахнуться…
Острые камни больно впиваются в ладони, и ноет ушибленный бок.
Чем же ты бьешь, мерзавец? Что ты ухмыляешься в бороду и смотришь на меня как на бабочку, отчаянно кидающуюся на пламя? Не сметь так смотреть на Лету и Стигийские болота в едином лице! Я – Владыка…
Скалы – и те трепещут, а больше трепетать нечему, на несколько тысяч шагов ничего живого не осталось…
Удар – усилие…
Русло пересохшего ручья подкрадывается исподтишка, поднимается и изо всех сил бьет по лицу, по плечам, по невовремя подставленным ладоням, где-то в мыслях заливается, хлопая в ладошки, покойный насмешник-Мом, сожалея, что это нельзя рассказать или показать остальным. Из носа, кажется – тоже ихор, судя по тому, как я им хлюпаю, о Хаос предвечный, кажется – это все-таки я… это я…
Чем же ты бьешь…
Удар – отчаяние.
Ответ вышибает из легких воздух, острый осколок скалы – их здесь во время схватки образовалось порядком – режет бровь, без всякого почтения к Владыке, режет себе – и все. С усилием переворачиваюсь на бок, ихор начинает заливать глаза, расплывается копье в руках у Алкионея, кажется, что у копья два наконечника…и кованые морды пониже них, что там… львы?
И ловлю ухмылку в черной бородище, и меня начинает колотить так, будто я уже в водах Стикса, потому что не всякий ответ приходит вовремя, потому что лучше бы это и впрямь были воды Стикса…
Потому что он бьет – мной.
Потому что это – новое племя. Великая сила Геи и великая, засасывающая пустота Тартара в единых венах.
Потому что титаны брали свою силу из гор, рек, долин, они и были – горами, реками и долинами. Боги начали черпать власть сперва в самих себе, а после – во всем, провозглашая повсеместно: «я – война», «а я – торговля!».
А Гиганты, порождения Геи и Тартара, берут свою силу от бессмертного противника.
Всасывают в себя и обращают против него, оставляя крохи личности – смертное тело и душу, первое – в землю, второе – в мое царство…
И потому для них опасен Геракл… все-таки Геракл… тот, в ком течет божественная кровь, но у кого пока еще нет бессмертия, тот, у кого не отнять ни крупицы его силы, потому что он ниоткуда ее не берет, у него нет ни мира, ни власти, вся его мощь – его собственная. Геракл, который видит перед собой противника и может спасти Олимп своей смертностью – потому что они не в состоянии забрать у смертного хоть что-то, кроме жизни, конечно.
Задрожавшая рука вознесла двузубец – или двузубец за собой потянул руку.
Удар? Нет удара. Он будет ударом по мне.
Он примет его в себя и обратит… на погибель Аиду.
Алкионей усмехался радостно. Выпивал из моих зрачков страх и беспомощность – все не мог насмаковаться.
– Понял? – спросил весело.
Понял.
Сколько раз мне осталось ударить – пять, десять? Может, меньше? Прежде чем он станет хозяином моему оружию больше, чем я сам, заберет мою мощь и станет более, чем я, Владыкой… А потом он – нет, не убьет, это есть в его глазах – потом он оставит меня здесь захлебываться унижением, поражением… подыхать от сознания того, что случится. Он оставит меня здесь и шагнет в мой мир, нет, в свой мир, и Цербер пропустит его, и врата на алмазных столпах покорно откроются… Он сядет на трон, чтобы судить, казнить и миловать, и смертные – если останутся смертные – будут говорить: «уйти в алкионей», как бы это нелепо ни звучало.
И он откроет врата Тартара, и месть титанов обрушится сначала на тот мир, где так долго ковались стены их тюрьмы.
А может быть, он не захочет быть Владыкой и просто прикажет единому с ним миру умереть. Падут своды, и тогда…
Кора.
Понимание родило память, и сердце сбилось, зашедшись в едином крике: «Дурак!!!»
Если сейчас он шагнет в мой мир… если откроются Врата… если он прикажет пасть в руины моему дворцу…
Я отшвырнул двузубец так, будто мог о него обжечься.
Вслед за этим отшвырнул мир. Это далось неожиданно просто: Владыка бы не смог, потому что Владыки не разбрасываются атрибутами своей власти, и у них не трясутся от напряжения колени, и им не хочется исчезнуть с поля боя, чтобы продолжить бой на своих условиях…
Владыка Аид бы не смог. А у Аида-невидимки, колесничего и воина, – вполне получилось.
Стоило только шепнуть себе: «Нет, это не я».
Это не я пришел сюда – единый с миром и жезлом и хотел одержать победу, повелевая. Это не я был – Флегетоном, Стиксом, вратами Тартара и Коцитом, это не я слился с золотым троном, не я разучился читать по глазам, не меня заливала божественная скука под Пилосом и после него.
Я отшвырнул свой мир, свою власть – и стал перед противником, плечами заслоняя Флегетон, Стикс, гинекей, где была жена, асфоделевые луга и стигийские болота. Это было просто. Стоило только поверить: «Да, это я».
Это я падал лицом на камни, и бился головой о скалы, и сплевывал сочащийся из разбитых десен ихор. Это я поднимался, заставляя замолчать обреченно стучащее: «будет» сердце, отряхивая пальцы от жирного пепла. Это я – дурак, который забыл себя в собственной власти, растворился в своем мире и перестал различать лица.
Я – друг Таната Жестокосердного, муж Персефоны и хозяин Гелло и Цербера. Я – Аид-невидимка, за плечами которого – вечная Ананка.
Я удержу.
Он не улыбался больше – скалился. То ли не понимал всего до конца, то ли как раз понимал чересчур хорошо. Скалился – злобно, насмешливо, страшнее, чем Цербер, когда ему вместо медовой лепешки предлагают за проход сырную…
– И чем будешь биться… Аид?
Тогда я усмехнулся в ответ. Улыбкой человека (или бога, разницы нет), осознавшего свою ошибку.
Меч был здесь, он лежал под ногами, неведомо когда отстегнувшись с пояса. Я мог бы протянуть руку и позвать, я мог бы даже и руки не протягивать…
Но вместо этого я наклонился и подобрал махайру из пепла.
Голос Таната – не того Убийцы, который вечно в делах в смертном мире – а молодого воина, союзника и со-узника в темнице – зазвучал в ушах:
«Неважно, что ты думаешь. Неважно, разишь ли. Ты – воин. Хочешь, я научу тебя?»
«Чтобы я тоже мог убивать?»
«Чтобы ты мог выбирать – поднять меч или нет. Выбирать могут только те, кто умеет…»
«Что делают остальные?»
«Они сражаются не мечом, а своей сущностью».
Мне нельзя сегодня – моей сущностью, учитель. Значит, я выбираю меч. Значит, выбираю – поднять его. Передо мной во плоти – Погибель Аида, и я поднимаю свой меч, потому что иначе Алкионей будет вечно стоять у меня за спиной. Хуже Ананки.
Плавно соскользнули ножны – словно стесняясь обнажать бронзу. Блеснуло освобожденное лезвие – не божественным блеском. Во рту стало солоно – не знаю, от чего, ихор не бывает соленым, он безвкусен…
Столкнулись два взгляда – не бога и Гиганта, а противника и противника.
Радостно блестящий медной монетой за переправу вопрос – у него.
«Ого, серп! И что делать будешь? Прикажешь ему меня ударить?»
Черная бронза выкованного ответа – у меня.
«Мне не нужно приказывать. Я умею».
А вот тебя – учили пользоваться оружием, а, Погибель Аида?!
Он взревел, швырнув в меня копье – прошло чуть выше плеча и наполовину вошло в скалу на полтысячи шагов за моей спиной. Подхватил тяжелую палицу, которая болталась у него за спиной – взметнул в небеса слепящей медью.
– Приплюсну!!!
Навстречу меди рванулся черный холод бронзы.
Алое и черное. Флегетон и Тартар. Багрец и тьма моего мира.
Война рассвета и ночи. И искры-звездочки от столкновения, от начала настоящего боя, в котором не нужно приказывать…
Только боль в мышцах, когда приходится упасть, пропуская над собой тяжелую палицу. Только заливающий глаза ихор, забытый боевой оскал ползет на лицо, начинает ныть запястье, когда удерживаю палицу над собой, не давая придавить меня к земле…
Только голос первого учителя, проламывающийся сквозь века.
«Защиту снизу! Ногу назад! Взмах! Обходи! Выпад! Режущий! Руби!»
Слышу! Знаю! Обхожу!
Перекатываюсь, приподнимаюсь, отскакиваю,
«Не увидел препятствие. Прижмись. Здесь экономнее. Коли. Ускользай. Еще!»
Прижимаюсь… ускользаю… отражаю…
Умею.
Палица чиркнула в опасной близости, отвел, ушел – почти удачно, зацепило по панцирю. Теперь, пока он на замахе – вперед, броня у него глупая, кожаная… Нет, свист палицы. Почти дотянулся, дотянусь в другой раз…
Короткие вздохи ожогами запекаются на губах.
«Я… бездарно… дерусь?»
«Ты дерешься отлично, невидимка, – шепчет незримый учитель. – Ты дерешься как никогда. Теперь только – выстоять. Только не остановиться».
«Не останавливайся, только не останавливайся…» – молит память, и черная бронза на миг оборачивается серебром в руке.
Палица со свистом режет воздух, толчет, мнет, избитый воздух не хочет идти в легкие, висит между небом и землей студнем, не пускает вперед серп. Колючий сгусток меди свистит над головой: отразить! Обтечь! Только не напрямик!
– Бежишь, трус! Куда ты?! Воюй! Бейся!
«Бей как бог!» – захлебывается память голосом брата.
Заткнись, память, – отшвыриваю я искушение, будто второй двузубец. Сами бейте… как боги. Или как чудовища. Или как вам угодно.
Толкнуться ногой от скалы. Прыжком – в воздух. Гигант неповоротлив, и рост – его недостаток: я легко проскальзываю под локтем, серп полосует бок, уши режет рев: отскочить, уйти…
«Бей как бог! Кто так воюет?!» – глохнет память, уходя к Олимпу, где воюют в обороне боги…
Так воюю я.
Небо начинает окрашиваться розовым, выдохи – еще короче, еще солонее. Двузубец валяется на камнях, и морды псов кривятся – вот-вот пролают какое-то решение…
Должно быть решение.
Второе – о котором молчала Ананка. Второе – о котором говорил Хирон.
О котором я уже догадался – только что…
Простое, как пропущенный удар.
Полет короток, крыльев нет, бой небрежно роняет меня на острые камни – лицом, щекой, и черное крошево впитывает ихор, окрашенный то ли рассветом, то ли закатом… Тело стонет, ладонь раздавленным пауком тянется по черным камням туда, где лежит брошенный двузубец – за миром, за силой, за тенью…
Стоять! Нельзя!
Слишком велики ставки.
На чаше весов – уже не врата Тартара.
Там – своды моего мира, дворец, в котором осталась Кора. Там – Танат и Гипнос, Эвклей и Гелло.
Булава тяжело опускается – рядом. Махайра летит вперед быстрее стрелы – наотмашь.
Алкионей люто щерится в глаза волком – я скалюсь в ответ загнанным сторожевым псом (куда там Церберу или мордам на двузубце!). Что, Погибель Аида? Думал ворваться в дом, обобрав хозяина?
У дома есть щит. У дома есть пес, который вцепится тебе в глотку: насмерть.
На… смерть.
Слово толкнулось в виски – простым решением. Старой ставкой над пропастью.
Найденным оболом за переправу на другую сторону, где ждет, пошевеливая белыми крыльями, Ника.
–…Ты встретился с Алкидом: что видит перед собой он?
– Противника.
И потому для них опасен Геракл… все-таки Геракл… тот, в ком течет божественная кровь, но у кого пока еще нет бессмертия, тот, у кого не отнять ни крупицы его силы…
Ты мажешь, мой противник. Тебе непривычно вот так? Только через «умею»?
Тянешься нетерпеливо, твоя тень скрючивает пальцы: «Давай, давай, рано или поздно, ты…»
Свист серпа.
Ты ничего от меня не получишь, Гигант.
…потому что вы не в состоянии забрать у смертного хоть что-то.
Кроме жизни, конечно.
Может ли быть смертным правнук Хаоса? Внук Урана и Геи? Сын Крона Повелителя Времени и Реи Звездоглазой?!
Грань была – далека: то ли справа, то ли слева, то ли вровень с горизонтом. Но грань – была, я ее чувствовал. Бессмертие вытекало толчками из ран с благоуханным ихором, въевшееся за годы в кожу, в мысли – уходило в небеса.
Я отступил, пропуская летящую в лицо булаву. Сияющую алым.
Так, словно мог не подняться после этого удара.
В конце концов, мы все – оборотни.
Шаг назад стал шагом к горизонту, к невидимой грани – и вместе со мной туда сначала медленно, а потом быстрее и быстрее пошел противник…
Слабость Гигантов. Простая и глупая. Боги для богов, для смертных – они смертные.
Высокие. Могучие. Почти неуязвимые герои.
Но смертные.
И поэтому – да, все-таки Геракл…
Алкионей дышал с присвистом, шумно. Пытался упираться. Отмахиваться булавой – куда?! Приплюсну! Не буду, не пойду, не…
А я по шагу выталкивал его из бессмертия, вытаскивал вслед за собой – к незримой черте, за которой ждала Ника с белыми крыльями…
Или, может, кто-то другой – с железными.
– Ах ты… – сипел и плевался Гигант. – Куда ты? Ты не сможешь!
Не смеши меня, моя погибель. Я из себя за несколько лет чудовище сделал – а тут не справлюсь?!
Я еще не вижу свою грань – но во рту уже солоно, и раны уже загорелись, я дойду, я научусь, сумею…
«Учатся смертные! – гремит память – вот-вот гневной молнией сверкнет.– Умеют и выбирают – смертные! Ты должен – желать! Приказывать! Повелевать! Бить не телом или оружием, а своей сутью, нутром, мощью, которая за тобой! Ты знаешь, что нас – рожденных после титанов – называют богами? Ты вообще, представляешь, что такое быть богом?!»
Спасибо, брат, – чуть не слетает с пересохших губ. Надеюсь, у вас там все хорошо, на Олимпе, в обороне. Где вы приказываете, повелеваете, желаете. Спасибо, я помню, что такое быть богом.
Мне бы только понять до конца, как – наоборот. Что такое быть…
Смертным… я мог поклясться, что чувствовал, как открывается мне навстречу щель входа у Тэнара, я почти видел ухмылку Харона, слышал ворчание Цербера, плеск Леты, хотел…
– А-а-а-а!!!
У него что – второе дыхание открылось? Или просто понял, куда его веду? Вырос впереди – громадой, пахнущей землей и потом. Булава – красная молния, блеск ударов; щит разлетелся окончательно, раскололся, будто не из металла, а глиняный…
Припер все-таки. Спиной к скале – вон, осколок какой-то в бедро тычется. Намекает, зараза, что у меня шило в одном месте – так не добавить ли?
– А что это… Кронид… что у тебя на щите было? – зубы Гигант не показывает, растягивает в усмешке тонкие губы. – Гранаты? Речка эта? Собака твоя? А я с ними… как со щитом!
И мелькнуло в глазах – алым бликом предвкушения: поступь титанов по полям асфоделей, освобождение грешников на Полях Мук, храпящая квадрига перед языками пламени, застывающие двумя изумрудами глаза: не только смертные от ужаса своей участи могут превращаться в камни…
Рано или позд…
– Никогда, – просипел я.
Меч и булава столкнулись рассветом и ночью. Брызнули искрами-звездопадом. Тяжелый шип проехался по руке, сковырнул наруч – ничего, царапина неглубокая…
В глаза Гиганту полетела горсть песка – подлый прием, каким не пользуются боги.
В ответ я получил подножку – прием, которым не пользуются боги…
– Что, бесишься, а? Бесишься? Ну, и что ты мне сделаешь, а?
– Глотку… перегрызу…
– Умеешь видеть, да, Аид? А ты посмотри мне в глаза, посмотри! Видишь – там? Это уже скоро, это уже…
– Никогда!!
Я знаю, что такое – смертный бой.
Знаю, что такое – бой смертных.
Это когда для тебя есть что-то выше бессмертия.
Я понял. Я умею. Я выбираю… выбрал.
Удар и удар. Просто меч и просто булава. Промах и… промах.
И подлые приемы, о которых ни богам, ни чудовищам не нужно даже знать.
Мы катились к смертности наперегонки – двумя сизифовыми камнями.
Так, будто венок победителя в этой гонке был свит не из асфоделя.
И мир вокруг смеялся, окрашенный алой смертностью, и где-то хохотала Лисса-безумие, потому что в этот миг я превзошел ее. Бог – и вдруг идет к смертной черте. Владыка подземного мира ломится, презирая свою божественную сущность, к черной ладье Харона! Столько веков сидел на троне, а теперь в сонмища теней решил затесаться!
«Ой, я не могу, – хрипит невидимая Лисса, хватаясь за живот. – Я ж так и знала, что не зря его столько по голове били!»
Удар – удар, махайра и булава, медь и бронза, каждый удар – шаг, и грань – вот она, грань, шагать к ней больше не надо…
Грань с размаху бросилась под ноги – верной дорогой. Разрослась и ударила обжигающая боль в мышцах, и сзади послышался тревожный шелест железных крыльев…
Все, – шевельнулись губы.
Дошел.
Смахнул со щеки темные капли. Смертная кровь всем нехороша: и на вкус, и пахнет как зараза, и после боя от нее не отмоешься…
Мы оба задыхались, глядя друг на друга. И оба смеялись.
Алкионей гоготал ликующе, вторя безумию – или охваченный безумием. Размахивал своей булавой – все успокоиться не мог. Ревел медной глоткой в небеса, не обращая внимания на то, что у самого из ран кровь хлещет.
Не замечая, что я тоже смеюсь – в третий раз за свою жизнь. Тихим, едким смехом, который обычно должен раздаваться из-за плеч.
Что, Алкионей, из-за плеч ты этого не слышишь, да? Ну так посмотри на меня и послушай.
Ты – моя погибель, Алкионей. А я буду твоей Ананкой.
Не хочешь посмотреть своей судьбе в лицо?
Он посмотрел мне в лицо. Замотал головой, отфыркиваясь.
– Ну, Кронид, ты учудил. Нарочно не придумаешь. Ведь ты же смертный теперь, как…
Смертный прямо как смертный. Хороший каламбур. Нарочно не придумаешь.
– Ты тоже.
И опять задрожал Уран, потревоженный нынче Гигантомахией – теперь от раскатов хохота. Откуда-то из необозримого далека, от Олимпа откликнулась негодующим ржанием квадрига.
Дышать становилось все труднее, и разнылась почему-то спина. Повисла рука с потяжелевшим серпом.
Алкионей оперся на булаву. Вытянул шею.
– И что? Ну, смертный. Ты посмотри на себя и посмотри на меня. Ведь я же тебя как букашку пришибу – видал? – крутанул булаву в ручищах, выпрямился, озирая меня с высоты своего роста. – Что ты без своей силы, а что я? Или думаешь, я тебя смертнее?
Он опять хотел смеяться, но в этот миг я сказал:
– Думаю, – и смех так и не взлетел к небесам, не потревожил Урана. Глупым камнем, сорвавшимся с пращи, упал на землю – мимо цели.
– И почему это?
Я проследил, как поднимается булава, чтобы вогнать меня по шею в здешнюю утоптанную почву. Из-за бьющего в спину Алкионея солнца она казалась черной – и краснотой откликались капли, срывающиеся с моей щеки.
– Потому что у меня в крови не течет яд Лернейской гидры.
Булава замерла в небе шипастой кляксой. Глупой пародией на новое созвездие.
Опусти руку – и останется висеть.
Алкионей руку не опускал: так и замер с поднятой, открывая черные заросли под мышкой.
Ему бы на плечо посмотреть, откуда вытекает кровь – отравленная, черная, пузырящаяся, напитанная лернейской смертью, посланной Гераклом…
А он смотрел на меня.
Будто чудо какое-то увидел.
Ладно бы чудовище, а то – чудо.
– Ты обманул меня!
– Это оружие смертных, – сказал я. – И мое оружие.
Ата-обман в своих чертогах подняла пухлой ручкой чашу – за невидимку. За своего ученика.
Алкионей опустил руку. Булава еще миг висела, потом упала – за его спиной. Если бы там стояла какая-нибудь Ананка – ее бы пришибло намертво.
Но Ананка Алкионея стояла перед ним: дурацкая такая Судьба в измятом и запыленном доспехе, чернота которого мешалась с алой жидкостью из ран, жидкость светлела и, кажется, начинала благоухать, хотя грань все еще была под ногами…
Ананка с опущенным серпом и тартарской чернотою взгляда.
И – прости, Алкионей, тебе, наверное, не сообщили – у твоей Ананки очень скверный характер.
Он рухнул, свивая почерневшие, дрожащие кольца змеиного тулова, и вцепился пальцами в землю, так что наши глаза оказались на одном уровне.
Открыл рот с желтоватыми зубами – черную пасть, сродни той, которая осталась за плечами.
Протянул руку – то ли схватить за горло свою судьбу, молча глядящую на него, то ли заслониться.
А может, просто от боли.
Беспомощная погибель, глядящая с колен на судьбу. Аэды сняли бы последние повязки с бедер за возможность воспеть это.
Из черного провала рта донеслось со свистом только одно:
– П-преклоняюсь…
В глазах Гиганта больше не было алых бликов – показалось в горячке боя, наверное. Они были черными. Горячими.
Полными желания существовать.
«Пусть бы правили, брат, пусть бы правили – а нам пусть бы дали жить!»
– Преклоня-а-а…
Он хрипел – надрывно, на одной ноте, протягивая руку, черная пузырящаяся кровь пропитывала пятнистую шкуру на бедрах: весь – олицетворение темного, животного ужаса…
Смертного.
Ты надо мной, – говорили его глаза. Я признаю. Ты надо мной. Ты мой бог. Ты величественен как бог.
Так поступи же со мной как бог!
О, я хорошо знаю, как мы поступаем. Мы оставляем своих врагов за неприступными стенами Тартара, мы наваливаем на них острова, низвергаем их в пропасти, заставляем держать небо на плечах, приковываем к скалам или к огненным колесам… Кара – не расправа.
Мы так хотим быть равными с Ананкой, что стараемся всем и всегда оставлять шанс…
Коротко размахнувшись серпом, я наискось перечеркнул Алкионею горло.
И только тогда позволил себе вдохнуть, словно до этого в воздухе был – яд…
Оказывается, ноги меня не держали. Это выяснилось с первым же судорожным, горячечным вздохом – воздух пах огнем и кровью, как много веков назад. Упаду? Наверное, только вот падать придется на него – лицом в алую до черноты струю, в бороду, пропитавшуюся кровью, как губка, измазанную песком…








