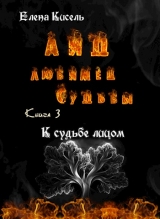
Текст книги "К судьбе лицом (СИ)"
Автор книги: Елена Кисель
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
В покое было темно.
Нет, не так. Было светло. Золотой, лишенный светильников свет, лился из изукрашенных созвездиями стен. По потолку неслись табуны лошадей, косили рубиновыми глазами. Солнечные зайцы играли в догонялки на золотых столиках, на кубках, на лужах нектара и вина – ждали солнечных лис.
Наверное, это я к своим подземельям привык. Притащил с собой тьму, вот она в глаза и бросается, и кажется – едкий мрак ползет из угла, пятнает золото, грязнит светлые мраморные плиты.
Из угла, где…
– Я радоваться должен? Падать ниц? Звать слуг, собирать аэдов? Великий… брат Зевса. Пожаловал.
Не могу увидеть его лица. Ждал ненавистного света в глаза, а тут – родная тьма кинулась. Голос из угла. Спутанная борода. Кубок с пол-амфоры обвис в сильных мозолистых пальцах – багряная жидкость лениво и мерно падает на пол.
– Я не с царским визитом. По делу.
– Знаю твои дела. Аэдов о них петь тошнит. Проваливай в свое подземелье… брат Посейдона. Судить и карать.
Детали – как тьма. Лезут в глаза ватагой ребятишек через забор. Сползшая хлена. Из-под нее торчит сандалия. Поблекшие губы кривятся – Гиперионид пригубил смертной горечи.
А лицо размывается, ускользает во мрак, пропадает из-за слишком ровного голоса.
Ровного и холодного, как воды Стикса. Если бы солнце было таким – вся земля навеки стала бы мерзлым севером.
– Ты получил моего сына… сын Крона. Для вечных мучений. Тебе еще недостаточно? Получил мою жену. Утопил ее в тумане своих дохлых асфоделей. Твой братец швырнул свою молнию, твой посланец не стал медлить с мечом. И после этого ты еще…
Нельзя, – шепнула, кажется, Ананка. Если ты взбесишься быстрее него – этот разговор закончится совсем не так, как ты планировал, маленький Кронид. Нужно другое.
– После этого стою здесь. Ты забываешь, что у меня нет детей, Гелиос. Мне чужды твои чувства. Меня не подстерегает то же, что тебя.
Хлена свалилась окончательно, пальцы скогтили кубок. Солнце окуталось тучами гнева, будто надавили на нарыв – вот-вот прорвется…
Остается одно – ударить.
Тем, что возьмешь в случае надобности.
Стрела. Одинокая, черная. Я никогда не был лучником, но незримая тетива с натугой отходит назад, острый наконечник матово поблескивает, наводясь в сердце сыну Гипериона.
Пальцы разжимаются, запуская в полет ядовитое варево моего мира.
– Скажи, каково ощущать себя сыноубийцей?
А теперь удержаться. Не призывать родные тени, не хватать двузубец.
Не закрывать глаза от солнца, взошедшего… вскочившего на ноги в нескольких шагах от меня.
Не шипеть сквозь зубы, когда капли сияния падают на кожу, жгут щеки…
Что он там ухватил? Хорошо, если не меч.
А, плетка. Неприятно, но перетерпеть…
Свитые воедино солнечные лучи в неистовстве хлестнули по стенам, разрезали хитон на груди, чистым пламенем ярости прошлись по коже. Звонко щелкнули о пол на излете. Опять взвились, бешено забили крыльями: найти причиняющие боль слова! Растрепать, разодрать, запихать в глотку тому, кто посмел…
Слов было не остановить. Они падали – беспощадно и метко. Копьями. Стрелами. Дротиками.
Густо смазанными ледяной отравой.
– Что, сын Гипериона?! Нельзя с тьмой? Как тесно ты породнился с Атой-обманом в последние годы? Или все-таки – с Летой? В ней ты потопил память о том, кто дал своему сыну нерушимую клятву Стиксом?
– Молчи!
Яростное солнце вспороло щеку, голова дернулась, клацнули зубы. Было отчего-то смешно. Наверное, потому, что я уже должен был лежать, орать и закрываться руками, как в тот, первый день. Потому что: солнце! В бешеном гневе! С плеткой, только плеть растворяется, хлещущие лучи кажутся продолжением пальцев титана…
Но это было легко. Стоять, выплевывая ядовитую шелуху слов. Не мигая, глядя на солнце.
Без щита. Без шлема и доспехов. С непокрытой головой. Не взывая к миру, который сейчас умоляет там, позади: Владыка, призови, я прикрою!
Не чувствуя за льдом недавнего страха ожогов на собственной коже.
– Кто доверил мальчишке колесницу? Поставил неопытного юнца править четверкой, с которой не каждый колесничий управится? Не обкатав как следует? Не дав лошадям привыкнуть?!
– Не смей!
Гиматий вспыхнул, обжигая ноги, – его пришлось затушить, но и только. Раскалялся и трескался мраморный пол, гудели под ударами стены – в них билось солнце. Солнцу хотелось вырваться из золотых стен. Рвануть в небо без колесницы.
Подальше от черной фигуры, которая с размаху лупит колючей истиной по светлым титанским щекам.
– У меня было много работы по твоей милости, Гиперионид. Сказать – сколько тысяч смертных твой сынок отправил ко мне с твоей подачи?! У Атропос ножницы, небось притупились!
Плеть поднялась к потолку. Дрогнула первой осенней паутинкой. Замерла.
Оплавленные созвездия по стенам тягучими нитями золота стекали на пол. Сочились, как потрескавшиеся соты – медом.
Откуда-то пахло паленым – наверное, от меня. Наверное, ожогов на мне все-таки больше, чем одежды сейчас. Не везет с Гиперионидами. Что сынок с колесницей, что отец его…
Жена за голову схватится, если узнает.
Зато я наконец-то видел его лицо: широкое, как солнце, и с двумя полуденными солнцами вместо глаз. Ноздри раздувались – то ли от гнева, то ли от омерзения.
Плетка настойчиво висела в воздухе.
– Почему, – хрипло выдавил он, – не ударил в ответ?
– Чтобы подарить тебе облегчение? Чувство собственной правоты?
Кушай не обляпайся, второй учитель. Ты не просто попрал закон гостеприимства – ты ударил безоружного. А он не стал отвечать. Ну как – полегчало?
Гелиос тяжело выдохнул, вышвырнул плетку в угол. Присел на скамью, почти не пострадавшую от его ударов.
– Какая же ты все-таки мразь, Кронид, – выговорил тихо и неожиданно ровно. – Деметра права: где хорошо – ты сделаешь плохо, где плохо – отравишь последнее. Что тебе нужно? Стой. Сначала ответь – что ты сделал с моим мальчиком. Какую муку…
– Ухаживает за моей квадригой. До старшего конюха уже дослужился, – в первые годы там и правда была мука, учитывая, насколько он после своего падения боялся лошадей. Да и подземные – мстительный народ – шпыняли исподтишка, тайком от Владыки. Потом привык, на младших покрикивать стал. Нимфам подмигивать. Таким манером еще женится.
– Твоя жена в свите у Персефоны. Прислуживает в ее саду.
– Что?
За дверью гудели опасливые голоса: входить? не входить? хозяину худо?
Хозяину было худо. Он бессмысленно уставился на дверь, пристроив широкие, подрагивающие руки на коленях.
Потом стал смотреть на оплавленные созвездия: Рак лишился клешни, у Льва скривлена морда, у Скорпиона выросли два хвоста…
Не на меня.
– Почему ты… не сказал? Почему не прислал?
– Вестника? Таната? Чтобы ты его – плетью, а он тебя – мечом?
Я бросал слова сквозь зубы: ожог на щеке мешал говорить.
Сварливый тон так выходил даже лучше.
Титан бросил растерянный взгляд – отвел глаза, устыдившись картины. Встретил гостенька – как еще тот на ногах стоит.
– Выпей нектара – я тебе гиматий сейчас…
Я и сам могу прикрыться божественным плащом, чтобы не показывать тебе последствия горячей встречи, Гелиос, второй учитель. Скрипнули зубы, когда плащ укутал исхлестанные плечи, запахнул обожженную грудь. Поклялся про себя: доберусь до своего дворца – нырну в лед источника. Хорошо – за целительными снадобьями далеко ходить не надо, Геката на всякий случай вечно притаскивает: «Владыка, а вдруг… братская встреча или беседа с каким-нибудь гостем…» И многозначительно хихикает.
Гелиос молча смотрел, как я выплескиваю нектар из своей чаши на ладонь, провожу по щеке.
– Ты мог передать с Гермесом. С Гипносом.
– Ты тоже мог передать с Гермесом. С Иридой. С Эос. С Селеной. С Персефоной. Краткую просьбу: проявить милость к твоему сыну и жене.
– Тебя прозвали Справедливым, а не Милосердным.
Да. А еще Ужасным, Безжалостным, Богатым, Гостеприимным, Запирающим Двери. Черным Лавагетом. Страхом Зевса. Много имен, много прозвищ, по имени вот не все осмеливаются. Если бы я каждый раз помнил, кем меня там прозвали – я бы шагу ступить не мог, скованный прозвищами.
– Так может, мне сейчас поступить по справедливости? С твоим сыном? С женой?
– Не надо.
Гелиос плеснул себе вина в кубок. Примерился и отставил с брезгливой, болезненной гримасой.
– Зачем ты ко мне? Чего хочешь?
Слово ожило во мне. Изморозью пробежало по горящей коже под плащом. Сорвалось с губ – острое, леденистое.
– Флегры.
Титан потер широченной рукой лоб. Понуро кивнул, как бы говоря – ну, мог бы догадаться.
–Я гляжу, ты еще не успокоился. Воюешь, Кронид?
– Было бы можно – не воевал бы.
Может, даже хочешь, чтобы я сдох вместе с олимпийцами, не знаю. Чтобы вышли на свободу твои братья. Договоришься с ними как-нибудь – все равно кому-то надо по небу ездить, светить – они забудут о твоем предательстве в Титаномахию…
Наплевать, на чьей ты стороне. Мне нужно от тебя только то, что ты можешь увидеть сверху.
– Мало что, – волосы качнулись и растрепались перезревшей пшеницей под ветром. – Мало что, Кронид… Мать-Гея осторожна. Ее сил хватает, чтобы заслонить от меня то, что происходит на земле. Она знает, что в Титаномахии я был на вашей стороне. Она скрыла своих новых детей. Я видел их лишь несколько раз. И ко мне она не приходила.
– К кому приходила?
Она не могла не прийти – раз навестила даже Деметру, не утерпела, намекнула… Не могла не прийти к кому-то еще. До родов или после, скорее – после, поделиться гордостью роженицы, показать деточек… Говорят, Геракл снял Прометея со скалы – не к нему ли? Нет, Провидец слишком переполнен жалостью ко всему живому. Тогда к Эпиметею? К Плеядам, дочерям Атланта, которые, я слышал, собираются податься светить на небо?
– Она говорила с Хироном.
Наставник героев. Сын Крона. Зачатый, когда отец превратился в жеребца, а потому рожденный кентавром. Пожалуй, это был хороший выбор, Мать-Гея. Кентавр не лез в Титаномахию. Потом обосновался на Пелионе и тоже ни во что не вмешивался. И все в один голос трубят о его мудрости, потому ты могла рассчитывать не только показать деточек, но и получить мудрый совет.
– Кентавр был на Флеграх?
– Не знаю. Знаю только, что Гея посетила его на Пелионе. Потом и он, и она исчезли. Шагнули.
То, что ты думаешь, ты можешь и не договаривать, Солнцеликий. Я и так у тебя это в глазах вижу. Там много чего – и восход укоризны, и зенит усталости, и даже закат гнева… А еще там – уверенность, что да. Хирон был на Флеграх. Видел будущее олимпийцев.
Ты уже сказал мне достаточно много – но воры жадны, и я попробую еще.
– Он вернулся на Пелион один?
Титан качнул головой. Рассеянно запустил в отросшие кудри пальцы. Потянул так, будто хотел что-то вырвать. То ли кудри, то ли пальцы…
– Они пришли вдвоем. Гея выглядела встревоженной. Кентавр выглядел… с ним в последнее время ничего не поймешь. С того момента, как Геракл ранил его своей стрелой, Хирон всегда выглядит одинаково: полупокойником. Говорили они недолго. Потом Гея ушла, а он отправился в свою пещеру.
Хорошо, Гиперионид. Просто отлично. У тебя зоркие глаза – Деметра наверняка проверила, когда ты ей описывал, как я похищал Кору. Теперь проверим насчет слуха. Помнится, бабские ссоры в своем дворце ты различал краем уха, из конюшни и посреди ржания лошадей. Что насчет того, что говорится на земле?
– Из их разговора… – теперь Гелиос выглядел смущенным. Одно дело – когда про тебя знают, что ты подглядываешь, так ведь это уже все и давно. А вот что ты еще и подслушиваешь… – Они говорили тихо, Кронид. Я не могу поручиться, что он вообще сказал это…
– Что?!
– Об Ананке, которая у каждого за плечами. О том, что любые саженцы… любые саженцы могут быть убиты.
Вот оно. Вот.
Приливная волна ликования в груди. Тартар полегчал на плечах – или показалось?!
Впустую клацнули ножницы Атропос – не по наши нити.
Любые саженцы. Могут. Быть. Убиты.
Даже те, что любовно высадила матушка-Гея на погибель нам. Взрастила из семени Тартара.
Лекарство от олимпийской болезни тоже можно уничтожить. Есть средство – о, Хаос! – есть, и я найду его, и первым делом я отправлюсь на Пелион. Не зря же этого кентавра считают мудрым.
Не зря и Мать-Гея выглядела встревоженной.
Мудрые просто так словами не бросаются. Возможно – нет, не возможно, вероятно, что Хирон усмотрел еще и – как…
Гелиос все тер лоб. Блуждал глазами по покою и бесцельно крутил в руках кубок. Кубок брызгал в глаза стаями бешеных солнечных зайцев…
– Послушай… лучше проси что-нибудь другое. О других. Иначе окажется, что ты зря пришел сюда. Подставился под плетку, – и с тяжким вздохом, всей необъятной грудью: – Ты ничего не узнаешь у Хирона.
Дернул пшеничным усом – усмехнулся сомнению у меня в глазах.
Я хорошо умею узнавать, Гиперионид. У живых. У мертвых даже лучше, чем у живых. Кентавр упрям, я слышал об этом еще во времена Титаномахии, но вряд ли он упрям настолько, чтобы…
– Ты ничего у него не узнаешь, – спокойно повторил сын титанов. – Гея знает, что Хирон мудр. Потому она потребовала у него клятву. Эту самую клятву.
Нахмурил посеребренные сединой брови, помахал рукой. Да, «нельзя с тьмой». Помню.
Гелиос встал, походил по светлому чертогу молча, сгорбив плечи. И все тер, тер лоб широченной ладонью. Дырку, что ли, протереть надумал?
– Аполлон рвется к власти. Ой, рвется… Начал вот заходить. Мол, ты бог солнца, меня тоже со светом равняют, почему бы за чашкой амброзии не посидеть?! Спрашивает: не устал ли я со своими жеребцами каждый день, по одной дороге. Намекал, что может подменить – денек-два, не больше… Эй, кто там, амброзии, что ли!
Служанка – лунолицая, полногрудая – вбежала так быстро, что я едва успел надеть шлем. Гелиос развеселился, шлепнул служанку под зад, мощно, так, что она с визгом унеслась за дверь. Захохотал и подхватил кубок – амброзия опасно плеснула к краям.
– А я уйду! Возьму – и уйду! Вожжи – Аполлону, а сам куда-нибудь… Потому что это будет страшнее путешествия моего мальчика. Быть на моем обычном пути, когда они там, на Флеграх, поднимутся против вас… а вы не сможете их остановить! Хоть ты-то понимаешь, что не сможете?!
Глаза Гелиоса стали полуденными солнцами – жгучими и злыми. Иссушающими до дна – вот только Тартарскую бездну не так уж просто иссушить.
– Хирон клялся Стиксом? – тихо переспросил я.
Первый учитель в ответ качнул кубком: чашу поднимем за Аида Хитроумного! И двух часов не прошло, как понял!
– Да! Ст-иксом! – попехнулся. Амброзия пошла носом. Махнул рукой, громко звякнул золотой чашей о золотой же столик, подошёл.
– Лучше выпей, подземный Владыка. Клятва Стиксом нерушима. С ними ничего не сделаешь. От Хирона не узнаешь. Выпей… ты же их видел?
Вязкая холодная тварь внутри зашевелилась. Робко протянула щупальце – отдернула, обжёгшись.
– Да, – сказал я.
Золото покоя, золото кубка, золото амброзии не могло заглушить видения оплавленной земли, змеиные следы, небытие, поднимающее к небу руки.
– И что ты сделаешь своим гневом? Яростью? Силой?!
Светлый покой отравила подземная усмешка. Ничего, второй учитель, приберёшь тут потом.
– Я не разгневался, когда их увидел. Я испугался.
Гелиос хохотал долго. Ржал всеми своими жеребцами. Пожалуй, что и кобылами тоже.
Солнечному богу мог бы позавидовать Посейдон.
– Забыл уже тебя… гы-гы-гы… а не следовало! Ты еще тогда… у-га-га… как сказанешь! Испугался! Да если б аэды слышали, как ты мне сейчас… Да так, будто меч чудодейственный сковали или…
Потянулся за кубком – запить раскаты хохота. И вдруг поперхнулся, вытер ладонью губы, ошеломленно уставился на золотые, изукрашенные созвездиями стены, что-то припоминая…
Разоренные селения? Трех богов над пропастью? Одинокого юношу, бредущего в Тартар? Мне-то что – я загостился в солнечной обители. Мне сейчас – в другую, подземную, а Гелиоса можно оставить, пусть себе отплевывается от нежданной оскомины.
И шепчет при этом полузабытое: «Горек источник страха…»
Сказание 8. О ненарушаемых клятвах и невозможных смертях
Отмыл я в Стиксе руки добела,
И часто я об этом вспоминаю.
Л. Мартынов
– Тащи!
– Тяни!
– Помогайте, пяткорылые!
– Зевсовым перуном вас во все места!
Воины рвали медные глотки. Это было только справедливо, потому что сами воины были порождениями меди – воинственные произведения Зевса.
Кто-то волок ко рву мешки с песком. Залитые потом, обожженные солнцем спины мелькали на дне постепенно растущего рва, среди мягкой красноватой глины.
Затесавшийся в стан людей сатир, сопя, таскал из недалекой рощи колья – укреплять на дне рва.
Рабы из захваченных лапифов, хватаясь за перетруженные поясницы, сооружали насыпь.
Все делалось торопливо, в послебитвенной горячке. Отдыха после боя не было. Войска лапифов, служащих Крону, откатились, но недалеко, и быстро дождались подкрепления.
–Тысяча! – надсаживался сотник, не слыша, как визгливо звучит его голос. – Тысяча с востока! Двадцать колесниц!! Навались, навались, ехиднины дети!
Тысяча в подкреплении – это значит, у противника троекратное преимущество. Это значит, придется умирать, потому что подкрепления от других войск нет. И Кронидов, за которых как раз умирать и придется, не дождешься, потому что – где Олимп, а где Крит. Да и Крониды в последние годы не ввязываются, у них же с Кроном перемирие заключено…
Нужно было поступить как мужчина: плюнуть на землю, подняться, обогнуть раненых, заорать во все горло, глуша страх: «Давайте мешки, чтоб вас дракон сожрал!» Наподдать под зад пленнику-лапифу, вымещая злобу.
Но Кефей не мог. Он сидел, обнимая копье, как возлюбленную, за своим шатром, и вцеплялся зубами в собственное запястье. На запястье был наруч: хороший, медный, и во рту поэтому был вкус меди.
Иногда приходилось сжимать зубы, чтобы заглушить вой.
«Брошусь на меч, – подумал он тупо, раскачиваясь взад-вперед. – И все, потом уже только Танат. Говорят, под землей – асфодели, забвение…»
Пусть бы даже – асфодели и забвение, только не опять: искаженные лица, жала копий, товарищ, с бессмысленным видом хватающийся за стрелу, торчащую из горла, циничные шуточки опытных вояк: «Не ешь перед боем! Копье в пузо поймаешь – дважды обидно» – вопли раненых, отползающих от гущи схватки…
Люди медного века рождены для войны. Потому почти не знали страха, и в бой шли как на свидание с любимой – и все это Кефей знал, но сейчас, перед своим вторым и последним боем, он сидел на корточках за шатром, грыз медный наруч, вспоминал вкусный, молочно-медовый запах волос матери. И малодушно проклинал Кронидов и их войну.
– Страшно?
Загорелый воин в пропыленном плаще взялся не пойми откуда. «Не из наших, – безразлично подумал Кефей, отнимая руку от лица. – Из наемников, наверное». Он перестал скрести зубами медь и бросил на воина снизу вверх ненавидящий взгляд.
Дрожь почему-то унялась, и появилась злость.
– А тебе – нет? Тебе – нет?! Там – тысяча! Тысяча!! И двадцать колесниц! Они… они…
– Колесниц тридцать две, – поправил наемник. – Хорошие колесницы. Лошади только дрянь. Не обучены. Боятся.
Он подбросил и поймал черный шлем, который до этого зажимал под мышкой. Видно было, что бросать и ловить шлем воину приходилось сотни раз.
Кефей уже не раскачивался. Он тупо смотрел на шлем, и ему казалось, что по бронзе несутся колесницы с взбесившимися от ужаса лошадьми.
Из груди рвалась на свободу дикая помесь смешка и стона.
– И что?! Они боятся… и я боюсь! – от хриплого, вызывающего крика дрогнул полог шатра. – Да, боюсь! Только боги ничего не боятся – они ж убивают и смеются, они ж бессмертные! А я боюсь! Я не хочу! А они все врут, что им не страшно!
Хотелось еще затопать ногами – и пусть бы этот вояка дал ему оплеуху, пусть бы заорал, что он щенок и трус, что обделался перед боем… Пусть бы даже растрепал всему войску.
Воин хмыкнул и вдруг уселся рядом, но не на корточки, а на ствол одинокого кипариса, упавшего в незапамятные времена.
– Ну, и хорошо, что боишься, – припечатал неторопливо. – Знаешь, смертный: я боялся идти в Тартар. Может, потому, что знал, что он такое. Потом вообразил себе, что будет, если не пойду, и еще больше испугался. Так туда рванул, что даже попрощаться забыл.
Он косо усмехнулся давнему воспоминанию, и Кефей, до которого не сразу дошли слова «боялся идти в Тартар», вздрогнул и выпрямился с невнятным звуком, глядя на собеседника.
Взгляд искал и не находил следы жутких легенд о могуществе, безжалостности, величии. Взгляд цеплялся за лишнее и ненужное: кожаный, с бронзовыми пластинами пояс, обтрепанный край хитона, чуть прикрывающий колени, перетершаяся крепида на левой сандалии…
–Страх – не хуже меча, смертный, – задумчиво продолжил рассевшийся на поваленном кипарисе воин. – Когда нужно – он может убивать. Когда нужно – защищать. Научись только правильно им владеть.
Он раз подбросил свой шлем, пробормотал: «А кони у них – дрянь все-таки», поднялся и не спеша зашагал между шатров.
Кефей закрыл глаза. Он не хотел видеть, как его противник растворится в воздухе.
Видеть, что спустя ничтожные минуты начнет твориться в лагере лапифов, он тоже не хотел, хотя и знал, что придется – потому что внезапно обезумевших от ужаса служителей Крона придется кому-то добивать.
Добивать, видеть белые от страха и ненависти глаза, слышать хриплые вопли товарищей, хвататься за свой бок, пробитый копьем…
Все еще было страшно, но страх был уже другой: мелкий, жалкий, шевелился внизу живота. Нашептывал, что хуже этой встречи и этого разговора быть уже и не может.
Десять лет спустя Кефея назовут Бесстрашным, а бывшие опытные вояки будут при встрече шарахаться и прятать глаза.
С сотником Аида Ужасного шутки плохи.
В покое было тепло.
Вдоль стен струились холодные, вязкие воды. Бесшумно и отвесно скользили по древним камням, так что непонятно было – где камень, где вода. Здесь, у себя дома, воды не желали быть однородно-черными: вбирали блики светильников, дробили тысячами драгоценных искр. Нагло подделывались под покрывало Нюкты: а что? и мы не хуже струимся. Притворялись смирными, домашними. Так и норовили одарить кусачей лаской.
Только мне ведь Цербера с Гелло хватает, поэтому в лоснящиеся льдом воды я руку не совал. Так, смотрел, считал цвета – оттенки тьмы. Тусклый рубин, суровый изумруд, робкий кармин, вот недозрелый гранат, а вот перезрелый, а вот черное в серебре…
Волны звучали зловредным шепотом. Шелестом. На берегах Стикс безмолвный, а дома – разговаривает, если вслушаться. Болтает о своих снах – темных, вязких и ледяных.
Паллант исполнил долг гостеприимства: посмотрел грустными глазами, поклонился Владыке. Потом что-то прогмыкал слугам, не особенно повелительное. Распушил вислые усы и ушел. Не приказал даже за очагом присмотреть – он совсем прогорел этот очаг, тлел недовольно-багряным, как одинокий глаз невыспавшегося циклопа.
Но в покое все равно было тепло. Среди базальтовых стен – костей земли. Среди ледяных вод, обнимающих стены.
Слова морозили страшнее любых вод.
– Клятву Стиксом отменить нельзя.
Воды смотрели на меня. Она – не смотрела. Дзынь-дзынь – пересыпала из ладони в ладонь медные монеты. Харон где-то возле реки хранит свои накопления, а река склонна пошалить, вот и притаскивает хозяйке.
– Все вы… рано или поздно приходите с одним и тем же. Подкупаете. Молите. Обещаете. Угрожаете…
– Были дураки? – спросил я. Она пожала плечами: были, невидимка, только не спрашивай, что с ними случилось.
Взмахом руки отправила за дверь служанку – бледную наяду, явившуюся сообщить о том, что готов стол.
– Пусть Паллант поднимает кратеры за нас троих. Если бы ты явился как Владыка, я устроила бы тебе пышную встречу. Но ты пришел как лавагет. Ничего не выйдет, лавагет. Ты знаешь, чем отличается чудовище от бога или смертного?
– У чудовищ нет судьбы. Предназначение.
– Да. В тот день твой брат одарил меня предназначением. И я взяла. Отречься от него даже на раз… спроси Железнокрылого, легко ли ему будет отказаться от меча.
Монеты звонко забарабанили по серебряной столешнице. Здесь все серебряное, в этом чертоге: и под ногами, и над головой, только волны так и пестрят другими оттенками.
– Я понимаю.
– Может быть. Ты всегда понимал подземных. Скажи, а понимаешь ли ты, что мои дети… мои дети – на Олимпе? Что моя Ника – на Олимпе?! Что если Гиганты ниспровергнут Олимп, потому что я не смогла изменить своему предназначению…
– Потому я и пришел к тебе. Иначе сходил бы к Хирону.
Еще с Титаномахии помню: у нее точеный подбородок, а форма губ такая, что Афродита от зависти плакала. Вот только стиснуты они всегда были слишком крепко.
Сегодня вот дрогнули в насмешливом изгибе.
– Что ж не пошел?
– Он не выдаст тайны. Кентавр – тоже сын Крона. И не дурак, раз обучал столько героев. Он знает, чем грозит победа Гигантов. Если он еще не пошел на Олимп…
– Он не выдаст тайны. Думаешь – боится?
– Может быть.
Усмешка у нее тоже теплая. По сравнению со сказанными словами. И водами ее же реки. Немного даже мечтательная, с легким отзвуком воспоминания.
Хирону есть, чего бояться, правда, Ужасная? Наверное, я запихнул Оркуса в твои воды не в последнюю очередь из любопытства. Мальчишки так ящериц в костер кидают: а какая она будет, если выскочит?
Я видел глубины Тартара, трясущееся от ярости Гекатонхейров небо, изнанку Элизиума и ласковый Флегетон. Я вообще много чего навидался, даже на гулянке у Крона раз побывал. А вот нарушителей клятвы Стиксом не видел.
Хорошо, что не видел, спокойнее бы было.
…когда воды брезгливо вышвырнули его к моим ногам – на то самое место, с которого и утащили девять лет назад, – он даже не испугался. Он вообще не был способен больше бояться – синий старик с обвисшей, пупырчатой кожей и трясущейся головой. В глазах жил густой пепел девятилетнего черного, раздирающего ужаса, после которого пугай – не пугай…
Вряд ли он даже понял, кто перед ним. Только бессмысленно тянул вперед руки, с всхлипами хватал воздух и тонко, почти неслышно сипел: «Хо-о… хо-о-олодно…»
Клятвопреступнику было холодно от всего. Это мне с удовольствием доложила Геката, которая тоже не могла мимо такого пройти: уволокла Оркуса в свой дворец, начала чем-то пичкать. «Ему еще девять лет смертной жизни», – напомнил я. Геката только хихикнула.
А потом сказала, что его трясет от вина, от согревающих настоек, от любых одеял. «Вчера он сунул руки в очаг, Владыка. Кричал, видя, как обугливается плоть. И все равно выл, что холодно. Жаль, ты не видел, тебе бы понравилось».
Девяти лет смертности Оркус не вынес: после трех месяцев явился обожженной тенью. Сгорел в попытках утолить невыносимый холод. Перед троном стоял – бессмысленно стучал бесплотными зубами, с полным осознанием того, что здесь не поможет Лета.
Для него даже не понадобилось измышлять кару. Только приковать на Полях Мук – и оставить наедине с вечным, выжигающим нутро холодом, для которого не преграда даже и смерть.
– За эти столетия многие бессмертные клялись твоими водами. Сколько нарушили клятву? Десятки?
– Оркус был девятым.
Не думаю, что Хирон проболтается мне о разговоре с Геей, чтобы округлить это число. Даже если он не боится, а у него другие соображения. В войну с титанами он все-таки не лез, не выбрал ничью из сторон, так что кто знает, что там у него на уме…
– Клятва водами Стикса, – медные монетки ложились одна за другой на блестящее серебро. Становились водами реки – медь зеленела под пальцами титаниды, и воды получались темными, заплесневелыми. – Клятва клятв, которую не может отменить даже хозяйка реки. Ты знал об этом, лавагет. Не мог не знать. Зачем же пришел?
– Я не прошу тебя ее отменять, – дзынь! – упрямый обол выкатился из рук Стикс, смешно переваливаясь, приковылял к моим пальцам. – Расскажи мне, как ее обойти.
– С чего ты взял…
– Однажды Танат отбросил свой меч.
– Дурак, – равнодушно сказала Стикс, но впервые метнула на меня короткий взгляд исподлобья.
– Ехидна начала рожать.
– Ей нужно было родить от Таната. Дурак и дура были бы хорошей парой. Зачем ты рассказываешь мне это, лавагет?
– Потому что я не верю, чтобы остальные тоже не пытались. Преодолеть предназначение. А если не пытались – то наверняка думали об этом. Может быть, один раз за все тысячелетия. Но…
Показалось – это ожила и запрыгала медь, стукаясь в танце о серебро. Нет, это засмеялась та самая. Которую боятся на Олимпе. Которую призывают в клятвах. Сначала подавилась воздухом, а потом разошлась – низким, шелестящим смехом, который мгновенно потонул в струях воды, ползущих по стенам.
В чуть приоткрывшуюся дверь замигал круглый и удивленный глаз Палланта. Тот явно не видел женушку смеющейся.
– Лавагет, а ты точно от Крона родился?! Поклясться могу – Рея погуляла с кем-то из наших. Что-то уж слишком хорошо ты понимаешь подземных, лавагет!
Глаз в двери вытаращился, подрастерял голубизну. Я пожал плечами, достраивая реку из меди. Только блестящую, огненную.
Наверное, все-таки от Крона, раз уж на морду – вылитый Повелитель Времени. А по характеру – кто меня знает.
Она встала, порывисто разметав ладонью оболы со стола. Легко, прямо сделала шаг. Погрузила руки в воды своей реки.
– Сидит ответ – и спрашивает, – пробормотала под нос. – Чем ты слушал после Титаномахии? Жребия ждал? Или после пирушки голова трещала?
Левая ладонь чуть дернулась – пальцы изогнулись полосками металла в кузнице. В тот день мне жег ладонь дар моей судьбы – шанс, возможность решать за себя. Я не прислушивался к тому, что там вещал Зевс, которого осенила новая блистательная идея. Кажется – как обычно. Что с этого часа воды этой реки становятся залогом верности клятв любого бессмертного…
– …бога ли, чудовища ли, нимфы, титана или иного народа… – в такт насмешливому шелесту вод своей реки. – Я поняла почти сразу. Мне просто показалось это неважным…
Хорошо, что Паллант убрался. Вместе со своим глазом. Он, конечно, вздыхает и пыхтит в коридоре, ковыряет там стену. Но вид истерически хохочущего Владыки ему вряд ли сейчас к месту.
Хаос, Хаос, Хаос, почему я сам не вспомнил…
Все-таки не расхохотался, наружу выпустил кривую усмешку. Ядовитую, как супы Гекаты (по словам Гермеса).
– Смертные. Ты не взыскуешь клятв со смертных.
– Ни со смертных, ни с теней, лавагет. Этого нет в моем предназначении. Клятва давалась бессмертным, Кронидом Хироном. Но если бы вдруг… случилось чудо…
Да уж, каких чудес только не бывает. Всего и дел: убить бессмертного Кронида Хирона. Не как отца – на куски. А так, как обычно: чтобы с Танатом и Гермесом. И с тенью, и с судом.
Только вот загвоздка: Кронид Хирон основательно и бесповоротно неубиваем со своего рождения. Как Зевс. Как Посейдон. Как я.
Как Судьба.
Какое чудо может убить бессмертного?!
А взорвать бессмертного на куски? Так, чтобы требуха остальных бессмертных забрызгала? Чтобы тень – не пойми куда, а скорее – и вовсе без тени?!








