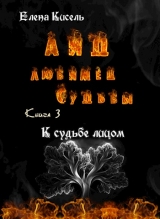
Текст книги "К судьбе лицом (СИ)"
Автор книги: Елена Кисель
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Наверное, жили бы спокойнее. Не пыжились бы в попытке оправдать какие-то чаяния смертных. Не пытались бы наперегонки попасть в песни, в пересказы…
От мокрых скал тянуло холодом. Скукой. Старьем мыслей, старьем чувств, древней историей о прошлом, которое приковали к скале – а оно опять спустилось в мир и пришло…
– Почему ко мне?
Оказываются, титаны умеют седеть. Не опасными прядями у бороды – а как смертные. Основательно, бесповоротно. Лен волос сожжен веками мучений, прихвачен пеплом, который не смыть дождю. Непонятно, откуда он сыпался, этот пепел: может, с остывающего после бойни Урана, а может, это просто прогорела искра, которую титан однажды унес от горна лучшего друга, чтобы помочь глупым смертным…
Но голубые раньше глаза Провидящего были пепельно-серыми. Усталыми, больными. Щеки ввалились, поедены морщинами, изгиб рта стал жестче, непреклоннее.
– К кому еще?
И правда: к кому? У меня тут и Менетий с его грифами, и Иксион, и Титий где-то в вечном мраке. И остальные неподалеку. В самый раз – если хочешь навестить семью.
– Глаза Аргуса на павлиньих хвостах, – пробормотал Предвидящий, оглаживая рукой кору серебристого тополя над озером. – Титий, Менетий… Иксион, Атлант. Эпиметей. Я заходил к брату. Там, на крайнем западе. Не знаю только: он узнал или нет. Жена вот тоже… нас нет, Аид. Нас нет больше.
– Нас? – спросил я.
Провидящий не ответил. Наверное, провидел что-то в морщинках коры серебристого тополя: так и водил по ним пальцами, будто по девичьим щечкам.
Губы шептали чьи-то имена. Словно он так и задался целью перечислить всех, кто ушел. Век титанов? Да, титанов.
Титанов, их сыновей, внуков, правнуков…
«Нас нет больше. Нет больше, Аид», – и бесконечный перечень, словно перечисление теней, бредущих в подземное царство: Зевс, Посейдон, Гера, Арес…
Там есть мое имя. И там есть твое, пророк. Чему ты удивляешься, вернувшись на землю через столько столетий? Что юность проходит, сменяясь мудростью? Что прежних нас не вернуть?
Удивлялся бы лучше тому, что нас скоро может и впрямь не встать. У Геи-Земли, о Предвидящий, очень интересные саженцы.
– Я слышал, что Геракл помирил тебя с Зевсом.
– Да. Знаешь, я представлял: каким он будет. Смертный, который исполнит то, на что не осмелились боги. Не видел его в пророчествах: расплывчатая фигура – и все. А он просто пришел, как будто так и надо. Не стал раздумывать: кто там висит на скале? Что будет, если его освободить? Просто схватился за лук, чтобы убить орла, который меня терзал.
– А ты выдал Зевсу пророчество, за которым он так долго охотился.
Прометей развел руками. Он разучился смотреть прямо: взгляд уходил далеко за горизонт. Наверное, – туда. Где братья молоды, веселы и не в Тартаре. Где ядовитые пророчества не грозят сокрушить землю.
Что там было с Зевсом – что-то о Фетиде, морской титаниде, так, что ли?
Стоять рядом с предвидением во плоти было неудобно. Словно на палубе качающегося в бурю корабля: не знаешь, откуда нахлынет. Взлетишь сейчас на гребне? Рухнешь носом вниз?
– Я сказал ему то, что не имело никакого смысла.
…еще и палуба скользкая. Что, пророк? У тебя отсох бы язык пояснить? Отвернуться на миг от черных вод, в которые ты так впиваешься взглядом. И разъяснить основательно: не имело смысла потому, что все равно, кто останется на троне. Или не имело смысла потому, что скоро не станет олимпийцев. Или…
– Ты замечал, как в игре везет новичкам? – вдруг спросил Прометей, трогая пальцем лист тополя на своем плече. – Они всегда делают верные ставки. Я ставил на смертных, я и сейчас на них ставлю. Скажи мне – разве я не прав?
И впивается в глаза. И я впервые не могу прочитать… не могу увидеть.
Может, потому что все, отраженное в глазах Провидца, покрыто густым слоем пепла. В глазах – вечные орлиные перья, рваный подол моря, взбивающего в пену божественный ихор, протянутые руки жены-океаниды…
Может, потому что там понамешано слишком много прозрений: которое – для меня? То, в котором в один глаз Гиганта летят две стрелы – золотая и черная? Или перья из моих снов, по-братски усеявшие камень?
Может, просто Владыкам зазорно смотреть вот так. Глаза в глаза.
Как равному.
– Иногда я думаю, Аид… – имя кусачими мурашами пробежалось по коже, – иногда я не жалею. Смертные лучше нас, несмотря на краткий век. Сильнее нас. Чем-то, что мы сами не можем понять. Мы так привыкли, что нам приносят жертвы, так привыкли приносить в жертву других сами, что даже не задумались. Может, только Психея. Еще Гестия. И вот теперь – время смертному доказать…
Столько лет провисеть на скале. Над бушующим пенным морем, остервенело скалящим клыки волн. Под ласками когтей и крыльев орла. Под ветрами.
И не разучиться говорить очевидные вещи.
Хорошо хоть: теперь не вспыхивает, не размахивает руками, как в молодости. Но вот смотрит теперь неотступно, без тени гордости, с отчаянием и каким-то заискиванием, как будто ждет подтверждения: я правильно сказал? Это хорошая банальность, да?! Я ее там на своей скале не зря высмаковывал?
– Зачем ты пришел? – спросил я. Говорить Прометею, что он дурак, не стал. Не по-владычески.
И вообще, он сам знает.
– Ты не согласился. Тогда. Когда Зевс… И я знаю, почему.
Пожал плечами. Сейчас бы я, наверное, согласился. И Менетий с Прометеем завывали бы от боли вместе – на братские голоса. А грифы были бы сытее.
И я больше ни о чем не буду спрашивать тебя, пророк, предавший свою клятву. Я знаю, зачем ты пришел, почему так пристально пялишься в это озеро – что там отражается в этом озере, в конце-то концов?! Ты – тот, который еще был? Молодой, мудрый, с льняными волосами, с обветренным лицом, в которое не успели врезаться века страданий на скале?
Мы с тобой не были друзьями, Провидящий, – чтобы ты пришел просто так. Врагами – чтобы ты пришел по делу – мы тоже не были.
Значит, ты здесь как пророк, и вот тебе мое слово Владыки.
– Уходи.
Голос раздался в тот же миг, как Прометей выдохнул долгожданное:
– Я видел…
И будто не услышал меня: заговорил, размахивая руками, по-старому (даже в глазах пепел потеснился, уступил дорогу древней голубизне). Что это Тартар знает, что такое. Хотя нет, наверное, даже Тартар вряд ли. Что у него в жизни не было таких расплывчатых видений, вот могу я поверить?! Не было – и все! Даже в Титаномахию, даже перед последней битвой, тогда-то он много чего навидался. А сейчас будущее взбесилось, покусанное неизвестной гадиной, словно комкается и рвется древнее полотно, на котором написаны строки, будто скукоживается в огне. Геракл?! Да какой там Геракл, с Гераклом-то как раз все ясно (тут он даже выдохнул, пробормотал, что жаль героя, а потом опять…). Свивающиеся змеиные тела Гигантов! Плесень на тронах!!
И еще я.
– Они сменяются, понимаешь, сменяются, будто в тумане плавают! Всем до этого я предрекал пророчества четко, но ты… но с тобой… Они будто выходят каждый раз из двух разных снов. Старик и юноша. Царь и воин. Одно я вижу четко: переплетение багреца и тьмы, да еще это озеро, а над ним…
Двузубец сказал свое слово веско, коротко. Рявкнул хрипло – недалеким миром. Пророк замолчал, не в полете, как можно было бы подумать по силе удара. Просто покачнувшись, от неожиданности стукнувшись плечом о жалобно зашелестевший тополь.
– Молчи, – приказал я.
С пророками вечная мука. Их трудно заставить говорить.
Еще труднее – заставить заткнуться.
Он понимал, чего я хочу. Приказ нельзя было истолковать иначе: собачьи морды хищно скалились пророку в лицо. Черными пастями, а лучше бы – золотыми.
Помнил бы: молчание – золото.
– Я видел… – шепотом повторил он, и двузубец дрогнул в моих пальцах от нетерпения.
Ударить со следующим словом.
– Молчи, – повторил я, – отвечай без слов. Это пророчество из тех, без которых не бывает будущего?
Глядя на собачьи морды, он медленно покачал головой. Пошевелил губами: нет, не как то.
Другое. Как с Зевсом. Как то, из-за которого тогда – на скалу.
Пророк, я опять повешу тебя на скалу. Я не буду натравливать на тебя орла – нет, у меня богатое воображение. Натравлю кого-нибудь другого. Скорпионов. Змей. Еще каких-нибудь своих тварей – они у меня тут расплодились в последние годы… Пророк, я запихну тебя в ледяные воды Стикса, а потом в лаву вулканов и огонь Флегетона, нет, я сделаю хуже – я запру тебя в Элизиуме, чтобы тебя вечно сводил с ума мир мертвого счастья, где никому не нужна помощь, где не может быть предвидения, потому что там нет будущего, которое можно увидеть.
Если только ты не замолчишь.
Потому что в этот раз пророчествам места не будет.
Только ведь ты же все равно не замолчишь, верно? Мудрые в своем упорном стремлении держаться за мудрость молчать не умеют.
Провидец все же хорошо умел слышать растворенные в молчании смыслы.
– Знаешь, Аид… я действительно промолчу. Я не хочу больше быть гордым. Не хочу больше быть мудрым.
Он спокойно встретил яд моей усмешки. И вопрос:
– Потому что мудрые никогда не ошибаются? И это тяжелое бремя?
И покачал безвозвратно седой головой.
– Потому что мудрые ошибаются. Я хочу быть глупцом: у них есть то, что незыблемее мудрости.
Скажи об этом Афине Промахос, Совоокой и Мудрой – и она сощурит серые глаза, глянет на тебя сверху вниз и спросит точно таким же тоном, каким я сейчас:
– Что же это?
– Надежда. Мудрость и пророчества бессильны нынче. Нам осталось надеяться.
Кивнул кому-то в озере, как старинному другу, и не оглядываясь побрел к мысу Тэнар
Так и не сказал: надеяться на что.
[1] Эрис – Месть
Сказание 14. О последних помехах и клятвах
Оба и в мать и в отца зародились бессмертные боги,
Только несходны во всём между собой близнецы…
А. Фет
– Кто она? Убери свой настой, мне он не нужен! Я не желаю успокаиваться, я хочу знать: кто она! Он завел другую? Почему ты все время молчишь?
– Молчат обычно, когда нечего говорить.
– А тебе нечего мне сказать? Ты чаровница, Геката! Так используй свои чары и назови мне ее имя! Кто она?!
– …или когда боятся произнести что-либо вслух.
– Ты что, болтала с этим детищем Тифона и Ехидны, что бродит в Среднем Мире – со Сфинксом? Мне не нужны загадки – мне нужен ответ: кто с ним?
– Ты не услышишь ответа, Персефона. Может быть, потому что задаешь неверный вопрос… я бы спросила: что с ним?
– Мне все равно, какой вопрос задавать! Мне все равно, что это или кто это – я…
– Ты? Что – ты? Минту ты превратила в травку – ты ведь понимаешь, что такое проходит не со всеми?
– Так это богиня? Клянусь, я найду способ… даже если она и бессмертна…
– Уймись. У него никого нет.
– Ты сказала не все. Или не то, о чем догадываешься. Трехтелая, посмотри мне в глаза: что с моим мужем?!
– Оставь, Персефона. У тебя соперник, с которым ничего не поделаешь. Жребий… нет, я все-таки промолчу.
– Потому что тебе нечего говорить?
–– По другой причине. Ты знаешь, что он теперь даже приказов не отдает? И не судит: смотрит, а души отправляются – кто куда, словно решение изречено. Иногда мне кажется: пожелай он, чтобы Стикс покатил воды вспять – и река не осмелится… А история с Ламией, когда она пришла подавать ему прошение? Правду говорят, что…
– Да. Он не смотрел. Не слушал. Сказал: «Мне известно». Кивнул. Никто не понял, откуда известно…
– Ламия только мне рассказала, что собирается родить. Наедине, и я могу поклясться, что никто не подслушивал. Или он может теперь слышать всё, что говорится в пределах мира…
Молчание. Двое молчат по одной причине. Не потому, что нечего сказать. По другой.
– А ты… пыталась разговаривать с… мужем?
– С кем? Геката, опомнись – это не мой муж! Это Тартар, принявший его облик! Пустоши Ахерона во плоти. Ты видела его глаза – это не мой муж!!
– А ты не спрашивала… ну, знаешь…
– Да, я спрашивала! Не смотри на меня, Геката. Я пошла к Танату Жестокосердному и спросила: что творится с моим мужем. Сказала, что рядом с этим… с этим… мне страшно.
– Что ответил Убийца?
– «Мне тоже». Что ты теперь скажешь, Геката?!
– Мне тоже, о, мне тоже…
Персефона перестала плакать. Заглядывать в глаза перестала немного раньше. В первый год все пыталась поймать взгляд – сперва с непониманием, потом с мольбой, потом с тоскливым отчаянием.
И целовала престарелого муженька, словно молодого любовника, к которому прониклась страстью только вчера.
Будто утонувшему пыталась вдохнуть жизнь в холодные губы.
Два или три раза я просыпался с мокрыми от ее слез щеками. Почему – Тартар знает, мне знать не нужно.
Вскоре после ее ухода сон я потерял. Лето было в разгаре, Гиганты на Флеграх не шевелились, а души валили к трону толпами – Арес развлекался то во Фракии, то опять же в Афинах. Спать расхотелось как-то сразу и основательно, и поначалу я принял это за обычную бессонницу, подумал еще – битва скоро…
К Гипносу явился через месяц, когда понял, что сна и не будет. Бог сна посмотрел с ужасом – в последнее время никак иначе не смотрел.
– Что прикажешь, Влады…
– Чашу, – я протянул руку.
И осушил маковый настой залпом. Подождал, сглатывая до противного приторный вкус – медом он его, что ли, разводит? Вернул чашу Гипносу.
Даже веки не потяжелели.
«Еще один шаг», – промурлыкала Ананка.
Это не удивило: мир не спит, значит, и мне не положено. Странным было то, что разбавило ужас на лице у Гипноса.
Наверняка мне привиделись светлые капли под потемневшими глазами бога сна – что он все-таки мешает в этот свой настой?
В тот второй год Персефона перестала заглядывать в глаза. Зато попыталась закатить сцену – то ли ревности, то ли просто так, от скуки.
Не помню даже, с чего она начала. Кажется, так: «Ты снова будешь молчать и отворачиваться? Что? Для жены, которую ты видишь раз в четыре месяца, у тебя нет времени? Моя мать верно говорит…»
А может, с чего-то другого, долго слушать я не стал.
Рука поднялась точным, механическим движением – как у тех игрушек, что делает Гефест для малышни Олимпа. Закономерным и ожидаемым. На Владыку подняла голос женщина, и Владыка ответил. Хорошо еще – только десницей, мог бы двузубцем или плетью…
Взявшись за щеку, она сидела на ложе и смотрела с тихим недоумением. Потом оглянулась, будто искала кого-то.
Невидимку, который должен был остановить мою руку.
Потом на меня опять навалилась божественная скука, и я вышел, а потом жена перестала плакать.
Наверное, стоит вспомнить что-то еще.
Выудить крючьями из мутного варева воспоминаний – нити-рассказы. О второстепенном: пирах, судах. Сшить разодранные в клочья куски своей памяти, притянуть один к другому, вспомнить: какая тогда была весна, какое – лето, какие вести о Геракле приносил Гермес, что-то, случившиеся в мире…
Чтобы хоть отдаленно было похоже на полотно: заплатанное, прохудившееся – но все же…
Нитей нет под пальцами. Мне не везет с нитями. Или с ремеслом. Слишком хорошо умею распарывать – где тут сшить.
Память тянет камнем на дно черного озера – к тому, кто смотрит оттуда, из вод, к моей законченной битве.
Не помнятся даже суды.
Помнится однородная, как осенний туман, скука.
Может, еще возникающее время от времени неприятное ощущение: как будто что-то непременно нужно сделать, а что – забыл.
Да еще раздражали противники: они слишком быстро заканчивались.
* * *
– Вставай, – сказал я.
Поля Мук, вздыхая, творили противное их натуре: исцеляли – не калечили. Грифы в отдалении возмущенно хлопали крыльями, тянули голые серые шеи.
Обижались.
– Пшел в Тартар, Кронид, – прохрипел Менетий и вытянулся на камнях, звякнув цепями. Цепи задрожали, повинуясь моему жесту – и покорными змеями убрались прочь, оставляя брата Атланта на свободе.
– Неспособен даже на брань. Жаль. Знаешь, не так давно я видел Прометея. Он отказался от своей мудрости. Доверился надежде, как сказал сам.
Слабоумной твари, которая умеет только пожирать. Которая год за годом мучительно умирает и не может умереть на здешних Полях – видно, корни крепки.
Крепче, чем у саженцев Геи.
Я смотрел на сына Япета сверху вниз: когда Поля Мук успели вырастить под ногами услужливый холмик? Не заметил.
Может, потому, что смотрел на другое: узлы мышц, каменные бугры мускулов, медленно зарастающие раны…
– Твой брат остался дураком, но не разучился иногда говорить верные вещи. На этот раз сказал: вас больше нет. Вас в действительности нет больше. Ни вас, ни опасности от вас. Медузы, выброшенные на берег. Падаль. Все до единого.
– Так почему… не откроешь Тартар?
– Чтобы мир надышался трупного смрада от других твоих братьев? Мне хватает и того, что есть. Даже слишком хватает.
Она слишком живучая, эта сестрица Ананки. Вон, проснулась в зрачках у титана, выглянула осторожно, будто из нового сосуда Пандоры, где схоронилась на дне. Подкорми ее нужным словом – вылезет, развернется, властно ухватит сына Япета за плечи, толкнет навстречу любым безумствам.
Не пришлось даже выдумывать приманку – сама легла на ладонь. Давняя, простая.
– Сумеешь опрокинуть меня в бою – освобожу. Стикс, услышь мою клятву.
Пустоголовая надежда вытянула шею. Поползла титану в руки, в ноги, в полыхнувшие безумием глаза. Так недавно прозревший котенок рыси ползет на свет: медленно, потом всё увереннее…
– В чем дело? Смущает отсутствие оружия? Просто пожелай. Поля Мук щедры, разве ты сам не знаешь об этом?
Под жарким взглядом титана воздух полей загустел, брякнул на камни увесистый топор. За топором, пораздумав, меч. Потом расплевался тремя-четырьмя копьями.
Потом застенчиво выбросил несколько пик, кинжалов, даже какие-то доспехи – являя собой дополнение к невероятной щедрости Владыки.
Озадаченный Менетий чуть успел уклониться от палицы, которой Поля Мук вздумали порадовать его напоследок – палица просвистела у виска. С недоумением зарылся пальцами в груду дерева, бронзы и адамантия. Искоса поглядывал на меня: ждал насмешки. Старинной издевки: мол, куда титану столько оружия? Плохому бойцу оно только мешает. И еще кое-что – впридачу.
– Не знаешь, что выбрать? – с пониманием спросил я. – У тебя есть время. Бей, чем хочешь. Я не буду мешать.
Повернулся к титану спиной, сделал два шага, оставаясь наедине с миром.
Как ты, мир? Тысячеглазый, тысячеухий пес, жадно вперился в зрелище: оставил жалобы теней, сонный плеск Леты и мертвую суровость Стикса. Подобрался, затаил дыхание…
Что видишь, мир?!
Владыку.
Владыка стоит, отвернувшись и в задумчивости опершись на двузубец. Склонив голову на грудь, не глядя по сторонам: зачем оглядываться – в своем царстве?
И в позе чувствуется что-то знакомое – обманчивая расслабленность, виденная миром давным-давно, только однажды, над озером Мнемозины…
Что видишь, мир? Палицу, взлетающую над головой Владыки? Вырастающую позади беспечного тень? Она вырастает основательно, без излишней торопливости, Менетий вспоминает движения бойца прямо на ходу, открывает рот, оскаливает зубы в безмолвном боевом кличе, выпрямляется во весь рост грозным призраком Титаномахии…
Он велик. Он могуч, этот призрак с оскаленными в отчаянии зубами и повыклеванной за века мучений печенью. Он нависает тяжким бременем над фигурой, укрытой в багряное, и фигура кажется неприметной и ничтожной.
Только нетерпеливым гадючьим жалом трепещут черные лезвия двузубца.
Вместилище мощи мира, лежащее в ладони.
Близко. Очень близко. Палица летит хвостатой кометой, рвет воздух, как разоритель толосов – ветхую ткань погребальных пелен с тела. Воздух мира, идущий впереди оружия титана, осторожно трогает волосы Владыки – эй, ты как, не заболел?!
И за миг до того, как палица опустится на его голову, Владыка поворачивает к противнику лицо.
Убийственный, тонкий серп ухмылки. Кажется: вот-вот в бороде скользнут два опасных ручейка седины, проедят себе дорогу в черноте…
Вместо этого скользит сам Владыка. Неспешно сделав шаг в сторону, обтекает палицу, одновременно отводя удар в сторону свободной рукой.
Вторая рука ласково стискивает двузубец: давай? давай…
Титан даже не понимает, откуда приходит удар. Великий призрак Титаномахии валится на колени с жалким, недоумевающим: «Да какого Тартара?!» Ползает там, хватается за какое-то оружие, не решаясь поднять глаза и посмотреть вновь.
Кажется, Менетий только что испугался. Это он правильно. Призракам суждено бояться – пусть даже призракам великих войн.
Призраки нынче бессильны. Даже те, которых так старательно пестует мать-Гея. Жаль, она не видит, на что обрекла своего Алкионея.
Мир наливается торжеством, как яблоки по осени – спелым соком. Мир старается не пропустить ни одного стона… падения…
Попытки титана подняться, скольжение по грязи, в которую он взбил почву Полей Мук, новые падения, рывки навстречу Владыке с оружием – мир жадно глотает все. Чтобы потом запомнить – и повторить вместе со своим Владыкой.
Уходить от копья, от меча, от любого оружия, которое возьмет недальновидный противник, подчиняясь надобности.
Владыку-чудовище ранить нельзя. Никаким оружием. Потому что нет того, что может причинить ему боль. Владыки смеются над теми, кто сражается телом, они приказывают тем, кто бьет как бог, они не слышат приказы тех, кто пытается повелевать, как Владыка…
Чем будешь бить, Менетий, еще одна веха перед моим настоящим боем?
Правильно, ничем. То есть, нечем.
Потому пора заканчивать.
Титан грохнулся о берег Коцита в последний раз – мешком овечьих костей, собранных на кормежку псам. Хрипло взвыл, попытался подняться, обдирая ладони. Засипел проломленной, сдавленной грудью какие-то проклятия.
– Прометей был прав, – с досадой сказал я. – Вас нет больше. Проваливай на Поля Мук, грифы заждались.
Махнул рукой, не удосуживаясь взглянуть в сторону калеки-Менетия. Не проверяя: как его – дотащило до Полей Мук? Сковало ли его цепями? А грифы вернулись в достаточном количестве?
К чему Владыкам утруждать себя мелочами. Мир услышал. Мир сделает.
Коцитские волны стонали странно. Не как обычно – выплескивая в воздух густые, смешанные жалобы смертных на свою злую долю. Не насыщая окрестности бессильными проклятиями, вскриками боли.
Звук был однородный, надрывный и безнадежный, перемежающийся всхлипами. Воды звучали поминальной песней, последним плачем. Полынным прощанием с кем-то, кого не хочется отпускать: сыном? братом? мужем?
– Коцит мудрее многих рек, – тихо проговорили слева. – Он умеет слышать то, что не дано никому больше.
Воды реки уловили потаенное: гнев Владыки на мир, который не предупредил о приближении подданного. Воды скорбно охнули.
Потом продолжили тихо плакать о ком-то, кто ушел навсегда.
– Радуйся, Танат Жестокосердный.
– Радуйся, Владыка подземного мира.
Интересно: его можно какими-нибудь силами заставить сказать «мой Владыка»? Нужно будет попробовать.
Железнокрылый стоял безо всякого вызова, но и без тени почтения: на берегу Коцита, сложив руки на груди и глядя на воды спокойным, лишенным обычной остроты взглядом. Мертвым, – спел бы аэд об этом взгляде, забывая, что говорит о том, кто и должен быть мертвым. Короткий хитон вместо длинных серых одежд, меч на поясе: в бой ли готовишься, Убийца?
Что-то долго собирался, я ждал тебя в первые дни. Думал – примчишься со всех крыльев, вытаскивать утопленника из озера Мнемозины. Возвращать прежнего невидимку, неважно какими способами (меч, например, – чем не способ?). Даже думал: может, призвать тебя самому? Мне все-таки не хватает здесь хороших противников. И есть еще кое-что, неубитое…
Наверное, я недооценил твое чувство самосохранения. Или твою сообразительность. В любом случае – хорошо, что ты явился.
– Ты наблюдал, – да, со скалы. Да, в отдалении. Но мир видел. – Пришел сказать, что я бездарно дрался?
– Нет. Потому что ты не дрался: ты приказывал.
Река заходилась в плаче. Захлебывалась от горя, омывая корявые корни ив, как жена омывает тело умершего мужа перед тем, как умастить его к погребению.
Царь смотрел на подданного – на своего вестника. Пристальным, равнодушным, изучающим взглядом.
Вестник свой взгляд без остатка топил в водах Коцита.
Плач реки угодливо подстраивался под слова Убийцы: наверное, хотел послушать.
– У этого мироздания свои законы, с которыми приходится считаться. Есть мелкие: например, тот, по которому воины иногда становятся царями. Есть непреложные. Например, тот, по которому рано или поздно все умирают. Смертные от моего клинка. Бессмертные – перерождаясь в нечто иное. Можешь быть уверен, я знаю о смерти все.
Законы иногда бывают забавными, словно у того, кто устанавливал их – моя фантазия палача. Чего стоит хотя бы этот, о котором так настойчиво шепчет мир: бог смерти не имеет права на привязанность. Ибо тот, кто привязался, рано или поздно ощутит боль потери, а палач не должен чувствовать то же, что жертва.
Чудовища не должны понимать тех, в ком состоит их предназначение.
Ты нарушил этот закон настолько основательно, Убийца, что мне впору приковывать тебя рядом с Менетием.
– Говорят, что Деметра помнит каждый, выращенный ею цветок. Гера – каждый заключенный брак. Я помню всех их. Слышу всех их. Тех, кто умер за все эти века. Смертных и бессмертных.
Наверное, Мом-насмешник откалывает шуточки даже там: подкидывает, небось, каверзные шепоточки брату в момент работы. Или укоряет: а почему ты не взял прядь моих волос, когда я лопнул?!
– Передай поклон Гестии, – сказал я, усмехаясь.
– О тех, кто еще не умер, мне тоже приходится знать, – продолжил он ровно, – потому что их я не слышу.
Ты нарушил свой закон так основательно, Убийца, что предал самого себя. Я-то ждал, что ты бунт поднимешь. Присоединишься к матушке и батюшке (вот уж кто спит и видит, как от меня избавиться).
Вместо этого ты решил оставаться верен тому, который отныне – достояние памяти-Мнемозины. Не удивляюсь. Прежний невидимка хорошо умел связывать две нити: вязал прочные, нерушимые узлы.
Берегись, Железнокрылый. Этот узел может и тебя утянуть на дно, где уже скопилось немало таких вот воспоминаний.
– Надежда опасный советник, Танат, – тон милостивого государя дался без усилий. Скользнул наружу, ударил адамантовым копьем: – Она заставляет слышать то, чего нет. И не слышать то, что есть. Тебе лучше отказаться от того, что не входит под своды этого мира.
– Надежда – для тех, кто отчаялся, – воды Коцита покорно впитали тайное: отзвук удара копья о щит. – Сильные верят. Ты ведь знаешь, что в действительности убивает бессмертных.
От ворот на изукрашенных бриллиантами столбах томно вздохнула бездонной глубиной Лета, похлопала ресничками чахлых травинок по берегам: а меня кто-то звал?
Подарила легкий отзвук усмешки – покривившиеся губы.
– Разве вера – для воинов? Мне казалось: ее слишком легко убить. Надежда слаба, но держится всеми корнями, проникает сквозь любые щели. Ее сложно удушить. Теперь вот она даже в кострах у смертных. А вера издыхает с одного сильного удара. Ты скажешь мне – я не прав?
– Разве может вестник сказать такое о Владыке?
Жаль – я не читаю по глазам. Наверное, там, во взгляде, который он с таким тщанием скрывает в Коците, что-то важное. Наверное, я мог бы даже приказать ему – смотреть мне в глаза, а лучше – говорить вслух. К чему? Скажет очевидное. О том, что вера, как воины, бывает разной. О том, что иногда сложно нанести достаточно сильный удар.
Воды реки отпели похоронную песнь, оплакали любезного. Отскорбели и примолкли, тоненько всхлипывая девчачьими голосками.
– Мы можем проверить крепость твоей веры. Или силу моего удара. Ты наблюдал за моим боем: его не получилось. Что ты скажешь об одной схватке?
– Что не буду драться.
Мир подпрыгнул под ногами – пес, внезапно поймавший осу. А может, пошатнулись стены – всегда что-нибудь шатается, когда уходит незыблемое.
Мир искал, шарил в себе, в бесконечных днях – и не мог найти в них Таната Жестокосердного. Такого, как сейчас. С ясным взглядом, поднятым подбородком, глядящего почти насмешливо.
Бог? Чудовище? Смертный юноша с мечом на поясе?!
Дерзкий вестник перед Владыкой, слегка сузившим глаза.
– Не знал, что ты теперь уходишь от битв.
– От битв – нет. Я уклоняюсь от приказов.
Звон столкнувшихся клинков – отбитого удара – канул на дно Коцита вслед за всем остальным.
– Я могу покарать тебя. Как нарушившего приказ Владыки.
Мир выходил из повиновения. Рвался – зажмурить глаза, закрыться лапами.
Миру казались всякие глупости: будто вечно сжатые губы тронула улыбка.
– Я приму твою кару, как любой из твоих подданных. Только сначала найди того, кто возьмет мое предназначение.
Сын Нюкты плавно, не спеша, свел крылья, истаял в воздухе.
Если, конечно, это вообще тот самый сын Нюкты.
В любом случае, я не стал мешать.
Пусть себе уходит. Пусть думает даже – что ему удастся отсидеться. Закрыться от противостояния крыльями, ложью – подолом сестрицы-Аты – своим предназначением…
Я могу подождать.
Случай представится, рано или поздно. Скорее – рано. Черные крылья поодиночке не являются. Танату хватит ума покуражиться и отсидеться, а вот его недальновидному братику – едва ли.
Всё последнее время тот взглядывал на меня с недоумением. Шуточки какие-то мелкие бросал. Даже вывести из себя старался – странно, что Танат не прислал его впереди себя. Ах да, они же не ладят.
В любом случае – этой схватки ждать осталось недолко: день, может, два…
…полдня. Бывает ведь – густо, а не пусто. Наверное, весть о Менетии так взбудоражила мир: нахальный оклик «Эй, Кронид!» догнал меня во время привычной прогулки по берегу Ахерона.
– Эй, Кронид, кому говорю! Забыл, кто ты там по папе или теперь только на титулы отзываешься?!
Я остановился.
Странно, что Танат не остерег близнеца. Забыл, а может, не подумал.
Или верил, что Гипносу с его шуточками удастся то, что не удалось ему.
Во всяком случае, бог сна очень старался. Болтал ногами в воздухе и во всю глотку рассуждал что-то крамольное, что должно вызвать у меня гнев. О Менетии, о том, что можно подобрать себе и других противников на Полях Мук – например, Сизифа или Тантала, о том, что я зря избегаю его чаши… о разном.
Я молчал, прикрыв глаза. Слушал, не пугая своим гневом, не предостерегая, вообще ничего не говоря, и отчаянная, последняя попытка бога сна пропадала втуне.
Заглушенная предвкушением еще одной схватки. Поднимающимся изнутри голодом – предвидением новой кары.
И привычным ощущением, что все-таки что-то забыл.
Или там, на памятном обрыве, где ломал своё прошлое, убирая одно препятствие за другим, чего-то недоломал.
Летучую белую помеху.
Помеха назойливо мельтешила в воздухе. В одной руке – пестик, во второй – каменная ступка. Помеха улыбалась, нагло и открыто, улыбкой, как крюком, шарила в памяти, всё пыталась подцепить что-то несуществующее.
– Что, Кронид? Может, поучишь меня почтению к царям? Кулаком мне врежешь, как в старые времена? Или нет, лучше к Танталу. В компанию. На Поля Мук, а?
– Зачем? У тебя ведь нет ничего дороже крыльев.








