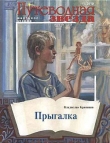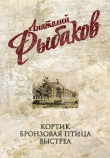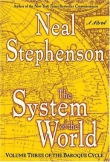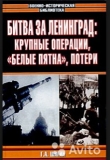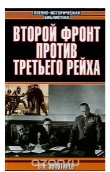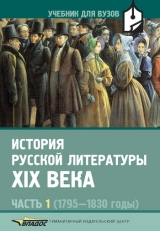
Текст книги "История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 2"
Автор книги: Екатерина Дмитриева
Соавторы: Валентин Коровин,Людмила Капитонова
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 39 страниц)
У Бестужева, поставившего себе целью воссоздать феодальную, рыцарскую вольницу, ее жертвами оказываются и сами рыцари, ибо среди рыцарства было незазорным захватывать друг у друга земли (тяжба Буртнека и Унгерна в «Ревельском турнире»), затаивать и осуществлять коварные планы против своих же («Замок Нейгаузен», история барона Нордека), унижать и оскорблять равных себе («Замок Венден»). Так на страницах ливонских повестей возникают образы романтических «злодеев» – магистра Рорбаха, рыцаря Гуго фон Эйзена, Ромуальда фон Мея, олицетворяющих пороки средневекового феодализма и заслуженно наказанных.
На их фоне представляется иным образ барона Бернгарда фон Буртнека, равно как и сама повесть «Ревельский турнир», по сравнению с другими тремя бестужескими ливонскими повестями.
«Ревельский турнир» называют в полном смысле слова исторической повестью и, возможно, самой «вальтер-скоттовс-кой» из всех повестей Бестужева. Исторические события и историческое время здесь изображаются на манер Вальтера Скотта «домашним образом»: проявляясь в обыденном, повседневном течении жизни, выявляя себя в поступках, мыслях, чувствах обычных людей, одним из которых является барон Буртнек, обедневший, но продолжающий кичиться своим положением в обществе рыцарь. В повести его окружает домашняя обстановка; Буртнек поглощен многочисленными житейскими заботами, самая болезненная из которых – земельная тяжба с Унгерном.
Чтобы показать барона человеком своего времени, в «Ре-вельском турнире» не понадобилось изображать кровавые злодейства и преступления рыцарей. Достаточно было обыкновенной беседы Буртнека и доктора Лонциуса за бутылкой рейнвейна, когда отчетливо обозначились характерные черты средневекового рыцарства. Больше того, в приватной беседе проступило и само историческое время, тот экономический кризис, который переживает рыцарство на момент описываемых событий. По его поводу Бестужев выскажется особо: VI глава повести содержит четкую, логическую характеристику эпохи в лучших традициях Вальтера Скотта («Час перелома близился: Ливония походила на пустыню – но города и замки ее блистали яркими красками изобилия... Везде гремели пиры, турниры сзывали всю молодежь... Орден шумно отживал свою славу, богатство и самое бытие»).
Однако впервые проблема экономического упадка, обнищания рыцарства заявляет о себе в разговоре барона и доктора. Нетерпение, с каким Буртнек ожидает исхода спора с Унгерном, в первую очередь связано с возможностью покинуть Ревель, сменив его на деревенскую жизнь, и тем самым поправить и без того пошатнувшееся материальное положение барона.
Связывать личные судьбы с общественными проблемами, а тем более изображать их на фоне исторического времени Бестужев также учится у Вальтера Скотта. При этом он целиком отдает свои симпатии герою, победившему не только на Ревельском турнире, но вышедшему победителем из поединка с самим Ревелем, его сословными предрассудками, титу-лованностью, косностью, заносчивостью. Однако у молодого купца много общего с благородным Вигбертом фон Серратом («Замок Венден»), наделенным высоким представлением о долге и чести. Подобно Нордеку («Замок Нейгаузен»), он смел, горяч, отважен. Как Нордек и Адо, Эдвин – человек высоких страстей. Несомненно, купец Эдвин был рыцарем духа, в то время как о принадлежности Доннербаца к рыцарству напоминал лишь звон его шпор.
Четыре ливонские повести Бестужева составили своего рода этап в развитии жанра исторической повести, поскольку в них целенаправленно и последовательно происходило освоение нового – вальтер-скоттовского – способа исторического повествования. Уроки Вальтера Скотта для русской исторической повести и исторической прозы в целом во многом окажутся плодотворными; творчество ряда писателей (среди них А. Корнило-вич) будет осуществляться в русле упрочения этой традиции 16 . Но в то же самое время русская историческая проза вступает в своеобразное соперничество (А. Корнилович) с английским романистом, избрав своим главным содержанием национальную историю, русскую старину, которая, по мысли М.П. Погодина, «представляет богатую жатву писателю», а русской литературе – основание «иметь Вальтера Скотта» 17 .
К ливонским повестям Бестужева примыкает и опубликованная в 1824 г. повесть «Адо» (подзаголовок – «Эстонская повесть») В.К. Кюхельбекера, в которой рассказывается о владимирском князе Ярославе Всеволодовиче, о свободном Новгороде, о завоевании Прибалтики немецкими рыцарями. Тема навеяна детскими воспоминаниями автора о суровой природе Эстонии, о непосредственных и свободолюбивых людях, населяющих этот край. Несмотря на то, что в повести обозначены конкретные исторические времена и места действия (Новгород, Чудское, Ладожское, Онежское озера, Белое море), сюжет и персонажи вымышлены. Кюхельбекер увлечен идеей борьбы эстонцев за независимость, на фоне которой любовная история выглядит условной.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ Н.А. ПОЛЕВОГО (1796-1846)
Писателем, поставившим себе целью «оживить» русское прошлое, найти в нем, подобно декабристам, необыкновенные, героические характеры, которым нет равных в современности, проследить их драматическую, подчас роковую, но прекрасную своей исключительностью судьбу, был H.A. Полевой. Таким героем у него является Святослав («Пир Святослава Игоревича, князя Киевского») – великий воин, воспринявший слова князя Олега из Велесовой песни о том времени, когда к воротам Цареградским «придет молодец» его, Олега, «удалее, возьмет, полонит он Царьгород», для себя пророческими.
Святослав решает продолжить начатое Олегом Вещим – «зачерпнуть шеломами воды Дуная широкого», отомстить за убитых товарищей. Поэтому никакие преграды не могут ему стать помехами в достижении судьбоносной цели. Когда-то Олег прошел море, «обернув свои ладьи цаплями долгоносыми», сушу – поставив ладьи на колеса, воинов «оборотил» «чайками белокрылыми», управляя «облаками небесными», «водой дождевой», погасил греков «огонь неугасимый». Подобно Олегу, Святослав – «исполин», «непобедимый» вождь – сможет достойно пройти путь своей судьбы.
Под стать русскому князю верный сын Новгорода Василий Буслаев. Подобно Святославу, которого воодушевляет, придает силы и уверенность в правоте выбора живущий в нем дух предков, Василия направляет звук вечевого колокола – «голос вольности Новгорода».
Делая личность героя содержательным центром повествования, Полевой вместе с тем считает, что в исторической повести первостепенную роль играют, говоря словами писателя, «условия всеобщего бытия» – обстоятельства общезначимого характера, отношение к которым является определяющим в авторской оценке героя. Так, например, Симеон («Повесть о Симеоне, Суздальском князе») пытается восстановить право своего княжения в Новгороде в то время, когда разобщенная княжескими междоусобицами Русь оказалась перед угрозой нашествия Тимура и когда все личное должно быть подчинено общественному. Новгородец Буслай, не желающий разобраться в намерениях московского князя, становится невольным противником идеи централизованного русского государства, необходимого для борьбы с ордынскими завоевателями. Не отвечают надеждам Царьграда на приход великодушного, мудрого и справедливого правителя действия Иоанна Цимисхия – героя одноименной повести Полевого, пытающегося пробить себе дорогу к престолу мечом и обманом, «сметая» на пути всех, ему неугодных. Писатель осуждает «частные» воли героев, вступающих в противоречие с исторической необходимостью.
Погруженный в личные проблемы и интересы, суздальский князь Симеон не видит надвигающейся беды на Русь в лице Тимура. Для него главную опасность представляет Василий Дмитриевич, московский князь – главный противник его княжения в Суздале. Продолжая вести борьбу с Москвой, Симеон не только не способствует прекращению междоусобной войны, столь необходимому в обстоятельствах угрозы Тимурова нападения, а, напротив, разжигает эту войну, что, по мысли Полевого, и обрекает князя на роковую участь, о которой повествуют древние летописи: «добиваясь своей отчины... много труд подъя, и много напастей и бед потерпе, пристанища не имея, и не обретая покоя ногама своима, и не успе нич-тожа, но яко всуе труждаясь».
В «Повести о Буслае Новгородце» герой, влюбленный в новгородскую вольницу, не желая склонить головы перед боярами московскими, почитая это за личное оскорбление, не оставляет тем самым для себя ни малейшей возможности осмыслить истинное положение дел на Руси. Духовная гордыня приводит Буслая к непредвиденным поступкам. Когда вече «определило» покориться Москве, он сжигает и грабит Ярославль, «за новгородцев» «жег», «опустошал» другие «селения и города» и «не каялся, что запятнал руки кровию христианскою», ибо, как говорит сам Бус лай, «честным боем сражался я».
Однако у Полевого историческая правда оказывается на стороне московских князей Василия Дмитриевича и Димитрия Ивановича, которые стремятся, не исключая пути интриг («Мы видели, как посланник московского князя в Суздале Белевут успел усыпить князя Бориса, умел найти изменников в окружавших его вельможах и между тем узнал тайных сообщников Симеона»), грозя «огнем и мечом», «собрать воедино рассыпанное и совокупить разделенное». Именно они выступают защитниками общенациональных интересов, выразителями исторической неизбежности установления единодержавной власти как залога будущего величия России.
Изображая эпоху княжеских междоусобиц, страну, «сжигаемую пожарами», разграбленную и иссеченную «вражескими мечами», Полевой стремился к исторической точности событий, фактов, деталей. Тексты исторических повестей (особенно «Повесть о Симеоне...») свидетельствуют о серьезной, глубокой осведомленности автора в том, о чем он пишет. Например, изложение событий, связанных с нашествием «Тох-тамыша окаянного», во многом опирается на летописные повести XV в. о Темир-Аксаке. В них Полевой почерпнул и сказание об иконе Владимирской Богоматери, которую писатель вслед за древнерусским автором расценивает как «благодать Божию», спасшую Москву «от гибели».
Установка на правдивое воспроизведение эпохи, следование историческим фактам, логике истории не помешала повествованию Полевого быть предельно личностным. Объяснение этому заключается в способе показа автором исторических событий: через отношение к ним героев, их личной точки зрения на происходящее, которая часто закрепляется у Полевого в эмоционально окрашенном слове, проливающем свет на характер героя. Так, например, Василий Дмитриевич, ощущая свою миссию на земле как избранническую, нацеленную на воплощение «великих идей», заложенных Богом, соответственно выстраивает и собственное поведение в решении вопроса централизации русских земель: не уступать «частным» волям, включая Симеона с его претензиями на княжение в Нижнем. Отсюда слова великого князя, с одной стороны, приобретают императивный характер («Не говорите мне, ни ты, владыко, ни ты, князь Владимир, – я не отдам Нижнего!»), с другой, говорит «сын судьбы, посланник провидения», и потому слова, произносимые им, звучат, как прорицание, в торжественно-возвышенной тональности: «Не на того падет гнев Божий, кто хочет собрать воедино рассыпанное и совокупить разделенное! Симеон и Борис противятся мне..., и меч правосудия тяготеет над главами их! Так я думаю, так должны все думать».
Совершенно иное отношение к происходящим событиям у Белевута. Он принимает сторону Василия Дмитриевича в спорах о судьбе Новгорода исключительно в целях извлечения личной выгоды. И, соответственно, речь Белевута «снижена» бытовым и «деловым» лексиконом: «уговорить», не «выпустить из рук», «попалось».
Несмотря на то, что Полевому удается создать выразительные бытовые характеры, писателя более привлекают герои исключительные, выламывающиеся из своего окружения, наделенные драматической судьбой, страстные, решительные, не изменяющие собственных убеждений и идеалов, – подлинно романтические герои. Таков Симеон – сильный, благородный человек, убежденный в личной правоте, не смиряющийся с несправедливым к себе отношением московского князя. Ощущая несбыточность притязаний на княжение, он, тем не менее, не позволит Василию Дмитриевичу распорядиться своей жизнью. Предпочтение собственного удела, нередко исполненного глубокого трагизма, – «родовая» черта героев исторических повестей Полевого, что придает всему повествованию романтически-возвышенную приподнятость.
ИСТОРИЯ В ПОВЕСТЯХ А. К0РНИЛ0ВИЧА (1800-1834),
А. КРЮКОВА (1803-1833), 0. СОМОВА (1793-1833) И ДР.
Иначе воскресает прошлое в повестях А.О. Корниловича – ученого-ис-торика в декабристской среде, считавшего, что историческая проза требует «величайшей точности в событиях, характерах, обычаях, языке». Отсюда определяющим в его исторических повестях становится прозаический тип повествования, обусловленный их плотной документальной основой.
Профессионально занимаясь Петровской эпохой, публикуя о ней научные работы, а также очерки о нравах этого времени, основанные на литературной обработке документов эпохи Петра, Корнилович избрал ее и темой своих повестей («За Богом молитва, а за царем служба не пропадают», «Утро вечера мудренее», «Андрей Безымянный»). Работая над ними, он использовал, помимо исторического материала, устные рассказы, исторические анекдоты петровской поры, помогающие воссоздать ее по-валь-тер-скоттовски – «домашним образом».
Но сведения из частной жизни Петра, о нравах русского общества, описание ассамблей и празднеств нужны Корниловичу не только для характеристики состояния общества. Одновременно писателем выстраивается историческая перспектива петровских преобразований 18 , и опять-таки осуществляется это «по-домашнему» («Андрей Безымянный»). За ужином после удачной охоты, посреди «стука ложек, ножей, вилок» разгорается спор между отцом Григорием и хозяином дома, помещиком Горбуновым-Бердышевым о пользе дел Петра. Отец Григорий высказывает собственные суждения, рассказывает анекдот о юности государя, и в конце своего пространного монолога резюмирует: «Государи живут не для одних современников, а бросают семена, растящие плод, от коего снедят потомки...» Это была позиция и самого Корниловича, который относился к Петру в основном положительно, хотя понимал его эпоху как сложное и неоднозначное явление 19 .
Увлеченный историческим предметом повествования, писатель представляет Петербург с его дворцами, соборами, Сенатом, Адмиралтейством, Аничковым мостом... во всей его «странной пестроте и разнообразии»: пышности и убогости, простоте и тесноте, перечисляет именитых жителей города, слободы, улицы. В повести изображается заседание Сената и его участники – окружение Петра, воспроизводится распорядок дня, занятия государя. Описываются развлечения в Летнем саду и на ассамблее в доме Меншикова. Причем все эти материалы имеют достаточно законченную форму и воспринимаются как самостоятельные картины, зарисовки, очерки нравов петровской эпохи. Отсюда, несмотря на то, что автор проявляет себя в повести «Андрей Безымянный» как мастер повествовательной интриги, документальный материал и романтическая «история» Андрея Горбунова существуют сами по себе, автономно и самодостаточно. Документы помогают писателю представить историческое время в вальтер-скоттовском ключе, а любовная интрига призвана проиллюстрировать государственное величие и человеческие добродетели Петра.
Сам рассказ о судьбе героев не избежал условностей и романтических штампов. Здесь представлены восторги первой любви, коварные «клевреты», мешающие счастью влюбленных, ночное преследование, таинственная избушка в лесу и старуха, похожая на ведьму, счастливый случай – встреча с другом, разговор с Петром и, наконец, благополучное разрешение всех несчастий.
Проблема соотнесенности исторического и бытового материала с повествовательной интригой актуальна и в «Рассказе моей бабушки» А. Крюкова.
Рассказанной истории, пожалуй, больше подошла бы обстановка средневекового замка с его тайнами, страхами и подземельями, нежели маленькая крепость с домами – «избушками на курьих ножках», двумя воротами, тремя старыми пушками и с полусотней ее защитников, едва держащихся на ногах от старости.
Стремясь противопоставить историю героини «вымышленным бедствиям ... романтических героев», Крюков на деле оказался в плену готовых романтических ситуаций и образов, среди которых подслушанные тайные разговоры, колоритная фигура старухи-мельничихи и ее слуги Бирюка, смахивающего на нечистого. В отличие от Корниловича, Крюкову в описании исторических событий не достает искренности, а главное, правдоподобия. В рассказе бабушки доминируют народные слухи о пугачевщине. Воображение героини рисует Хлопушу и его окружение в ореоле чего-то бесовского («страшные гости», «страшные кровью залитые глаза», «богомерзкие беседы», «сатанинские объятия» и пр.).
Несмотря на явные неудачи художественно-повествовательной манеры А. Корниловича и А. Крюкова, сильной стороной их повестей являлось присутствие исторических и бытовых реалий. Многие из них привлекли внимание Пушкина и были использованы в «Арапе Петра Великого» и в «Капитанской дочке».
Важной темой исторической повести 1830-х годов продолжала оставаться Отечественная война 1812 г. и связанные с ней идеи патриотизма, гражданственности и единства русской нации в период испытаний, составившие основной пафос одной из первых книг, посвященных этому времени и подвигу русской армии – «Писем русского офицера» Ф. Глинки (1815—1816).
С иных позиций подходят к этой теме О. Сомов и Н. Бестужев. В повести «Вывеска» Сомова о 1812 годе рассказывает француз, в прошлом солдат армии Наполеона, своими глазами увидевший то, как русские крестьяне защищают родную землю. Вооруженные топорами, косами, дубинами, кольями, они шли на врага «густой толпой» и «беспрестанно заступали» места погибших. Здесь же раненый священник «не переставал ободрять своих прихожан», и рядом с мужиками был их хозяин – помещик, возглавивший «земское ополчение».
В рассказе чужого солдата совершенно отчетливо просматривалось авторское восхищение народным патриотизмом, но в нем подспудно присутствовала глубокая грусть по славному прошлому русской нации, о котором напомнил русскому путешественнику на чужбине своим незатейливым рассказом французский цирюльник. Аналогичные чувства пронизывают повесть Н. Бестужева «Русский в Париже 1812 года», посвященную времени становления передового русского дворянства, будущих декабристов. В ней автор в каком-то смысле итожил декабристский период в русской литературе, что вылилось в попытку создания исторического образа офицера-декабриста, личности декабриста, отразившей лучшие качества национального характера, о котором так много рассуждали в исторических повестях А. Бестужев и В. Кюхельбекер, с той лишь разницей, что они обращались к далекому прошлому, людям старины, в то время как Н. Бестужев говорил
о недавнем времени, о своем поколении. И в этом отношении повесть «Русские в Париже 1812 года» – явление примечательное.
Во второй половине 30-х годов выходят исторические повести К. Масальского «Русский Икар» и «Черный ящик», продолжающие вслед за А. Кор-ниловичем петровскую тему. В них присутствуют довольно занимательный сюжет и колоритные зарисовки нравов, а также образы Петра I, Меншикова, шута Балакирева. Журналы тех лет отмечали, что Масальский довольно хорошо осведомлен в избранной им исторической эпохе. Однако говорилось и то, что повести отягощены значительными длиннотами. Интерес писателя к истории и хорошее знание послепетровского периода подтвердит его роман «Регентство Бирона».
В конце 30-х годов по-прежнему продолжают печататься исторические повести; среди них «Изменники» И. Калашникова, «Студент и княжна, или Возвращение Наполеона с острова Эльбы» Р. Зотова, «Иаков Моле» П. Каменского и др., обращенные к разным эпохам, странам, темам. Например, время действия в «Изгнанниках» Калашникова условно приурочено к бироновщине, сюжет «Иакова Моле» связан с эпохой католического средневековья. Но к этому времени историческая повесть уже движется к завершению своей жанровой истории, подводя итоги собственных достижений и неудач.
Главное, что не удалось исторической романтической повести, – это претворить исторический, бытовой материал в художественном повествовании, когда оказываются органически соотнесенными документ и вымысел, реальный он и образный ряд, конкретный факт и сюжетный ход. Нерешенной задачей для нее остается объяснение человека, его характера историей. В то же самое время исторической повестью романтиков были предприняты шаги, ставшие плодотворными для последующего развития русской прозы в целом, прежде всего обращение к тщательному изображению эпохи, исторического быта, нравов, поведения, манеры речи, немногое, но несомненно значительное для того, чтобы состоялись «Тарас Бульба» и «Капитанская дочка», а также русский исторический роман М.Н. Загоскина и И.И. Лажечникова.
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
Фантастическое, как один из элементов предромантической и ранней романтической повести в повестях 1820-1930-х годов, становится основным признаком жанра и перерастает в самостоятельный жанр, удержавшийся в литературе и в последующее время. 1820-1830-е годы – расцвет фантастической образности, которая в современной теории литературы получила название вторичной (или акцентированной) условности, противопоставленной жизнеподобию.
Популярность фантастической образности, воплощенной в фантастической повести, была мотивирована глубокими познавательными устремлениями писателей. Русская литература эпохи перехода от романтизма к реализму активно поддерживала интерес к потустороннему, запредельному, сверхчувственному. Писателей волновали и особые способы человеческого самосознания, духовной практики (мистические откровения, магия, медитация), разные формы инобытия (сон, галлюцинации, гипноз), не гас интерес и к мечта-тельству, игре и т.д. В это же время шло активное усвоение русской словесностью иноземных литературных традиций: английского готического романа, фантастики гейдельбергских (братья Гримм, Брентано) романтиков, мотивов и образов Гофмана, восточной сказочной и притчевой поэзии. Специфический интерес к необъяснимому и таинственному зиждился на кризисе просветительского рационализма и отражал протест сентименталистов и романтиков против господства в культуре «так называемой рассудочности, то есть ограниченного рационализма».
Современники оставили немало свидетельств о широком внимании общественного сознания к иррациональному – загадочным явлениям в быту, к так называемому месмеризму 20 , к историям «о колдунах и похождениях мертвецов» (М. Загоскин), к странным происшествиям, вроде того, когда «в одном из домов...мебели вздумали двигаться и прыгать» (Пушкин) и т.д. Издатели журналов и альманахов охотно печатали русскую и иностранную фантастическую прозу.
С помощью образного воплощения не существующих в эмпирической реальности, но условно-допустимых сил, иррациональных стихий литература стремилась к освоению вполне «земных, зачастую спрятанных в бытовую оболочку конфликтов, содержание которых охватывало необыкновенно широкие смысловые сферы: национальные, религиозно-этические, со-циально-исторические, личностно-психологические.
СПЕЦИФИКА РОМАНТИЧЕСКОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ И ЕЕ ГЕНЕЗИС
Самой продуктивной формой фантастической прозы оказалась повесть, поскольку именно средний объем текста был наиболее пригоден для создания и поддержания атмосферы тайны, напряженности и занимательности повествования 21 .
Для жанра фантастической повести характерны: «установка на устную речь, на устный «сказ», охотнее и чаще, чем на письменную, литературную в собственном смысле форму и стремление объединить ряд устных рассказов сю-жетно-бытовой рамкой, т.е. циклизовать их так или иначе» 22 . Были созданы как цикл или соединены под общим заглавием спустя некоторое время после «разрозненного» опубликования «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» А. Погорельского (A.A. Перовского), «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Н.В. Гоголя, «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейко <...>» и «Русские ночи» В.Ф. Одоевского.
Жанровая специфика романтической фантастической повести непосредственно связана с русской романтической балладой 23 . В рамках этого поэтического жанра сложился и был перенесен в романтическую повесть «принцип восприятия фантастического», суть которого состоит в эффекте эмоционального приобщения к атмосфере чудесного, сверхъестественного. Романтическая фантастика не требует действительной веры в реальность сверхъестественного, но «читатель должен пройти через непосредственное ощущение чуда и реагировать на это ощущение удивлением, ужасом или восторгом, вообще теми или иными «сильными чувствованиями». Без этого авторская цель, видимо, не может быть достигнута...» 24 .
ТИПОЛОГИЯ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ
Существует несколько типологий фантастической повести. Согласно одной из них, критерием различения фантастических повестей служит способ введения и воплощения фантастического: «В число фантастических обычно включаются гротесковая повесть, где иной, запредельный мир служит проявлением необычных, невероятных сторон самой что ни на есть реальной жизни, «таинственная» повесть, сюжет которой составляет попытка человека проникнуть в потусторонний мир или его общение с фантастическими существами, фольклорная повесть, где чудесные происшествия оказываются зримым воплощением легенд, поверий, преданий» 25 . При этом писатель был достаточно свободен в выборе жанрового определения, и фантастическая повесть могла называться волшебной повестью, как «Черная курица...» А. Погорельского, восточной повестью, как «Антар» О.И. Сенковского, сказкой или записками, как некоторые произведения В.Ф. Одоевского, и др.
По другой типологии, главным критерием деления повестей служит смысловая оппозиция: «естественное – сверхъестественное», «реальное – ирреальное» в бытийной сфере произведения. В зависимости от того, доминирует ли сверхъестественное в художественном мире вообще, в художественном времени и пространстве, берут ли верх естественные законы природы или реальное и ирреальное сосуществуют в относительном равноправии, фантастическую прозу можно объединить в три большие группы.
I. Повести, в которых фантастическое реализуется как ирреальный художественный мир («Лафертовская маковница»
А. Погорельского, «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий» Н. Гоголя, «Антар» О. Сенковского). Сверхъестественные события, в основе которых фольклорные предания, не могут быть объяснены естественными законами. Ирреальный абсурдный мир пародийно осмысленных мифологических сюжетов развернут в повестях О. Сенковского («Большой выход у Сатаны», «Похождения одной ревизской души», «Записки домового») и Н. Полевого («Были и небылицы»).
II. Повести, в которых фантастическое реализуется в псев-до-ирреалъном художественном мире, где сверхъестественное объясняется естественными причинами. Фантастическое разоблачается благодаря психологической мотивировке (кошмарному сну) – «Гробовщик» Пушкина; объясняется пьяным бредом, белой горячкой – «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» В. Одоевского, «Странный бал» Н. Олина; объявляется мистификацией, розыгрышем – «Перстень» Е. Баратынского, «Привидение» В. Одоевского.
III. Повести, где фантастическое реализуется в относительном (релятивном) художественном мире: естественное и сверхъестественное сосуществуют на равных правах; то или иное событие допускает и реальное, и нереальное объяснение. Например, в повести Н. Гоголя «Нос» сон и явь не имеют явно прочерченной границы, и трактовка изображенного как сна или абсурдной яви зависит от точки зрения; в «Ученом путешествии на Медвежий остров» О. Сенковского архаичный мир представляется рассказчику как существовавший, но погибший в результате космической катастрофы; однако есть и другая, скептическая оценка: тот же мир является плодом псевдонаучных изысканий повествователя, заблуждением жаждущего сенсаций ума.
В ту же группу вписываются произведения, которые основаны на «параллелизме фантастической и реально-психо-логической концепций образа» 26 («Портрет» – 1-я редакция Н. Гоголя, «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского, «Пиковая дама» А. Пушкина и др.). Параллельная, или двойная, мотивировка сверхъестественного, ярко представленная в фантастике Гофмана, обусловила целую сеть художественных приемов так называемой завуалированной фантастики. Среди них – легендарно-мистическая предыстория, невероятные слухи и предположения, сон, чудесные видения, состояния экстаза во время игры, странные ощущения и необычные мечтания, с определенной долей вероятности объясняющие фантастические происшествия, но не снимающие их полностью.
Каждый из основных типов фантастической повести имеет подтипы, которые «пересекаются» друг с другом. Для уточнения подтипа используют уточняющие определения (чудесное, абсурдное, квазимифологическое, квазинаучное, психологическое). Одни из них (чудесное) близки фольклорной, сказочной поэтике и несут преимущественно положительный, жизнестроительный смысл; другие (абсурдное) близки гротескной сатире и связаны с разрушительными силами; третьи (квазимифологическое) воспроизводят мифологические ситуации в пародийной форме; четвертые (квазинаучное) допускают рациональное истолкование маловероятных или невозможных событий; пятые (психологическое) предполагают частичную или полную мотивировку сверхъестественного особенностями сознания или подсознания героя.
Романтическая фантастическая повесть может быть дифференцирована и по авторскому пафосу (сатирическому, ироническому, философско-оптимистическому и трагикогероическому).
Сатирический пафос облекался в форму гротеска, фантастической аллегории, алогизма («Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту», «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» В. Одоевского, сочинения Барона Брамбеуса (О. Сенковского), некоторые повести из цикла «Петербургские повести» Н. Гоголя, отдельные повести А. Бестужева-Марлинского, М. Загоскина, О. Сомова и др.).
Иронический пафос становится заметной чертой В. Одоевского, М. Загоскина. В произведениях Сенковского он воплощен сполна, поскольку в них господствуют идеи относительности нравственных норм, научных и политических теорий, культивируется свободная игра различных стихий бытия. Все это вполне соответствует канонам романтической иронии. Ирония присуща и некоторым повестям Гоголя, освещенным, однако, гражданским и нравственно-религиозным идеалом.