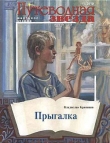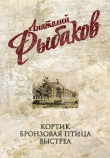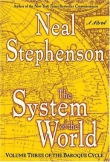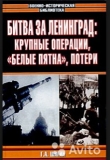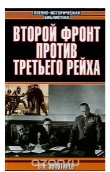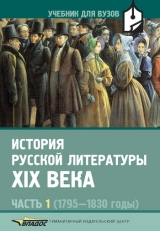
Текст книги "История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 2"
Автор книги: Екатерина Дмитриева
Соавторы: Валентин Коровин,Людмила Капитонова
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)
Еще ранний Шевырев связывал критику с историей. Ему, например, принадлежит развитая впоследствии И.В. Киреевским мысль о «восходящем» движении творчества Пушкина, об органичности этого процесса. Эта идея легла в основу концепции о трех фазах развития русской литературы и даже триадной схемы исторического движения всей современной европейской культуры. Исторические воззрения уберегали Шевырева от абстрактности построений, прямолинейности, схематичности и скороспелости выводов. Его отличали аналитическая конкретность, интеллектуальная осторожность, стремление к объективности 144 .
В 1840-е годы Шевырев написал несколько замечательных книг, в том числе «Историю русской словесности, преимущественно древней». В этом сочинении сказались как сильные, так и слабые стороны литературных воззрений Шевырева, которые повлияли не только на его оценки текущей русской литературы, но и на оценки его сподвижников по журналу «Москвитянин».
В своих критических сочинениях Шевырев стоит за то, чтобы соединить науку с религией. Но, с его точки зрения, такое слияние науки возможно не со всякой религией, а только с православной, поскольку православие в отличие от католицизма Запада, не препятствует, а, напротив, покровительствует развитию науки. «Наука Запада, – пишет Шевырев, – принуждена была объявить мятеж против церкви, ее притеснявшей», тогда как «науке русской не нужно было восставать на церковь, под покровом и благословением которой она начала свой рост в русском народе. Отсюда ясно, что история и характер науки у нас иные, чем на Западе» 2. «Наша история, – продолжает Шевырев, – есть дар нашей церкви» 145 . Стало быть, «основа и крепость бытия народного – вера». Четыре «стихии» – наука, «гражданская жизнь», искусство и вера, религия («божественная стихия») – в России сливаются идеально. «На земле, – утверждает Шевырев, – нет еще народа, который бы совершенно правильно олицетворял это отношение» 146 . Шевырев видит в этом не только своеобразие России, но высшую предначертанность ее исторического пути, которая выделяет Россию из всех стран мира и противопоставляет им. Именно это противопоставление дало основание причислить Шевырева к славянофилам. На самом деле он был достаточно осторожен.
Превознося быт и культуру Древней Руси, Шевырев сочувственно относился к «западным» реформам Петра I. По его мнению, «Петр явился впору» 147 , и с Петра начался в России «период развития человеческой личности» 2.
Вместе с тем, в отличие от Запада, избравшего долю Марфы, Русь избрала долю Марии, «оставив домашнее служение со всею его суетою и прелестью, только слушала Слово Божие» 3.
Это различие между Западом и Россией проявилось, в частности, в том, что всякая возможность перенесения на русскую почву западной культуры несостоятельна, как заимствования русской литературы из западной. Действительно лишь общечеловеческое влияние, но обязательно очищенное «в Божественном».
Эти положения Шевырева были направлены против Белинского и реального направления в литературе. Дело в том, что, допуская изображение «черных сторон» российской действительности, Шевырев видел цель такого изображения в содействии целому народу «в исповеди». Иначе говоря, изображением «черных сторон» народ исповедуется в своих грехах и тем очищается. В этом Шевырев видел смысл творчества Гоголя, который обнажает недостатки с «горячим желанием исправить» их. Гоголь, описывая недостатки, не отрекается от народа, не ставит себя выше его, что может породить лишь клевету на народ. Нужно признать, что, несмотря на противоречивость позиции Шевырева, ему удалось верно передать субъективный замысел Гоголя, который, как известно, остро чувствовал эту тонкую нравственную грань, разделяющую страстное желание комического писателя избавить народ от скверны, очистить его и злобную клевету на него.
Анализируя после исторической стороны «Слова о полку» поэтическую сторону этого памятника, Шевырев утверждал, что общая направленность «Слова...» – движение «от поэзии вымысла к поэзии действительной жизни». Современники оценили замечательный труд Шевырева и вместе с тем отметили увлеченность ученого и критика «своими личными убеждениями», которые проявились во враждебных «выходках» против Европы 148 . Рецензент С.С. Дудышкин считал также, что мысль Шевырева
о божественной стихии (религии) не может быть допущена в науку, равно как и мысль об особой провинденциальной миссии России в мире, указанной ей «перстом Божьим» 5.
Дальнейшая полемика литераторов-«западников» с литераторами-славянофилами и сменившими их «почвенниками» падает уже на 1850– 1860-е годы.
Основные понятия
Реализм, историзм, социально-психологическая обусловленность, «критическое» направление в литературе, «натуральная школа», «физиологии», «физиологический очерк».
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте общую характеристику общественной и литературной жизни 40-х годов, охарактеризуйте идейные и эстетические позиции «западников» и «славянофилов».
2. Определите картину противоречивых литературно-эстетичес-ких тенденций 40-х годов, взаимодействие и борьбу романтизма и реализма.
3. Опишите историю становления «натуральной школы», ответьте на вопрос: в чем причины популярности «физиологии» и каковы их жанровые воплощения в русской литературе?
4. Охарактеризуйте состояние русской литературной критики 40-х годов, вклад В.Г. Белинского в развитие русской эстетики и критики.
5. Подготовьте рефераты «Эстетические и литературно-критичес-кие проблемы на страницах славянофильских публикаций 40-х годов»; «История создания, композиция и принципы воссоздания действительности в двух “Физиологиях Петербурга” и “Петербургском сборнике”».
6. Подготовьте рефераты «Образы русских крестьян в прозе и поэзии “натуральной школы”», «Образы городского дна в произведениях писателей “натуральной школы”», «Социально-психоло-гические типы “Физиологии Петербурга”».
7. Подготовьте реферат на тему «Влияние принципов «натуральной школы» на творчество И.С. Тургенева (или И.А. Гончарова, А.И. Герцена) 40-х годов».
8. Напишите небольшое исследование на тему «“Петербургский текст” в “натуральной школе”»; «Оппозиция “Петербург – провинция” в творчестве писателей “натуральной школы”».
9. Напишите небольшое исследование на тему «Философско-антропологическая проблематика и “поэзия мысли” в повестях и романах А.И. Герцена 40-х годов».
10. Подготовьте материал к теме «Эпоха 40-х годов в литературных воспоминаниях П.В. Анненкова и книге мемуаров А.И. Герцена “Былое и думы”».
Литература
Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1983.+
Егоров Б.Ф. Очерки по истории русской литературной критики середины XIX в. Л., 1973.* +
Жук АА. Сатира натуральной школы. Саратов, 1979.+
Кулешов В.И. «Отечественные записки» и литература 40-х гг. XIX в. М., 1959.+
Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе XIX века. М., 1965.*
Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1986. Манн Ю.В. Утверждение критического реализма. Натуральная школа. В кн.: Развитие реализма в русской литературе. М., 1972. Т. 1.*+
«Натуральная школа» и ее роль в становлении русского реализма. М., 1997.+
Цейтлин А.Г. Становление реализма в русской литературе (русский физиологический очерк). М., 1965.*
Чичерин Б.Н. Москва сороковых годов. М., 1997.*
Щукин В. Русское западничество сороковых годов XIX века как общественно-литературное явление. Краков, 1987.+
ГЛАВА 6 А.И. ГЕРЦЕН (1812-1870)
Творчество Герцена приходится на 1840—1860-е годы. Среди своих современников – писателей, составивших славу русской литературы XIX в., – Герцен занимает особое место. Его замечательный писательский талант проявился не только в его художественном творчестве, но также – ив такой же значительной степени – в его философской и политической публицистике, составляющей большую часть его литературного наследия. В России середины XIX в. Герцена знали не столько как писателя, сколько как крупного общественного деятеля и политического идеолога «левого» толка, коротко знакомого едва ли не со всеми ведущими представителями оппозиционных либеральных и революционных кругов Европы того времени. Сегодня интерес к Гер-цену-идеологу заметно угасает. Между тем, собственно художественное творчество Герцена не может быть понято в отрыве от его историософских концепций и политических идей, изложенных в многочисленных публицистических очерках, очерковых циклах, эссе и статьях, которые, в свою очередь, по энергетическому накалу и стилистическому блеску, по яркости, образности языка нисколько не уступают его художественным произведениям.
ЮНОСТЬ ГЕРЦЕНА. ПЕРВЫЕ ИДЕЙНЫЕ ВЛИЯНИЯ
Незаконнорожденный сын родовитого и богатого русского дворянина И.А. Яковлева и немки Л. Гааг (что объясняет секрет его искусственной немецкой фамилии), Герцен получил достаточно хорошее домашнее воспитание, с детства помимо русского знал немецкий и французский языки. Очень рано проявилась и политически оппозиционная настроенность Герцена, характерная для всей его последующей жизни. Он с жадностью читал запрещенные по политическим мотивам стихи Пушкина и Рылеева; в 14 лет, при известии о разгроме восстания декабристов, сразу же принял их сторону, почувствовав, по его собственному признанию, что не может быть «с той стороны», где «тюрьмы и цепи», т. е. на стороне Николая I, который с этого момента становится для него символом правительственного деспотизма. Существенную роль в формировании и поддержании этого оппозиционного угла зрения сыграло для Герцена чтение произведений Вольтера с его резкой, язвительной критикой консервативных общественных институтов и, в частности, неизменно скептическим отношением к церкви и религии. В то же время своего рода контраст к увлечению Вольтером составлял столь же рано проявившийся и также сохранившийся на всю жизнь глубокий интерес Герцена к Евангелию с его, по словам писателя, «миром и кротостью» и проповедью самоотверженной любви к ближнему.
На интеллектуальное развитие молодого Герцена оказал также влияние его двоюродный брат A.A. Яковлев, фанатически увлекавшийся химией и другими естественными науками, атеист и своеобразный философ «от науки», рассматривавший жизнь человеческого общества со всеми его высокими идеалами и культурными достижениями как различные модификации химических соединений и простейших нервных реакций организма. С целью более полного изучения естественных наук Герцен поступает на физико-математическое отделение Московского университета. В университете вокруг Герцена и его друга Н.П. Огарева складывается кружок свободомыслящей молодежи, резко критически оценивающей существующее положение вещей в России. Через год по окончании университета, в 1834 г., за распевание «пасквильных» песен, порочащих царствующую фамилию, Герцена, как политически неблагонадежного субъекта, высылают из Москвы в Пермь. Начинается первая, длившаяся до 1839 г. ссылка Герцена: Пермь – Вятка – Владимир. В эти чрезвычайно важные для его общей духовной эволюции годы он вплотную сталкивается с застойным провинциальным бытом российской глубинки и усиленно ищет путей духовно, интеллектуально и этически правильного реагирования на окружающую его прозаическую действительность, колеблясь между трезвым и вдумчивым принятием ее и страстно-бунтарским противостоянием ей. В годы ссылки по-новому расцветает начавшееся еще в университете и отчасти поддерживаемое религиозно-мистическим настроем двоюродной сестры Герцена Натали, ставшей в 1838 г. его женой, увлечение сен-симонизмом, или, по-друго-му, христианским социализмом в изложении французского мыслителя А. де Сен-Симона, идеи которого стали особенно популярны во Франции после революции 1830 г. В своем трактате «Новое христианство» (1825) и в других работах Сен-Симон выступал против деспотических структур старого феодального общества, традиционно поддерживаемого католической церковью, и попыток их реставрации в новой послереволюционной, «буржуазной» Франции, где беднейшие слои населения по-прежне-му оставались без хлеба и работы. Выход из создавшегося положения Сен-Симон видел в утверждении свободной экономики, не контролируемой извне никакой государственной властью, и через это в постепенном мирном приближении к идеалу «золотого века», неизбежный и скорый приход которого был провозглашен им в известной формуле: «Золотой век, который слепое предание относило до сих пор к прошлому, находится впереди нас». Только в будущем, полагал Сен-Симон, когда отношения между людьми будут основываться на подлинном равенстве и по-настоящему открытой, несобственнической любви друг к другу, человечество сможет достигнуть идеала, завещанного в свое время Иисусом Христом. Резко противопоставленный церкви и церковной традиции, Христос тем самым превращался в защитника и глашатая святых для Сен-Симона принципов, начертанных на знамени французской революции 1789 г.: Свободы, Равенства и Братства. Особой симпатией Герцена пользовалась также развитая учеником Сен-Симона Анфантеном и, в частности, нашедшая отражение в ряде произведений Жорж Санд, находившейся в 1830-е гг. под его сильным влиянием, идея о полном равенстве полов, требующая со стороны мужчины не господства над женщиной, а признания ее прав на свободное, независимое существование, что на языке сенсимонистов называлось «реабилитацией плоти».
Огромное впечатление произвела на Герцена публикация в 1836 г. «Философического письма» П.Я. Чаадаева в журнале «Телескоп». Убежденный западник, поклонник европейской культуры и цивилизации, Чаадаев в этом письме отказывал России в праве называться цивилизованным государством и описывал ее как страну, стоящую вне магистрального пути развития человечества. Герцена прежде всего привлекли чаадаев-ский скептицизм в отношении современной – николаевской – России и смелость, с которой мыслитель указывал на ее недостатки: отсутствие свободы, подлинных творческих достижений, умственную вялость и духовную сломленность русского человека – от интеллигента до простолюдина. Отказывал Чаадаев России и в подлинной религиозности, полагая, что настоящее христианство, а им он считал католичество, существует только в Европе, неудержимо стремящейся к установлению Царства Божия на земле, знаками которого и являются духовные и культурные достижения европейской цивилизации. Хотя мысль Чаадаева развивалась в русле консервативной религиозности, той самой, которую отвергал Сен-Симон, основанием для нее служила все та же вера в неизбежность движения человечества к высшей точке своего существования – райскому «золотому веку», предсказанному в Евангелии. Воззрения Сен-Симона и Чаадаева питали, таким образом, не только социальный критицизм Герцена, но и поддерживали в нем своеобразную религиозность, не лишенную мистического отсвета и состоящую в вере в божественное Провидение, самопроизвольно влекущее человечество в предсказанный мир совершенства и, в определенном смысле, гарантирующее его.
Сходный взгляд на историю Герцен находит и в философии Гегеля, к изучению которой приступает, по возвращении из ссылки, в 1839 г. под влиянием своих новых друзей – В.Г. Белинского, М.А. Бакунина и Т.Н. Грановского, не просто увлекавшихся философией Гегеля, но воспринимавших ее (особенно это касалось Белинского и Бакунина) как некое религиозное откровение. По Бакунину и Белинскому, божественное Провидение, на гегелевском философским языке именуемое Абсолютом, требует от человека полного и безоговорочного «примирения» с ним, в каком бы облике, пусть самом трагическом, зловещем и жестоком, оно ни выступало. На этом основании русские гегельянцы утверждали необходимость «примирения» с Николаем I и его империей. Герцену их выводы казались чудовищными, он полемизировал с ними, доказывая возможность иной, не столь консервативной трактовки гегелевской философии истории, однако что-то в позиции «примиренцев» представлялось ему если не привлекательным, то во всяком случае исторически оправданным и хотя бы поэтому заслуживающим внимания.
«ЗАПИСКИ ОДНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА»
Опыт жизни и интеллектуальные поиски Герцена 1830-х годов нашли отражение в первом его опубликованном художественном произведении – повести «Записки одного молодого человека» (1841). Первая ее часть – скрупулезно-подроб-ная и вместе лирическая автобиография Молодого человека, тонкого, впечатлительного, изощренно наблюдательного, воспитанного на Шиллере и идеальных, романтических представлениях о действительности. Вторая часть – описание патриархальных нравов города Малинова, в который героя заносит судьба, сталкивая его с подлинной, реальной действительностью русской провинции, унылой и прозаической. Соединение высокой, иногда даже патетической интонации с меткими, острыми, живыми наблюдениями над прозой жизни, изображаемой, как правило, в ироническом ключе, напоминает Гоголя, но ближе всего к Г. Гейне, в поэзии и прозе которого откровенно романтический пафос часто соседствует со столь же откровенной насмешкой над ним, его комическим выворачиванием и разоблачением. Не зная, как объединить «поэзию» идеала с «прозой» существования, Молодой человек начинает прислушиваться к позиции, высказываемой вторым главным героем повести – богатым помещиком Трензинским, живущим в Малинове, но не затронутым обывательской пошлостью, не растворившимся в ней. Трензинский полагает, что во взглядах Молодого человека слишком много умозрительной, романтической отвлеченности, не позволяющей ему увидеть действительность такой, какая она есть, принять ее и таким образом примириться с ней. Именно стремление жить умозрительными представлениями, по мнению Трензинского, мешает просвещенному, нравственному, ответственному человеку выполнять свой долг – «стараться делать maximum пользы» на том «клочке земли», который дает ему судьба. Однако философию Трензинского, при всей ее разумности и последовательно антироман-тической направленности, Герцен, несмотря на то что сам к этому времени усиленно изживает в себе остатки отвлеченной умозрительности и романтического пафоса, не считает окончательным решением проблемы, стоящей перед Молодым человеком. За героем остается право оценить позицию своего оппонента как позицию скептика, вынужденного «прилаживаться к обстоятельствам» и волей или неволей пасующего перед досадной властью «случайности».
ГЕРЦЕН В КРУГУ РУССКИХ ЗАПАДНИКОВ 1840-х ГОДОВ
В 1841 г., после перлюстрации одного письма Герцена, его вновь высылают из Москвы – на этот раз в Новгород. Вторая ссылка была много короче первой, длилась всего год, но именно в Новгороде происходит новый, очень существенный скачок в духовной эволюции Герцена. Он знакомится с книгой JI. Фейербаха «Сущность христианства», в которой находит для себя убедительные доказательства необходимости, законности и естественности атеистического взгляда на мир, к возможности которого, под влиянием общения с A.A. Яковлевым, он склонялся и прежде. Фейербах заставил Герцена усомниться не только в идее Бога и бессмертия души, но и в идее божественного Провидения, управляющего судьбами людей и народов. Теперь Герцен считает, что никто извне не гарантирует человеку возможности обретения когда-нибудь в будущем счастливого, духовно наполненного существования – Царства Божия, ни на небе, ни на земле. Человек должен со смирением признать, что он – часть слепых, хаотически-бессмысленных материальных процессов, происходящих в природе, и быть благодарным науке за то, что, открыв его трагическое положение в мире, она ставит его лицом к лицу с этой печальной истиной, разоблачая всякие попытки убежать от нее в туман метафизических грез и религиозных обольщений. Однако, по Фейербаху, далеко не все так безнадежно: поскольку, с его точки зрения, человеческая вера в Бога основана на отчуждении в умозрительное пространство духа внутренней – нравственной и доброй – силы самого человека, постольку задача последнего заключается в том, чтобы, отрекшись от веры в отвлеченную божественность, вернуть себе свое же и тем самым стать по-новому сильным, уверенным в себе существом, обладающим всеми теми достоинствами и добродетелями, всей той мощью, которые он раньше ошибочно приписывал богам. Отсюда Герцен делает вывод о том, что, лишенный верховного божественного Смысла, человек отныне может и должен сам вносить свой человеческий смысл в хаотическое «брожение» природных элементов, преобразуя и организуя их в соответствии со стоящей перед ним целью. Следовательно, высшее предназначение человека – это активное, энергичное действие, направленное на преобразование несовершенной действительности. Неспособный преодолеть смерть, человек, по крайней мере, может улучшить, усовершенствовать существующее общественное устройство, примиряться с которым он, обладающий силой и разумом, равными тем, какими в его представлении обладали боги, не имеет никакого права.
Подобную эволюцию приблизительно в это же время пережили многие современники Герцена: Н.П. Огарев, В.П. Боткин, В.Г. Белинский, М.А. Бакунин. В начале 1840-х годов Белинский и несколько позже Бакунин отрекаются от гегелевской идеи «примирения с действительностью» и провозглашают так называемый «критический субъективизм» – систему представлений, согласно которой человек, исходя из своего собственно человеческого или «субъективного» (а не сверхчеловеческого, божественного или отвлеченно-«объективного») видения, подвергает критической оценке все, с чем ему приходится сталкиваться в окружающем мире. Такая философская позиция быстро обретает ярко выраженную социально-политическую направленность. Еще в конце 1830-х яростно защищавший в споре с Герценом монархию Николая I, Белинский теперь становится столь же яростным ее противником и из стана монар-хистов-консерваторов переходит в стан западников-либералов. Вокруг Белинского в первой половине 1840-х годов складывается кружок его последователей и единомышленников, к которому примыкает и Герцен. Для всех западников круга Белинского – В.П. Боткина, Т.Н. Грановского, К.Д. Кавелина, П.В. Анненкова и других – характерно уважение к европейской культуре, как к эталону общечеловеческих духовных ценностей, и противопоставление ей России как страны, еще не достигшей уровня зрелости европейских государств ни в культурном, ни в нравственном, ни в социальном, ни в политическом отношении. Особенно беспокоила русских либеральных западников политическая отсталость России, в которой нет ни парламента, ни конституции, ни свободы слова, в которой подавляющее большинство населения – крестьянство, пребывающее в силу крепостного права в полнейшей зависимости от гос-под-помещиков и не пользующееся даже теми относительными свободами, какими пользуются крестьяне в Европе. Западники – и энергичнее всех опять-таки Белинский – проповедовали также отказ от традиционно философского, спекулятивно-метафизического мировоззрения, свойственного классической немецкой философии, во имя научного, ана-литически-эмпирического подхода к действительности, который в Европе, главным образом во Франции, активно развивали и пропагандировали ученые-естественники и философы-позитивисты О. Конт и его последователи. Параллельно шла борьба с романтическим мироощущением как неадекватным, с одной стороны, научному, с другой – обыденному, трезво-реалистическому, основанному на здравом смысле взгляду на мир. Глубоко архаической, не отвечающей запросам современного человека и романтической по духу и происхождению считали западники и историософскую доктрину своих главных оппонентов – славянофилов: A.C. Хомякова, И.В. и П.В. Киреевских, К.С. и И.С. Аксаковых, Ю.Ф. Самарина, отстаивавших самобытный, отличный от европейского путь развития России и считавших перспективной для ее духовного возрождения ориентацию на культурные образцы допетровской Руси и, в особенности, на православную веру как первое по важности условие единства и стабильности русского общества. Герцену импонировала оппозиционная настроенность славянофилов по отношению к николаевской монархии, которую они не считали органично русской. Но, как и прочих западников, их не устраивала апология традиционного религиозного мироощущения, враждебность европейской науке и нападки на разделяемый всеми западниками идеал свободомыслящей, независимой личности, которому славянофилы противопоставляли идущий из древности идеал крестьянской общины, где личность, независимость которой они приравнивали к гордости, растворяется в некоем общем коллективном начале, тем самым спасая себя от соблазнов индивидуализма. В поддержку западнической системы воззрений Герцен пишет два цикла публицистических очерков: «Дилетантизм в науке» (1843) и «Письма об изучении природы» (1845), в которых дает бой отвлеченной, оторванной от жизни философии и романтизму во всех его разновидностях и проявлениях и доказывает необходимость переключения на открытые жизни эмпирические науки и опирающуюся на них новую философию, оперирующую чисто человеческими, т. е. «земными», а не «небесными» представлениями об идеале.
Эстетическим выражением идей западников в 1840-е годы становится «натуральное», или реалистическое, направление, возглавляемое Белинским, сплотившим вокруг себя литераторов молодого поколения —
H.A. Некрасова, И.С. Тургенева, Д.В. Григоровича, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского и других, – и получившее название натуральной школы. Одной из главных задач нового направления была борьба с романтической системой ценностей как не отвечающей духу времени и современному уровню знаний о природе и человеческом обществе. Романтическим мировоззренческим установкам в произведениях натуральной школы противопоставлялась так называемая «действительность». Существовало два основных способа художественного изображения последней. Первый способ – это изображение обыденной, бытовой, повседневной действительности как некой «позитивной» ценности, достойной эстетического любования, – линия, получившая развитие в «Обыкновенной истории» (1847) Гончарова и отчасти в «Записках охотника» (1847—1852) Тургенева. Второй способ – изображение реальной действительности в ее «негативном» аспекте, когда на первый план выдвигались ее грубые, низкие стороны, призванные обличать социальное неблагополучие окружающей жизни, – линия, идущая от Гоголя, названного Белинским «отцом натуральной школы», и нашедшая наиболее яркое воплощение в сборнике «Физиология Петербурга» (включавшем остро социальные и подчеркнуто натуралистические очерки Некрасова, Григоровича, Даля о жизни представителей «городского дна»; 1845), в лирике Некрасова 1840-х годов, в повестях Григоровича «Деревня» (1846) и «Антон Горемыка» (1847) и в романе Достоевского «Бедные люди» (1846).
«КТО ВИНОВАТ?»
В 1845-1846 гг. Герцен публикует роман «Кто виноват?», написанный в новом, «натуральном» ключе и в идейном и стилевом отношениях очевидным образом примыкающий к гоголевской обличительной традиции. Последняя, однако, получает в романе резкое философское углубление: интеллектуализм и интерес к проблемам человеческого бытия в его исходных, предельных основаниях – характерные черты герценовского умственного склада – заявляют о себе в этом произведении в полный голос.
Главным объектом критики в романе становится романтическое мироощущение, понятое широко – как умозрительное знание, скрывающее от человека грубую реальность жизни и неспособное дать ему силы для противостояния ей. Типичным романтиком сентиментального, «чувствительного» типа выведен Дмитрий Круциферский – разночинец по происхождению, культурный, начитанный, обучавшийся в университете молодой человек, пытающийся строить свою жизнь по идеальным образцам, почерпнутым в поэзии Жуковского, творчество которого сыграло едва ли не определяющую роль в его воспитании. Высмеивая сентиментальный настрой Круциферского, Герцен заставляет его беспрерывно, почти по любому поводу лить слезы и прямо указывает на литературных предшественников изображаемого им типа – Вертера из романа «Страдания юного Вертера» Гете и Владимира Ленского из пушкинского «Евгения Онегина». Немаловажно и указание на то, что Круциферский наполовину, по матери, немец, чем лишний раз подчеркивается романтическая природа героя; для западников 1840-х годов и писателей «натуральной школы» все немецкое однозначно ассоциировалось с романтическим – мистическим и туманным – началом. Женившись на Любоньке, незаконнорожденной дочери помещика Негрова, Круциферский полагает, что обрел счастье, которое теперь – поскольку божественное Провидение заботливо опекает всех тех, кто, как он, чистосердечно верит в него, – будет продолжаться вечно. Но вся его наивная философия, а с нею и вера в доброе Провидение разрушаются в один миг, когда он узнает, что Любонька, по-прежнему тепло и нежно относящаяся к нему, по-настоящему любит другого человека – Владимира Бельто-ва. Столкнувшись с реальной жизнью, с ее сложными и непредсказуемыми проявлениями, Круциферский совершенно теряется, не знает, как себя вести и что предпринять, и наконец находит выход, который подсказывает ему его слабая натура: он начинает пить, чтобы уйти от мучительных жизненных противоречий.
Другой жертвой романтического в широком смысле, т. е. оторванного от жизни воспитания представлен в романе его главный герой Владимир Бельтов. Сын богатого помещика Бельтова, женившегося на гувернантке, когда-то бывшей крепостной крестьянкой, Владимир воспитывался матерью и специально нанятым ею учителем-гувернером, швейцарцем Жозефом, в полной изоляции от действительности. Мать, еще в юности столкнувшаяся, по выражению Герцена, со «злотворной материей» жизни, всеми силами старалась уберечь сына от подобного столкновения. Жозеф, развивший сильный от природы ум юноши и познакомивший его с начатками различных наук, сам был по духу чувствительным романтиком («в сорок лет без слез не умел читать» Шиллера) и, воспитывая своего питомца по системам Руссо и Песталоцци, не учитывал особых «климатологических» условий русской жизни, в которых его воспитаннику предстояло жить впоследствии. По выходе из университета Бельтов определяется на службу в министерство и, столкнувшись с рутинной, пошлой жизнью чиновничьего аппарата, довольно быстро понимает, насколько она далека от тех идеалов добра и справедливости, которые он поначалу, исполненный юношеских надежд, собирался привнести в нее. Не совладав с «чиновничьим Голиафом», Бельтов прекращает служить, пробует заняться медициной, потом ваянием, но ничем не может увлечься всерьез, разочаровывается во всякой деятельности и превращается – Герцен прямо намекает на это – в некое подобие «лишнего человека», продолжая ряд, начатый пушкинским Онегиным и лермонтовским Печориным. В соответствии с теориями философов-пози-тивистов, разделяемых так или иначе всеми писателями «натурального» направления, бездеятельность своего героя Герцен стремится объяснить не столько идейными влияниями, духом эпохи и проч., сколько материальными, социологическими причинами, или, как принято было говорить в то время, «средой», предопределяющей, как считалось, и все идейные влияния, накладывая на них свой неизгладимый отпечаток. Отсюда принципиальная важность указания на тот факт, что Бельтов, унаследовавший после смерти отца имение Белое Поле, достаточно богат, чтобы позволить себе не служить и вести праздный образ жизни.