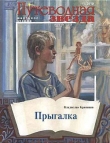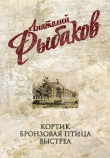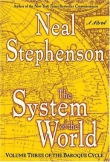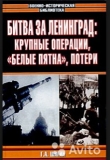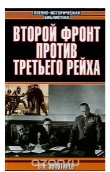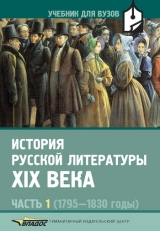
Текст книги "История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 2"
Автор книги: Екатерина Дмитриева
Соавторы: Валентин Коровин,Людмила Капитонова
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 39 страниц)
Кудри девы-чародейки,
Кудри – блеск и аромат,
Кудри – кольца, струйки, змейки,
Кудри – шелковый каскад!
Вейтесь, лейтесь, сыпьтесь дружно,
Пышно, искристо, жемчужно!
Вам не надобен алмаз:
Ваш извив неуловимый Блещет краше без прикрас,
Без перловой диадимы;
Только роза – цвет любви,
Роза – нежности эмблема —
Красит роскошью эдема Ваши мягкие струи.
Помню прелесть пирной ночи, —
Живо помню я, как вы,
Задремав, чрез ясны очи Ниспадали с головы;
В ароматной сфере бала,
При пылающих свечах,
Пышно тень от вас дрожала На груди и на плечах;
Ручка нежная бросала Вас небрежно за ушко,
Грудь у юношей пылала И металась высоко.
Тургенев впоследствии смеялся над словесными «красивостями» Бенедиктова: наездница, «гордяся усестом красивым и плотным... власте-линка над статным животным».
Во-вторых, необходимо насытить стихи ложной философичностью, прибегнуть к странному, необычно-выразительному синтаксису и к использованию слов в новом для них значении, взорвать традиционную стилистику, придумать новые слова, новые эпитеты («пирная ночь» и др.). В стихотворении «Вальс» 12 Бенедиктову ничего не стоит представить обычный танец полетом неземных существ в небесном поле среди планет и звезд, торжеством «Коперника системы» и превратить картину светского праздника в философско-демонический бал:
Вот осталась только пара,
Лишь она и он. На ней Тонкий газ – белее пара,
Он – весь облака черней.
Гений тьмы и дух эдема,
Мнится, реют в облаках,
И Коперника система Торжествует в их глазах.
Вот летят! – Смычки живее Сыплют гром; чета быстрее В новом блеске торжества Чертит молнии кругами,
И плотней сплелись крылами Неземные существа.
Тщетно хочет чернокрылый Удержать полет свой: силой Непонятною влеком,
Как над бездной океана,
Он летит в слоях тумана,
Весь обхваченный огнем.
В сфере радужного света Сквозь хаос, и огнь, и дым Мчится мрачная планета С ясным спутником своим.
Тщетно белый херувим Ищет силы иль заклятий Разломить кольцо объятий,
Грудь томится, рвется речь,
Мрут бесплодные усилья,
Над огнем открытых плеч Веют блондовые крылья,
Брызжет локонов река,
В персях места нет дыханью,
Воспаленная рука
Крепко сжата адской дланью,
А другою – горячо
Ангел, в ужасе паденья,
Держит демона круженья За железное плечо.
Здесь особенно впечатляют «блондовые крылья» неземных существ и «железное плечо» демона.
Вся поэтическая стилистика Бенедиктова свидетельствует о резком разрыве с принципами пушкинской стилистики, которые были усвоены лучшими поэтами и разделялись ими – ясностью, точностью, прозрачностью мысли и ее словесного выражения. Порывая с пушкинской поэтикой, Бенедиктов не порывал с допушкинской романтической системой. Особенность Бенедиктова состояла в том, что традиционные общеромантические стилистические штампы и образы он соединил со смелыми и удачными словосочетаниями, свежей образностью, разрывающей стертую словесную ткань. Вот пример поэтической отваги Бенедиктова:
...Конь кипучий бежит, бег и ровен и скор,
Быстрота седоку неприметна!
Тщетно хочет его опереться там взор:
Степь нагая кругом беспредметна.
То явление в русской романтической поэзии, которое подразумевается под словом «бенедиктовщина», означает не просто поэтическое безвкусие, вульгарность и пошлость, но странный сплав смелых и свежих выражений с бесцветными романтическими клише, возведенный на уровень философско-поэтического закона. При таких установках поэтически удачными могут быть только отдельные стихотворные строфы, фрагменты или строки. Бывают поэты одного стихотворения, ранний Бенедиктов – поэт отдельных строф и строк. Вот как смело и живописно он изображает и выражает романтический порыв земного к небесному, причем не только человека, что обычно в поэзии, а устремленность всей земли к небу:
Земли могучие восстанья,
Побеги праха в небеса!
Здесь с грустной цепи тяготенья Земная масса сорвалась... <...>
Рванулась выше... но открыла Немую вечность впереди.
Тут земля трудно «сорвалась» с «цепи тяготенья» и, казалось, устремилась вниз, в пропасть, но она «рванулась», поднялась, взлетела в небо и трагически узрела там «немую вечность». Так Бенедиктов представил себе горы в стихотворении «Горные выси».
Итак, в поэзии Бенедиктова, не находящейся «под строгим контролем вкуса», есть и пустая красивость, и вульгарность, и пошлость, но есть в ней и свежесть, и смелость. Как ни странно, в безвкусии Бенедиктова, в разрыве со «стилевым кодексом» эпохи – источник неожиданных открытий и даже прозрений поэта. Стихами Бенедиктова русская поэзия робко и не без ошибок нащупывала новые пути (назывное перечисление, философскую «отстраненность» образа, ритмические ходы), опробованные затем Б. Пастернаком, Н. Заболоцким, А. Ахматовой. В этом таится необычность судьбы Бенедиктова, которого одни считали непризнанным гением, другие презрительно именовали «чиновником-поэтом». Пожалуй, правда состоит в том, что чиновник, наделенный талантом, захотел стать поэтом, а одаренный поэт остался чиновником.
А. И. Полежаев (1804-1838)
Среди поэтов конца 1820—1830-х годов А. Полежаев выделялся своей несчастной и трагической судьбой, которая не щадила поэта с дней рожденья. Он был незаконнорожденным сыном, обвинен по доносу в нарушении норм общественной нравственности, сослан в качестве унтер-офице-ра Бутырского пехотного полка, разжалован в солдаты, лишен дворянского звания «без выслуги», страдал чахоткой и в 33 года умер.
Полежаев начал писать в конце 1820-х годов. Его стихи были отчетливо ориентированы на пушкинский принцип стилистической свободы и отличались резким смыслом, энергичным ритмом и злободневностью. Он часто отдавался во власть игровой ритмической стихии. Он умел в быстром темпе развертывать тему и мчать стих в едином порыве от начала до конца. Интонация быстрого и страстного речения передавалась им с помощью коротких строк. Это позволяло избегать многословия, точно нацеливало мысль и заостряло ее:
Я умру! На позор палачам Беззащитное тело отдам!
Но, как дуб вековой,
Неподвижный от стрел,
Я, недвижим и смел,
Встречу миг роковой!
В отдельных стихотворениях («Сарафанчик») Полежаев пытался обратиться к народной образности.
А. В. Кольцов (1809-1842)
Многие русские поэты, обрабатывая русский фольклор, сочинили замечательные песни и романсы, создали в народном духе целые поэмы и сказки (например, «Конек-Горбунок» П.П. Ершова). Но ни для кого из них фольклор в такой степени не был своим, как для А. Кольцова, который жил в народной среде и мыслил сообразно вековым народным представлениям. Своим талантом Кольцов привлек к себе внимание сначала провинциальных воронежских литераторов и меценатов, затем и столичных – Н.В. Станкевича, Жуковского, Вяземского и в особенности Белинского. Познакомился Кольцов и с Пушкиным.
Одна из центральных проблем русской литературы XIX в. – разъединенность дворянской и народной культур, разрыв между жизнью народа и жизнью образованного сословия. В творчестве Кольцова в известной мере этот разрыв оказался преодоленным, поскольку поэт соединял в своей поэзии достоинства фольклора и профессиональной литературы. И до Кольцова были крестьянские поэты, но их поэзия либо имитировала народную поэзию, либо грешила чисто декоративной, по словам Белинского, народностью. И до Кольцова были профессиональные или полупрофессиональные литераторы из дворян, которые обращались к жанру народной песни (Ю.А. Нелединский-Мелецкий, В.А. Жуковский, К.Ф. Рылеев, A.A. Дельвиг и др.), но и они не могли достигнуть той степени органичности и легкости слияния с народным творчеством, какая свойственна песням Кольцова.
Секрет народной подлинности поэзии Кольцова, видимо, заключается в том, что и эпическая, и лирическая народная поэзия были общенародны. В них народ выражал не индивидуальные чувства, а общие. Иначе говоря, если народ пел о любовных страданиях, то эти страдания представали не в их особенных, индивидуальных проявлениях, принадлежащих только этому певцу-исполнителю, а в общих, свойственных всем – и тем безымянным авторам, кто песни сочинял, и тем, кто их пел, и тем, кто их слушал. Это своеобразие народного поэтического мира прекрасно понял Пушкин: в «Борисе Годунове» дочь Бориса царевна Ксения тоскует о своем умершем женихе в истинно народном духе, пользуясь общими со всем народом формами выражения чувств, воплощенными в фольклоре, тогда как Марина Мнишек выражает свою любовь формами литературной поэзии, стремясь резко индивидуализировать, личностно обозначить владеющее ею чувство. В народных песнях Кольцова перед читателем встает не конкретный (индивидуализированный) крестьянин – Иванов, Петров, Сидоров, а крестьянин вообще. И поет Кольцов не о каких-то особых заботах, бедах и радостях крестьянина, как Некрасов, в поэзии которого у разных крестьян – разные судьбы и разные печали, но общих, общекрестьянских и общенародных. Поэтому и содержание поэзии Кольцова, и форма были органично связаны с народным творчеством. Ему не надо было ни подделываться под народное миросозерцание, ни приподнимать его. Крестьянин у Кольцова в полном соответствии с народным укладом, окружен природой, и его жизнь определена природным календарем, природным расписанием и распорядком. Природному циклу подчинена вся трудовая жизнь крестьянина («Песня пахаря», «Урожай»). Как только крестьянин выпадает из природного цикла, утрачивает власть этого своеобразного «крестьянского пантеизма», он сразу чувствует тревогу, угрозу и страх, предвещающий смерть («Что ты спишь, мужичок?»). Если крестьянин живет в единстве с природой, с историей и со своим «родом-племенем», то ощущает себя богатырем, чувствует в себе силы необъятные. По-народ-ному герой Кольцова понимает и превратности судьбы: он умеет быть счастливым в счастье и терпеливым в несчастье (две песни Лихача Кудрявича).
Отход Кольцова от народного миросозерцания и попытки вступить в область профессиональной литературы, т.е. писать такие же стихи, как и образованные литераторы-дворяне, ни к чему хорошему не привел. Его усилия создать стихотворения в духе философских элегий и дум, перелить в стихи свои философские размышления окончились неудачей. Стихотворения эти были наивными, поэтически слабыми, и их художественное значение ничтожно.
В той же сфере, где Кольцов органичен, он оказал значительное влияние на русскую поэзию, причем не только на поэтов, родственных ему по темам и мироощущению, но и на таких утонченно-интеллектуальных лириков, как А. Фет.
Итак, русская поэзия в 1810-1830-х годах прошла сложный и трудный путь от классицизма и сентиментализма к романтизму, сначала к «школе гармонической точности», затем усвоив пушкинскую романтическую поэтику. Русская поэзия осталась в пределах романтизма, тогда как Пушкин двинулся дальше. На путях романтизма возникли такие поэтические тенденции, которые, с
одной стороны, отвергали принципы пушкинской поэзии, а с другой – предваряли появление романтизма Лермонтова и даже поэзии 1850-х годов.
Основные понятия
Романтизм, философская поэзия, натурфилософия, шеллингиан-ство, элегия, послание, песня, сонет, идиллия, романс, гражданская ода, философская ода, пантеизм, эпигонство, вульгаризация поэтических тем, стилей, жанров.
Вопросы и задания
1. Литературная маска Дениса Давыдова.
2. Дайте анализ батальной лирики на примере одного-двух стихотворений.
3. Преобразование любовной элегии.
4. Хронологические и художественные границы «пушкинской поры».
5. Как различаются понятия «пушкинская плеяда», «поэты пушкинской поры», «поэты пушкинского круга» и др.?
6. Какова жанровая система поэзии Вяземского?
7. В чем состоят поэтические искания Вяземского?
8. Расскажите о наиболее характерных признаках идиллий Дельвига.
9. Какие жанры культивировал Дельвиг и в чем их особенности?
10. В чем заключалось поэтическое новаторство Языкова?
11. Как преобразовался в лирике Языкова жанровый канон романтической элегии?
12. Расскажите о трансформации оды.
13. Расскажите об истории создания и деятельности Общества любомудров.
14. Кто входил в общество любомудров? Какие цели оно перед собой ставило?
15. Основание журнала «Московский вестник». Пушкин и «Московский вестник».
16. Требование содержания в поэзии и протест против сглаженности поэтических образов и инерции стиховых форм.
17. Натурфилософия Шеллинга и литературная программа любомудров.
18. Каковы особенности трактовки традиционных тем в лирике Веневитинова? Преобразование элегии.
19. Как отразилась пантеистическая философия в стихотворениях Хомякова?
20. Одическое начало в лирике Хомякова.
21. Проблема Востока и Запада в поэзии Хомякова.
22. Эстетический уклон лирики Шевырева. Тема красоты, высшего назначения слова, ночных откровений.
23. Цикл стихов об Италии и его значение.
24. Литературно-эстетические взгляды Шевырева и их выражение в лирике. Проанализируйте послание к А.С.Пушкину с точки зрения провозглашения программных требований к искусству слова.
25. В чем своеобразие поэзии Бенедиктова? Приведите примеры, показывающие силу и слабость поэтического выражения в лирике Бенедиктова.
26. Особенности творчества Козлова. Сравните поэму Козлова «Чернец» с «южными» поэмами Пушкина и с романтическими поэмами Лермонтова. В чем заключается своеобразие конфликта в этой поэме?
27. Кратко расскажите о творчестве второстепенных поэтов 1820—1830-х годов.
28. Каковы особенности лирики Кольцова?
Литература
Вацуро В.Э. Денис Давыдов – поэт. В кн.: Денис Давыдов. Стихотворения. Л., 1984.*
Вацуро В.Э., Гиллелъсон М.И. Сквозь «умственные плотины». М., 1986.
Гиллелъсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969.* Гинзбург Л.Я. Русская поэзия 1820-1830-х годов. В кн.: Поэты 1820 – 1830-х годов. Т. 1. Л., 1972.*
Гинзбург Л. Опыт философской лирики. В кн.: Л. Гинзбург. О старом и новом. Статьи и очерки. Л., 1982.*+
Гликман ИД. И.И. Козлов. В кн.: И.И. Козлов. Полное собрание стихотворений. Л., 1960.
Каменский ЗА. Московский кружок любомудров. М., 1980. Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979.*+ Киселев-Сергенин B.C. Романтическая поэзия 20-30-х гг. В кн.: История русской поэзии. Т. 1. Л., 1968.*
Кулешов В.И. Литературные взгляды и творчество славянофилов. М., 1978.
Кулешов В.И. Славянофилы и русская литература. М., 1976. Лопгман Ю.М. Вяземский и движение декабристов. В кн.: Ученые записки Тартуского университета, вып. 98 (Труды по русской и славянской филологии. III), 1960.
Маймин ЕЛ. Хомяков как поэт. В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1968.
Маймин ЕЛ. Русская философская поэзия. М., 1976.*
Манн Ю.В. Русская философская эстетика. М., 1969.*
Манн Ю.В. В кружке Станкевича. М., 1983.
Машинский С.И. Поэты кружка Станкевича. В кн.: Поэты кружка Н.В. Станкевича. JL, 1964.
Мордовченко Н.И. П.А. Вяземский. Русская критика первой четверти XIX века. M.-JL, 1959.*+
Рассадин С.Б. Спутники. М., 1983.
Рождественский ВсЛ. В созвездии Пушкина. М., 1972.
Русский романтизм. JL, 1978.*+
Сахаров В.И. Под сенью дружных муз. М., 1984.
«Северные цветы на 1832 года». М., 1980.
Скатов H.H. Поэзия Алексея Кольцова. JL, 1977.
Тоддес ЕЛ. О мировоззрении Вяземского после 1825. В кн.: Ученые записки Латвийского университета. Т. 215. 1974.*
Томашевский Б.В. A.A. Дельвиг. В кн.: A.A. Дельвиг. Полное собрание стихотворений. Л. («Библиотека поэта». Большая серия), 1959.*
ГЛАВА 2 ПРОЗА В ЭПОХУ РОМАНТИЗМА
Основным жанром русской прозы в первой трети XIX в. была романтическая повесть, продолжившая и обновившая традиции русской авторской повести, возникшей во второй половине XVIII в., когда пик классицизма был уже позади, и в литературе наметились новые художественные тенденции. Тогда в жанре повести происходило смешение стилевых особенностей и поэтических принципов, восходивших как к античной классике, так и к европейским литературным направлениям, сменившим классицизм.
В начале 1790-х – 1800-х годов со своими повестями выступает Н.М. Карамзин – один из основоположников жанра русской повести («Фрол Силин», «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Остров Борнгольм», «Марфа Посадница»). На несколько десятилетий карамзинское сентиментальное, «чувствительное» направление становится господствующим в жанре повести. Одна за другой выходят повести-подражания «Бедной Лизе» Карамзина («Бедная Маша» А. Измайлова, «Обольщенная Генриетта» И. Свечинского, «Инна» Г. Каменева и др.). В это же время появляются «Бедный Леандр» Н. Брусилова, «Ростовское озеро» В. Измайлова с изображением крестьянской идиллии, «Российский Вертер, полусправед-ливая повесть; оригинальное сочинение М. Сушкова, молодого чувствительного человека, самопроизвольно прекратившего свою жизнь». Под влиянием Карамзина создает некоторые повести В.Т. Нарежный («Рог-вольд», цикл «Славенские вечера» и близкие к нему повести «Игорь», «Любослав», «Александр»).
Учеником Карамзина выступает в прозе и Жуковский, который, продолжая развивать принципы сентиментализма, вносит в повесть новые – романтические мотивы («Марьина роща», 1809). Если сравнить повесть Карамзина «Бедная Лиза» и повесть Жуковского «Марьина роща», то легко убедиться, что Жуковский отступает от канонов сентиментализма в пользу романтических веяний.
Отодвигая действие на тридцать и на тысячу лет, оба писателя освобождают себя от исторической достоверности. Карамзин все же упоминает о рыбачьих лодках, снабжающих «алчную Москву хлебом», привозимым из «плодоноснейших стран Российской империи». На месте действия героев Жуковского еще нет «ни Кремля, ни Москвы, ни Российской империи». По-видимому, некоторая абстрактность исторической перспективы является принципиальным признаком романтической повести.
Русские имена героинь – Лиза и Мария – сближают сходные сюжетные мотивы обеих повестей, для которых характерен пафос чувствительности и таинственности, поддерживаемый соответствующей лексикой. У Карамзина он выше, чем у Жуковского. Стиль Карамзина пестрит эпитетами и выражениями типа: «приятный», «унылый», «светлый», «бледный», «томный», «трепещет сердце», «страшно воет ветер», «ручьи слез», «страстная дружба» и т.д. Чувства героев выражаются «не столько словами, сколько взорами». На месте действия гуляют пастушьи стада и раздаются звуки свирели. В «Марьиной роще» Жуковского также есть ручьи слез, благоухающие дубравы, но они встречаются реже. Пафос сентиментальности сменяется мистикой, фантастическими образами и религиозными мотивами. Если в «Бедной Лизе» упомянуты лишь «развалины гробных камней» монастыря, то в «Марьиной роще» читателя ожидает «ужас» привидений и призраков, таинственные могильные «стенания».
В отличие от повести Карамзина в «Марьиной роще» есть еще одна сюжетная линия, связанная с образом живущего в хижине «смиренного отшельника» Аркадия, замаливающего грехи вдали от людей. Под влиянием отшельника после его смерти Услад посвящает «остаток» своей жизни «служению гробу Марии» и «служению Богу» в хижине Аркадия. «Божие проклятие» настигает «вертеп злодейств» – терем Рогдая, от которого остались лишь голые стены, где слышно зловещее завывание филина. С образом народного певца Услада в повесть Жуковского входит фольклор.
Фольклорность, религиозные мотивы, мистическая фантастика в дальнейшем становятся существенными признаками романтической повести в ее классическом варианте.
Русская повесть первых десятилетий XIX в., испытывавшая воздействие Карамзина и Жуковского, отличалась значительным разнообразием по тематике и стилю. Если в таких повестях, как «Невидимка, или Таинственная женщина» В. Измайлова, при всей внешней чувствительности утрачивается социально-психологический подтекст, то в повестях В. На-режного он усиливается. В первых романтических повестях писатели сосредоточивают внимание на социально-бытовом и историческом аспектах.
Историческая тематика, развитая в повестях Карамзина («Марфа Посадница») и Жуковского («Вадим Новгородский»), представлена в повести К.Н. Батюшкова «Предслава и Добрыня» из времен киевского князя Владимира. Несмотря на подзаголовок («Старинная повесть»), любовь богатыря Добрыни и киевской княжны Пред славы, образ надменного Ратмира, соперника Добрыни, и весь сюжет целиком вымышлены. Исторические повести писали и декабристы (A.A. Бестужев-Марлинский,
В.К. Кюхельбекер и др.). В их сочинениях выделялись повести на «русские», «ливонские», «кавказские» и иные сюжеты.
В дальнейшем в русской повести действительность стала рассматриваться и в других аспектах – фантастическом, «светском». Особую разновидность образовали повести об искусстве и художниках (повести о «гении»). Таким образом, в ходе развития русской романтической прозы создались четыре самостоятельных жанровых варианта – историческая, светская, фантастическая, бытовая повести.
ЖАНРОВАЯ ТИПОЛОГИЯ РУССКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ
За основу жанровой типологии малой романтической прозы в отечественном литературоведении традиционно принято брать тематическую классификацию. Тема (историческая, фантастическая, светская, бытовая, искусство и художник) в данном случае рассматривается как ведущий признак только при учете общей романтической природы повестей. Она же, в свою очередь, тесно связана с лироэпическими жанрами романтической литературы – думой, балладой, поэмой. Это вполне естественно, если вспомнить, что для литературного процесса 1830-х годов характерно доминирование поэтических жанров. Проза в этих условиях, при неразвитости ее собственной жанровой системы, была вынуждена ориентироваться на поэзию. Многие авторы повестей переносили в прозу свой собственный поэтический опыт.
На историческую повесть декабристов, например, очевидное воздействие оказал жанр думы Рылеева. Принципы историзма, разработанные Рылеевым, несомненно, были учтены в исторических повестях А. Бестужева. К ним относятся:
• историческая личность, наделенная чертами исключительности, чей внутренний мир предельно сближен с авторским;
• исторические аллюзии в обрисовке нравов прошлого, которое призвано «намекнуть» читателю на современность;
• лиризация авторского повествования, сближение исповедальной манеры речи автора и главного героя;
• приемы психологизма (портрет, пейзаж), пришедшие в историческую повесть из арсенала элегического романтизма и др.
Первые шаги русской фантастической повести, безусловно, не смогли бы состояться, не имей отечественная поэзия к тому времени за плечами богатейший опыт романтической баллады. Именно в ней была разработана эстетика «чудесного» и композиционно-стилевые формы ее выражения, которые и «позаимствовала» фантастическая повесть А. Погорельского и В. Одоевского. К ним относятся:
• ощущение главным героем жизни на ее отлете от всего обыденного;
• странные формы поведения главного героя, призванные подчеркнуть иррациональность его внутреннего мира;
• столкновение героя лицом к лицу с миром потусторонним, подготовленное всем ходом его «земной» жизни;
• крайне противоречивое переживание этого контакта с иным миром, с инобытием, в процессе которого внутренняя свобода героя вступает в неразрешимый, как правило, конфликт с окружающими его условиями внешней несвободы (среда, кодекс общепринятых приличий, давление родственников и т.п.);
• гибель героя, неспособного разрешить (прежде всего в себе самом) конфликт между «конечным» и «бесконечным», «плотью» и «духом».
В жанре фантастической повести опять-таки заметно довольно сильное воздействие лирического стиля на форму авторского повествования, начиная с лексики и заканчивая эмоционально-ассоциативными приемами организации сюжета.
Светская повесть как жанр вряд ли бы состоялась, если бы ко времени появления первых опытов в этом роде не было поэм Баратынского «Эда» и «Бал», перенесших на почву светского быта структуру конфликта романтической поэмы. В соответствии с этой традицией основным сюжетообразующим конфликтом светских повестей А. Бестужева-Марлинского, В. Одоевского, М. Лермонтова, Н. Павлова является любовный: свободное чувство главных героев сталкивается с косным общественным мнением «света». Сами элементы сюжета светской повести получают тесную привязку к наиболее характерным формам светского быта. Завязка конфликта часто происходит на балу, маскараде или во время театрального разъезда (изображение «массовых» сцен светской жизни характерно для нравоописательной установки повестей). Развитие действия нередко связано с мотивом светской молвы, пересудов, сплетен, вообще с обостренным вниманием авторов повестей и к аномальным формам социальной психологии. Кульминация и развязка конфликта происходят, как правило, во время дуэли, что выдвигает ее на первый план в структуре конфликта. Это та точка, в которой частный, любовный конфликт трансформируется в конфликт общественный
и, следовательно, утрачивает свою локальную природу. В результате светская повесть ввела в свой «оборот» и основательно разработала множество новых общественных типов, которые ранее были представлены, в основном, в жанре «легкой» светской комедии. Среди них – амплуа главных героев-любовников и обманутого мужа; амплуа светских клеветников и завистников; амплуа героев-дуэлянтов и бретеров. Авторы светских повестей смогли значительно углубить психологический анализ этих комедийных типов, превратить «амплуа» в довольно сложный и противоречивый тип общественной психологии. Особенно это касается разработки женских типов: героини как жертвы светской молвы; героини, открыто бросающей вызов светским условностям; героини как законодательницы светского мнения; роковой красавицы, ловко плетущей светские интриги, и др.
Бытовая повесть получает значительно меньшее развитие в русской прозе начала XIX в., чем остальные жанры. Это объясняется тем, что она связана прежде всего с бытописанием, с изображением быта, характерным для справедливых и полусправедливых повестей, для нравоописательной прозы, а также для басни. Но так как быт может быть разным, например светским, то под бытовой повестью обычно понимают ту, в которой повествование касается низших сословий общества – крестьян, солдат, разночинцев, мещан, купцов и пр. В остальных случаях изображение быта изучается в качестве его функций в романтической прозе. Тем не менее, бытовая повесть обладает рядом структурных особенностей, к которым относятся:
• столкновение «простого» человека из низших слоев общества с человеком (или средой) более высокого социального статуса: противопоставление патриархального мира цивилизованному;
• при этом патриархальный мир оценивается положительно, а цивилизованный – отрицательно;
• герой, как правило, терпит личное крушение в семье, в своем стремлении к знаниям, в искусстве.
Стиль бытовой повести нередко дидактичен.
Особую разновидность представляют романтические повести «о гении», о художниках, музыкантах, писателях и т.д. Их особенности:
• в центре – наделенный талантом («гением») художник;
• его талант сродни безумию или граничит с безумием;
• поэтому художник для обыкновенных людей всегда личность исключительная и непременно «странная»;
• нередко автору видится в нем идеал личности, хотя судьбы «гениев-безумцев» могут сложиться по-разному.
Сюжеты и мотивы романтических повестей не были замкнутыми и включались в разные жанры. Структурные и стилевые признаки повестей смешивались, создавая многообразную картину русской романтической прозы.
Романтическая повесть активно перерабатывала сюжетно-композиционные элементы, восходящие к разным литературным жанрам. Но перерабатывала творчески, наполняя их новым содержанием, создавая более дифференцированную в историческом, философском, общественно-бытовом смысле галерею образов – героев и персонажей. Именно поэтому тема в каждой новой разновидности повести и может считаться жанрообразующим признаком. Она «погружала» традиционные жанровые компоненты в новый материал действительности, в результате чего они вступали между собой в новые системные связи и отношения, порождая новое качество смысла.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
Начало XIX в. в России стало временем пробуждения всеобъемлющего интереса к истории. Этот интерес явился прямым следствием мощного подъема национального и гражданского самосознания русского общества, вызванного войнами с Наполеоном и особенно войной 1812 г. По выражению историка А.Г. Тартаковского, 1812 год – «эпическая пора русской истории». В ту пору в России пробудилось чувство общности национальной жизни, единения перед лицом смертельной опасности множества людей самых разных состояний 13 .
Небывалый общенациональный патриотический порыв открыл сильный, героический характер русского народа, его свободолюбивые настроения, сознание глубокой связи с Родом, Семьей, Домом, чувство долга перед Отечеством. Стремление понять русского человека, народный подвиг в войне 1812 года явилось благодатной почвой для обращения к героическому прошлому народа, истокам национального духа и национального бытия.
Неоценимую роль в этом процессе сыграла «История государства Российского» Н.М. Карамзина. Ее появление способствовало зарождению исторического сознания, оживлению теоретической мысли, открыло неведомые страницы прошлого России, возбудило историческую любознательность, которая с наибольшей силой и глубиной отразилась в художественной литературе, черпавшей из «Истории...» Карамзина сюжеты и образы. Не меньшую роль сыграла «История...» для формирования метода историзма, который отныне становится качеством художественного мышления, устремленного к переживанию и постижению «старины глубокой», к образному воссозданию духа истории, ее полноты, единства, смысла. Романтическая повесть начала трудный путь усвоения исторического мышления с интереса к древнему периоду национальной истории.
«ПРЕДРОМАНТИЧЕСКАЯ» ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ. «СЛАВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА» В.Т. НАРЕЖНОГО
В национальном прошлом, связанном с легендарными временами, авторы предромантических исторических повестей стремятся обрести то, что навсегда было утрачено современным миром. Писателей волновало особое, героическое время, которое воспринималось ими, с одной стороны, в качестве противоположного безгеройности, заземленности, будничности сегодняшнего времени, с другой – как эпоха «настоящих людей», воплощающих чувство эпической связи с миром: сопричастности личности с человеческой общиной (Е.М. Ме-летинский). Этот своеобразный подход к историческому материалу наиболее полно воплотился в цикле «Славенские вечера» В.Т. Нарежного (первая часть – 1809 г.).
Здесь же ярко проявился характерный для этого времени поэтический тип исторического повествования, отразивший свойственное началу века условное (чувствительное, романтизированное) изображение прошлого, навеянное ароматом старины и исполненное высокой поэзии («Предслава и Добры-ня» К. Батюшкова, «Марьинароща», «ВадимНовгородский» В. Жуковского, «Оскольд» М. Муравьева, «Ермак, завоеватель Сибири» Ив. Буйницкого и др.). Вместе с тем «Вечера» Нареж-ного не обойдены и дидактическим элементом, также свойственным предромантической исторической повести и обусловившим присутствие в ней прозаического типа исторического повествования, маркированного ориентацией на фактологическую точность, с опорой на летописные и исторические материалы и стремлением к нравоучительному эффекту («Русские исторические и нравоучительные повести», «Образец любви и верности супружеской, или бедствия и добродетели Наталии Борисовны Долгорукой» С. Глинки и др.).