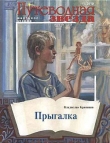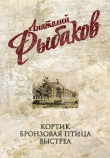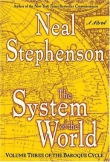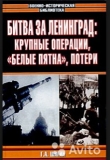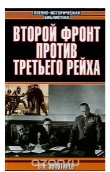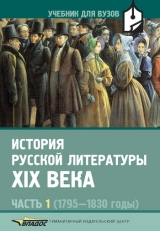
Текст книги "История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 2"
Автор книги: Екатерина Дмитриева
Соавторы: Валентин Коровин,Людмила Капитонова
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 39 страниц)
Все это нашло отражение в романе. Его главный герой – Евгений Базаров – характерный представитель разночинной идеологии рубежа 1850-1860 гг. (резкостью своих суждений, а также рядом внешних примет – высокий рост, бакенбарды – напоминающий Добролюбова). Его идейными противниками в романе, в соответствии с реальной раскладкой исторических сил, выведены либеральные дворяне – братья Павел и Николай Кирсановы. Причем если Николай Кирсанов, подобно Тургеневу, пытается наладить контакт и найти общий язык с молодым разночинцем, то его брат Павел, в котором живы аристократические сословные предрассудки, сразу занимает позицию обороны и нападения. Для Базарова же они, прежде всего, баре и «феодалы», быт, образ жизни и культура которых, отравленные «праздностью», подлежат полному и безоговорочному отрицанию. Отсюда название его идеологической позиции – «нигилизм». По Тургеневу, в антидворянской установке Базарова есть своя, очень существенная правда. Аристократическая надменность, или барская спесь, – вот основная психологическая черта людей старого иерархического общества, где «высшие» подавляют «низших», – черта, остро улавливаемая Базаровым с его разночинным, «плебейским» происхождением. Правоту Базарова, обличающего «барские» привычки дворян, признают и молодая богатая помещица Анна Одинцова, которой увлекается Базаров, и его главный враг Павел Кирсанов, в конце романа разрешающий своему брату Николаю жениться на «неровне» – мещанке Фенечке. Однако другие стороны базаровского «нигилизма» Тургенев решительно не принимает. Его не устраивает ни социальный радикализм Базарова, в котором он видит угрозу европейским нормам цивилизованного существования, ни его – и это, пожалуй, главное, за что автор упрекает своего героя, – агрес-сивно-разоблачительное отношение к духовным и эстетическим ценностям, выработанным культурой не одного «праздного» дворянского сословия, но и всего человечества. По своим взглядам Базаров, медик по профессии, – убежденный «позитивист», сторонник эмпирической науки, с точки зрения которой все, что не проверено опытом и не имеет опоры в материальных, физических процессах, включая сюда религию, традиционную философию и искусство, признается «пустыми» формами человеческого сознания, не нужными для практической жизни. Для Базарова все, что имеет хотя бы отдаленное отношение к «духовному» и «возвышенному», определяется бранным в его устах словом «романтизм». «Романтизмом» объявляются вся поэзия (если Чернышевский и Добролюбов недолюбливали Пушкина, то тургеневский герой испытывает к этому имени чувство, близкое к ненависти), музыка, живопись («Рафаэль гроша медного не стоит»), преклонение перед природой и восхищение ее красотой и, наконец, любовь, если она понимается как «высокое» чувство, не сводимое к физиологическим переживаниям. Конечно, Базаров не просто разночинец и не просто «позитивист». За этими социальными и идеологическими масками скрывается не кто иной, как былой тургеневский кумир – новый «необыкновенный» человек, возвышающийся над обычными людьми с их рабской привязанностью к условным моральным нормам, образ, который то возвеличивался писателем в виде цельной личности Андрея Колосова и его подобий от Павлуши из «Бежина луга» до Инсарова, то развенчивался как мрачный, холодный и внутренне разорванный байронический герой, окутанный демонической дымкой. Поскольку в образе Базарова и тот, и другой психологический тип оказываются слиты воедино, постольку за героем, несущим какую-то новую правду, нужную людям, порабощенным традиционным укладом жизни и бессильным преобразить или отринуть его, все время проглядывает зловещая фигура демонического отрицателя, ищущего разрушения ради разрушения и отвергающего все духовное, потому что оно предполагает покорность Высшему Началу, как бы оно ни называлось – Богом, Судьбой или Мировой Волей. Таким образом устанавливается принципиальная общность двух типов, прежде представлявшихся Тургеневу противоположными: то, что Андрей Колосов как цельная личность противостоит байроническому герою как личности «разорванной», не отменяет того, что в них обоих присутствует сильное эгоцентрическое начало – фиксация на своем «я» как на основополагающей ценности. Именно эту черту в личности Базарова отмечает в романе его друг Аркадий, сын Николая Кирсанова, называя ее – в момент, когда уже начинает охладевать к так увлекавшим его прежде идеям «нигилизма», – «бездной базаровско-го самолюбия». За охлаждением Аркадия к своему другу стоит охлаждение самого Тургенева к подобного типа личности – личности новейшего образца, не боящейся бросить вызов Судьбе, от века предопределившей ход человеческого, в том числе исторического, существования. Все попытки Базарова, называющего себя «гигантом», встать, опираясь исключительно на силу своего «я», над маленькими радостями и горестями обыкновенных людей заканчиваются крахом. Сила Судьбы и сила Традиции оказываются сильнее бунтаря-одиночки. Если героям с «восточными» душами и героям, сознательно выбравшим аскетический долг, удается ценой отказа от своего «я» спасти себя, то Базаров гибнет. Его смерть от случайного заражения, так же как и смерть Инсарова от чахотки, есть реалистичес-ки-бытовое проявление мистического возмездия Мировой Воли, причем орудием возмездия, как и в повестях, становится любовь. Отрицание Базаровым любви как стихии, порабощающей человека, внешне напоминает отвержение ее людьми долга. Как и для них, для него человек, «поставивший всю свою жизнь на карту женской любви», как отзывается он о Павле Кирсанове, долгие годы после смерти своей «роковой» возлюбленной Нелли Р. продолжающем мечтать о ней и поэтизировать ее образ, – проявляет постыдную слабость. Но если те боролись с любовью, отрекаясь от себя и принося жертву, то Базаров борется с ней, ничем не жертвуя, а, наоборот, все больше замыкаясь в своем эгоцентризме. Поэтому он не только не спасается от любви, но сам становится ее жертвой. Он попадает в ловушку любви, разрушающей все его «нигилистические» теории. Презиравший дворянский аристократизм и «барство», женскую красоту и «романтическую» поэтизацию любовного чувства, он неожиданно для самого себя, одновременно возвышенно и страстно, влюбляется в Одинцову – богачку, аристократку и к тому же обворожительно красивую женщину. Отказ Одинцовой ответить на его чувства болезненно ударяет по базаровской гордости, и в какие-то моменты он, к своему ужасу, видит себя ничтожной частицей огромного мироздания, законов которого ему – такому же смертному созданию, как и все остальные люди, – все равно не удастся преодолеть. «...Попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста!» – восклицает Базаров, ясно понимая, что болезнь его прогрессирует и конец неотвратим. Признание, пусть и подневольное, своей ограниченности пробивает брешь в базаровс-ком эгоцентризме, и перед смертью он несколько смягчается. Нежность, граничащая со смирением, слышится в его последних (и, что немаловажно, по стилю близких «красивой» дворянской речи) словах, обращенных им к Одинцовой, приехавшей проститься с умирающим: «Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет». То, что должен был, но до конца так и не смог понять Базаров, договаривает за него автор в проникновенном лирическом пассаже, завершающем роман и дающем ключ к пониманию финальной сцены, изображающей престарелых родителей Базарова, плачущих на могиле сына. В этом эпизоде поставлены в связь слезное обращение базаров-ских родителей к Богу как Высшей Силе, управляющей всем существующим, и навеваемая прекрасной в своей умиротворенности природой, осеняющей могилу Базарова, мысль о «вечном примирении и о жизни бесконечной». Высший покой нисходит на тех, кто отказался от бунта и сопротивления, как в социальном, так и в более высоком – метафизическом смысле, – такова главная идея финала, в которой шопенгауэровская философия отречения поворачивается, в отличие от финалов предыдущих романов, не столько своей пессимистической, сколько просветляюще-примиряющей стороной. Здесь очевидно влияние гармонического, уравновешивающего крайности пушкинского взгляда на вещи. От Пушкина идет и пронизывающая весь роман атмосфера приятия и благословения вечного круговорота жизни, где победителем оказывается не тот, кто вырывается из него, а тот, кто легко и радостно подчиняется ему и живет в одном с ним ритме. Из этого «пушкинского» круговорота в «Отцах и детях» явно выпадают, помимо Базарова, такие психологически родственные ему герои, как Павел Кирсанов и Одинцова. Все они по-своему горды, самолюбивы и в силу этого не мягки и не открыты миру, что проявляется, в частности, в их общей нечувствительности к красоте природы и искусства. Противостоят же им мягкие, кроткие, не мудрствующие лукаво герои, не любящие и не умеющие конфликтовать с жизнью как таковой и, как правило, одаренные эстетическим чувством и живо реагирующие на красоту окружающего мира. В противоположность первым, героям-оди-ночкам, последние объединены писателем в семейные пары – это родители Базарова, Николай Кирсанов и Фенечка, Аркадий и Катя, младшая сестра Одинцовой. Три счастливые семейные пары, относящиеся, соответственно, к старшему, среднему и младшему поколению, символически выражают идею мирного течения жизни, всегда прокладывающей себе дорогу в обход крайних, взрывных и разрушительных по результатам решений, которые скорее мешают, чем помогают движению вперед. Так, с опорой на Пушкина, в «Отцах и детях» утверждается тургеневский либеральный идеал срединного пути и, одновременно, находит разрешение болезненный конфликт между Историей и Вечностью, гуманистическим радикализмом и Традицией, свойственный прежним романам.
ДУХОВНЫЙ КРИЗИС ТУРГЕНЕВА. «ПРИЗРАКИ», «ДОВОЛЬНО!»
После публикации «Отцов и детей» начинается кризисная полоса в жизни Тургенева. Его, призывавшего к духовному примирению и социальной консолидации, объявили своим врагом как консерваторы, обвинив в потворстве бунтующей молодежи, так и молодые радикалы, обвинявшие его, в свою очередь, в идейном консерватизме и обтекаемости политической позиции. Кризис усугублялся также событиями начала 1860-х годов, когда, после обнародования манифеста об отмене крепостного права, в ответ на угрозы со стороны радикалов, ждавших массового возмущения крестьян и призывавших к «отрублению» «миллионов» помещичьих голов, правительство ответило суровыми репрессиями (наряду с прочими был арестован Чернышевский), заставившими вспомнить о, казалось бы, навсегда отошедшей в прошлое николаевской эпохе. Кризисными настроениями пропитаны написанные в те годы два небольших произведения Тургенева: повесть «Призраки» (1864) и лирико-философский этюд «Довольно!» (1865). В первой фантастический сюжет – ночные полеты безымянного героя с таинственной, бесплотной девушкой Эллис по разным странам и эпохам – достаточно прозрачно выражает мысль автора о бесперспективности движения Истории, в которой вечно – ив древности, и в современности – сталкиваются две одинаково жестокие силы: сила государственного давления и сила разрушительного бунта «низов»; и в Риме времен Цезаря, и в России времен Разина, и в «сегодняшних» Париже и Петербурге люди продолжают лить кровь и уничтожать друг друга, и никто не в состоянии прекратить эту бессмысленную вселенскую бойню. В «Довольно!», написанном от лица «художника» , Тургенев сначала провозглашает верховенство «чистого» искусства с его нетленной и независящей от злобы дня красотой над любыми политическими доктринами, включая и либеральные, всегда ведущими, как это видится ему теперь, только к насилию, крови и пошлости, а потом и само искусство, последнее утешение человека на этой земле, объявляет тленным, преходящим и бессильным противостоять всепожирающей смерти, с равным безразличием уничтожающей и «драгоценнейшие строки Софокла», и «божественный лик фидиасовского Юпитера». Шопенгауэровская Вечность опять повернулась к писателю своей темной и страшной стороной. «Призраки» и «Довольно!» – высшая точка и апофеоз тургеневского пессимизма.
«дым»
Этюдом «Довольно!» Тургенев предполагал завершить свою писательскую карьеру и никогда больше не браться за перо. Однако уже через два года он публикует новый роман «Дым». От предыдущих романов «Дым» отличается отсутствием в нем центрального героя – вершителя Истории. Масштабное, грандиозное деяние должно быть заменено спокойной и мудрой цивилизаторской работой по медленному преобразованию русской жизни, еще не знающей ни подлинной культуры, ни подлинного просвещения и потому упорно, по-варварски, продолжающей апеллировать к грубой силе и слепой мощи стихийного порыва, – такова главная мысль романа. Теоретически ее обосновывает далеко уже не молодой человек, разночинец Потугин, «alter ego» автора и рупор его идей, демонстративно противопоставленный разночинцам
Инсарову и Базарову. Тургенев хочет сказать, что «деятельный» разночинец, прежде чем действовать, должен обрести некоторые культурные навыки, чтобы его действия не стали гибельными для него самого и для общества, которое он стремится преобразовать. Образцом и гарантом подлинной культуры, регулирующей и гармонизирующей стихийное начало в отдельном человеке и в обществе, выступает в романе европейская цивилизация, которую с неизменным пафосом и защищает Потугин, попутно обличая неурегулированный, дикий и потенциально кровавый хаос русской общественной жизни. Варварский русский хаос представляют в романе две группы героев, зеркально отражающиеся друг в друге: это аристократический кружок генерала Ратмирова, члены которого мечтают силой подавить и приостановить начавшиеся в России преобразования, и кружок Губарева, состоящий из революционеров-эмигрантов, также недовольных либеральными реформами Александра II и мечтающих о стихийном народном и, разумеется, тоже силовом взрыве, который раз и навсегда разрушил бы старые структуры жизни. В Губареве и его сторонниках разочарованный в революционной идее Тургенев сатирически изобразил своих бывших друзей – лондонских эмигрантов Н.П. Огарева и А.И. Герцена, а также М.А. Бакунина – убежденных социалистов, считавших тупиковым и гибельным путь европейской «буржуазной» цивилизации и связывавших свои надежды со свободным от ее бремени русским крестьянством, которое, как им казалось, однажды проснувшись для революционного взрыва, укажет всему миру путь дальнейшего развития. Идеи По-тугина – о медленном приобщении России к европейским культурным нормам, – по мысли автора, предстоит воплотить в жизнь другому герою, молодому дворянину Литвинову, проницательно усматривающему глубинное сходство между враждующими партиями «аристократов» и «революционеров» и возвращающемуся в конце романа в Россию, с тем чтобы начать применять в ней те навыки цивилизованного ведения хозяйства, которым он обучался в Европе. Вместе с тем, «Дым» – самый пессимистический роман Тургенева; голос темной шопенгауэровской Вечности звучит в нем так же отчетливо и так же зловеще, как в «Призраках» и «Довольно!». Потугин и Литвинов, убежденные сторонники цивилизации и культуры, призванные умерять и успокаивать силовые вихри социального хаоса, сами, несмотря на всю свою интеллектуальную трезвость, оказываются жертвами стихии – стихии страсти, неодолимого, «рокового» чувственного влечения к одной и той же женщине, красавице-аристократке Ирине. Справиться с этой силой они не в состоянии, и становится понятно, что сила принуждения, подавления или бунта, к которой, как к своему спасению, всегда готово прибегнуть «варварское» сознание русского общественника, есть та же самая сила, которая не позволяет слепо влюбленному человеку – где бы он ни находился: в России, в Европе, в любой точке мира, – преодолеть свою мучительную страсть, даже если он сознает, насколько она гибельна для его нравственной жизни. Все это, согласно философской концепции Тургенева, лики Мировой Воли, играющей человеком, не способным наложить на себя «железные цепи долга». Однако, в противоположность идеям ранней «любовной» повести, поздний Тургенев все меньше верит в способность человека уйти от гнева Мировой Воли: если она избрала его своей жертвой, то, что бы он ни делал, ему уже не выбраться из ее когтей. Если Литвинов в финале романа возвращается к своей нравственно-чистой невесте Татьяне, то только потому, что Ирина, полностью завладевшая его сердцем, отказалась соединить с ним свою судьбу. Важнейшее место романа, объясняющее смысл его названия, – размышления Литвинова, глядящего на дым, вырывающийся из трубы паровоза, увозящего его в Россию. Сознавая свое полное бессилие перед мощью подчинившей его себе страсти, а значит, и судьбы, он признает «дымом» , т. е. чем-то призрачным, иллюзорным и бессмысленным, сначала «все русское» – толки «губаревцев», толки «ратми-ровцев», а потом и речи Потугина, пламенного защитника европейской цивилизации... Тем самым в его глазах – ив глазах автора – «дымом» оказывается вся человеческая жизнь, «все людское». Этими размышлениями окончательно сводится на нет и культ Героя, вершащего Историю; он как бы выворачивается наизнанку: там, где раньше была сила, бросающая вызов Вечности, теперь не осталось ничего, кроме бесплотного, маленького и жалкого колечка дыма.
«НОВЬ»
В последнем романе «Новь» Тургенев опять проявляет живой интерес к событиям современной истории. На этот раз предметом изображения становится народническое движение 1870-х годов. Действие романа происходит в 1868 г., когда появляются и начинают активно функционировать первые народнические кружки, в которых вырабатывалась тактика мирного хождения интеллигенции в народ, а также подготавливался ряд акций по возбуждению народного гнева и неповиновения властям. Разочарованный в идеале Героя, Тургенев достаточно скептически относился к планам и деятельности народников, политическая программа которых во многом строилась на концепции Героя-лидера, призванного вести за собой непросвещенную толпу, вдыхая в нее энергию ненависти к существующему положению вещей. Таким бунтарем-фанати-ком, безоглядно преданным идее скорейшего освобождения народа и готовым ради ее торжества все сокрушить на своем пути, выведен в романе народник Маркелов, тип выродившегося Дон Кихота. Характерный для народнической среды тип «кающегося» дворянского интеллигента, сознающего свою вину перед народом, но неспособного проникнуться его жизнью и болезненно переживающего свою оторванность от него как в социальном, так и в культурном отношении, представлен в образе Нежданова, имеющего много общих черт с героями, относимыми Тургеневым к типу образованных и утонченных, но слишком пестующих свое «я», самозафиксированных дворянских Гамлетов. Самоубийство Нежданова в конце романа символически выражает глобальную неудачу всего народнического движения, которое, по мнению писателя, было обречено с самого начала. Тем не менее, по-человечески, представители оппозиционной интеллигенции в «Нови» пользуются большей симпатией Тургенева, чем это было в «Дыме». Здесь они изображаются не как зеркальное отображение «консервативной» партии, а как люди, безусловно, обладающие рядом моральных преимуществ по сравнению с их идейными врагами – дворянскими аристократами. Резко сатирическому освещению подвергаются в «Нови» ультраконсерватор, убежденный монархист Калломейцев и близкий ему по взглядам, хотя и маскирующийся под здравомыслящего и гуманного либерала богач и аристократ Сипягин. Это люди, дорожащие своим благосостоянием и положением в обществе и готовые силой защищать свои привилегии от тех, кто пытается обратить их внимание на существование бедных и обездоленных. В отличие от дворян-аристократов, народники открыты страданиям несчастных, сознают всю тяжесть и бедственность их положения и изо всех сил стремятся к тому, чтобы изменить и улучшить его. В этом, но только в этом, по Тургеневу, заключается правда народнического движения. Примечательно, что даже к популярной в народнических кругах идее жертвования собой во имя страдающих масс писатель, всегда благоговевший перед людьми, способными на отречение от своего «я», от своих личных интересов ради служения ближнему и Высшему, относится по меньшей мере двойственно, – возможно, как раз потому, что не считает Высшим то, ради чего в данном случае эта жертва приносится. Недаром Марианна, главный женский персонаж романа, народнический вариант страстной и цельной «тургеневской девушки», мечтающей о жертвенном подвиге, в конце концов отказывается от идейной дружбы и любовного союза с народником Неждановым и становится женой Соломина – героя, воплощающего, по Тургеневу, единственно верный путь дальнейшего социального и культурного развития России. Соломин так же остро враждебно относится к консерваторам, как и сами народники, однако их тактике, основанной на таких внешних, с его точки зрения, эффектах, как бунт и жертва, предпочитает медленное культурное строительство, обучение русских крестьян и рабочих навыкам честного, ответственного труда и через это повышение их самосознания и общей степени цивилизованности. Звучит в «Нови», хотя значительно глуше, чем в других романах, и тема Вечности, стоящей за Историей и открывающей за пестрым веером фактов и событий всегда один и тот же универсальный узор борьбы жизни и смерти, роста и разложения, возбуждения и спада. Как и в «Дыме», темная Вечность действует в романе через иррациональную силу любви: Нежданов убивает себя не только осознав крах дела, которому служил, но и потому, что теряет ушедшую от него к Соломину Марианну; темная стихия болезненной страсти к Нежданову проходит через всю жизнь революционерки-народницы Машуриной, продолжающей и после его смерти хранить память о нем и, как идолу, поклоняться его фотографическому портрету...
ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА: «ТАИНСТВЕННЫЕ» ПОВЕСТИ, СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ
Основным жанром тургеневского творчества позднего периода (1870-е – начало 1880-х годов) становится так называемая «таинственная» повесть – новый тип повести (отчасти предсказанный в «Призраках»), сюжет которой в большинстве случаев представляет собой рассказ о вторжении в обыденную, повседневную жизнь каких-либо необычных, таинственных, сверхъестественных сил, неподвластных человеческому разуму, фатально-неотвратимых и, как правило, разрушительным образом действующих на судьбу подпавшего под их влияние человека. Человек как бессильная жертва слепой игры Мировой Воли – эта излюбленная тема позднего Тургенева на разные лады варьируется в таких «таинственных» повестях, как «Собака» (1864) и «Рассказ отца Алексея» (1877), где мистическая жуть, через которую говорит Неведомое, предстает в восприятии простых людей, мещанина и сельского священника; «Сон» (1877), где череда ирреальных событий, напоминающих сновидение, постепенно складывается в историю о трагической предопределенности судьбы человека его наследственностью и тайной рождения; «Песнь торжествующей любви» (1881) и «После смерти (Клара Милич)» (1883), где вновь, в который уже раз у Тургенева, тема зависимости от Судьбы переплетается с темой неодолимого чувственного зова, противиться которому – выше человеческих сил.
Тогда же, на рубеже 1870-1880-х годов Тургенев создает цикл «Стихотворения в прозе», который стал итогом и завершением всего его творческого пути и одновременно лебединой песней автора. Цикл состоит из лирических миниатюр, тематика которых воспроизводит главные темы тургеневских произведений прошлых лет. Мотивы и образы «Записок охотника» узнаются в стихотворениях «Деревня», «Два богача», «Щи», «Христос», «Сфинкс», рассказывающих о духовном богатстве, непостижимой душевной глубине и загадочности русского крестьянского характера. Знакомая по «любовным» повестям и романам тема разрушительной чувственной и просветляющей жертвенной любви присутствует в стихотворениях «Роза», «Как хороши, как свежи были розы...», «Стой!», «Воробей», «Памяти Ю.П. Вревской». Историческая линия романов прослеживается в стихотворениях, посвященных сложным взаимоотношениям народа и интеллигенции, судьбе и дальнейшим путям развития России: «Чернорабочий и белоручка», «Порог», «Русский язык». Особую и самую многочисленную группу в цикле составляют стихотворения пессимистического характера, продолжающие шопенгауэровскую линию тургеневских романов и развивающие как тематически, так и эстетически (ирреальные образы «иного мира», поэтика сновидения и т.д.) мотивы «таинственных» повестей; к ним относятся «Разговор», «Старуха», «Собака», «Конецсвета», «Черепа», «Насекомое» и др.
Поэтика романтизма, всегда сосуществовавшая в тургеневских произведениях с «программной» для середины XIX в. реалистической поэтикой, однако никогда не заслонявшая ее собой, в «таинственных» повестях и «Стихотворениях в прозе» меняет свое эстетическое «место» и выходит на первый план, становясь структурообразующей основой произведений. Художественные новации позднего Тургенева, непонятые и непринятые большинством его современников, в действительности есть характерная черта и примета уже в это время начинающей складываться новой общеевропейской стилистической парадигмы, которая, противопоставив себя бытовому и эмпирическому реализму как бесплодному и отживающему стилю, будет широко черпать из сокровищницы романтической эстетики и на рубеже Х1Х-ХХ вв. войдет в историю под названием стиля модерн.
Основные понятия
Байронический герой, драматическая поэма, западник-либерал, западничество, идейная концепция, идеологический ракурс, историческая тематика, лирико-философский этюд, лирическая миниатюра, любовная повесть, натуральная школа, нигилизм, очерковый цикл, повесть-«элегия», реалистическая эстетика, романтизм, руссоизм, славянофильство, стихотворение в прозе, «таинственная» повесть, «тургеневская девушка», чистое искусство, шопенгауэровский пессимизм.
Вопросы и задания
1. Каково отношение Тургенева-реалиста к романтической традиции? Какие элементы романтической эстетики включены в реалистическую систему писателя?
2. Какие принципы натуральной школы получили отражение в очерковом цикле Тургенева «Записки охотника»?
3. Каково соотношение идеологического и художественного начал в цикле «Записки охотника»?
4. В чем существо тургеневской концепции любви? Как последняя отразилась в цикле любовных повестей писателя?
5. Какие этапы русской истории нашли свое художественное воплощение в романах Тургенева?
6. С какими «вечными образами» мировой литературы соотносятся главные герои тургеневских романов «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети»?
7. Охарактеризуйте основные жанровые особенности тургеневских романов.
8. Каково соотношение любовной и историко-идеологической проблематики в романах Тургенева?
9. Каков идейно-художественный смысл использования фантастического элемента в «таинственных» повестях писателя?
10. Охарактеризуйте жанровое своеобразие «Стихотворений в прозе» Тургенева.
Литература
Батюто А.И. Творчество И.С. Тургенева и критико-эстетическая мысль его времени. JL, 1990.
Батюто А. И. Тургенев-романист. JL, 1972.
Бялый Г. Тургенев и русский реализм // Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. JL, 1990.
Лебедев Ю.В. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». М., 1982.
Маркович В.М. Человек в романах И.С. Тургенева. JL, 1975.
Муратов А.Б. Тургенев-новеллист (1870-1880-е годы). JL, 1985.
Пумпянский Л. В. Статьи о Тургеневе // Пумпянский JI. В. Классическая традиция. М., 2000.
Топоров В.Н. Странный Тургенев. М., 1998.
ГЛАВА 8
И.А. ГОНЧАРОВ (1812-1891)
Иван Александрович Гончаров – автор знаменитой трилогии («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»), книги «Фрегат Пал-лада», критических статей и других произведений, один из самых крупных писателей среди великих реалистов XIX в.
И.А. Гончаров вступил на писательское поприще в переломные для отечественной литературы 1840-е годы, когда нескончаемый поток лирической поэзии резко пошел на убыль и ведущее место на журнальных подмостках заняла ее величество Проза. Заняла, чтобы всю вторую половину XIX в. уже не уступать своего лидерства. «Роман и повесть стали теперь во главе всех других родов поэзии, – писал В.Г. Белинский в обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года». – В них заключилась вся изящная литература – так что всякое другое произведение кажется при них чем-то исключительным и случайным» 149 . Наступление «прозаического» века оценивалось современниками неоднозначно. С одной стороны, в плане собственно художественном роман и повесть обещали обогатить русскую литературу новыми формами реалистического изображения человека и действительности. «В них, – отмечал в том же обзоре Белинский, – лучше, удобнее, нежели в каком-нибудь другом роде поэзии, вымысел сливается с действительностью, художественное изобретение смешивается с простым, лишь бы верным, списыванием с натуры. <...> Это самый широкий, всеобъемлющий род поэзии; в нем талант чувствует себя безгранично свободным» 150 . С другой стороны, в плане смены культурных ценностей закат «поэтического века» таил в себе грозное предвестие грядущего торжества «прозаического», т. е. приземленного, откровенно потребительского взгляда на жизнь. У всех на памяти еще свежо было горькое откры-
тие Н.В. Гоголя: «Все изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить во что бы то ни стало другого, отомстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?» 1. С легкой руки Гоголя основной приметой современной литературы становится исследование не столько индивидуально-конкретных, неповторимо-личностных качеств человека, сколько «типовых», стандартных свойств характера, отвечающих усредненным, обусловленным приличиями сословного и должностного круга общения поведенческим стереотипам. Собственно, Гоголь в драматургии и в прозе запечатлел (средствами гротеска прежде всего) эту трагедию перерождения живой человеческой индивидуальности в безликий «социальный тип», в «бесплатное приложение» чина и звания.
Прозаики 1840-х годов, и среди них Гончаров, не могли не учитывать этих художественных прозрений их старшего современника. Именно через обостренный интерес к проблеме типического в литературе, к соотношению в литературном характере «общего и особенного», исторически закономерного и случайного, к упорядочению и художественной классификации «типов» и созданию на этой основе объективной картины действительности, равной по достоверности «научной», и проходила, как известно, магистральная линия художественных экспериментов в русской прозе 1840-х годов. Она привела к созданию «натуральной школы», в лоне эстетических установок которой и проходило становление таланта Гончарова.