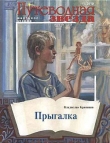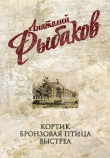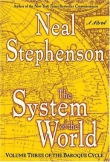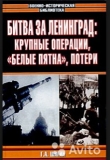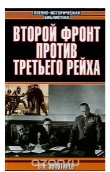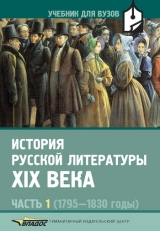
Текст книги "История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 2"
Автор книги: Екатерина Дмитриева
Соавторы: Валентин Коровин,Людмила Капитонова
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 39 страниц)
Критика, с точки зрения Григорьева, должна «изучать и истолковывать рожденные, органические создания и отрицать фальшь и неправду всего сделанного». С этих позиций Григорьев и писал о русской литературе.
Близок к Григорьеву по своим взглядам и его младший современник H.H. Страхов, основные работы которого относятся к 1860-м годам. Он тоже стоит за различение художественности и не художественности произведений по принципу «рожденное», органическое – вымученное, ремесленное. Поэзия для Страхова – дело таинственное, но не серьезное. Он резко разделяет жизнь, природу, действительность и искусство, художество, литературу: «жизнь и искусство – два мира противоположные». Искусство довольствуется воображением, «раздвояет» «существование» и «легко обращается в ложь». Настоящая правда искусства недоступна не только «толпе», но и творцам, которые «часто не обнаруживают никакой красоты чувств». Сущность поэзии состоит в том, чтобы оторвать нас от своекорыстных забот и помыслов, от «низких страстей». Между тем, по его мнению, к литературе предъявляются общественные требования, которыми она подавлена. С такой точки зрения Страхов считает нашу литературу еще чрезвычайно бедной, соответствующей хаосу, царящему в нашей духовной жизни, сумятице духа, которые выражены наиболее отчетливо в засилии нигилизма. Нигилизм есть продукт крайнего западничества. Однако Страхов не принимает и крайнее славянофильство. Вместе с тем ему не чужды мессианские идеи: «Мы племя особенное, предназначенное к иному, нежели другие племена человечества». Страхов выбирает «почвенничество», потому что «партия» Достоевского «уклонялась от подражательности западничества», от «исключительности славянофильства», а была «просто русской», «чисто литературной». Свою критику он называет «консервативной», имея в виду патриотическое «желание сохранить то, что мы любим».
Именно с журналами Достоевского, где A.A. Григорьевым и H.H. Страховым утверждалась концепция «почвенничества», и вступил в полемику Антонович, написавший несколько статей («О почве», «О духе “Времени”» йог. Косиц(е) 156 как наилучшем его выражении и др.), направленных против журнала «Время». Страхов отвечал Антоновичу статьями «Пример апатии...», «Нечто об опальном журнале», а Достоевский опубликовал статью «Два лагеря теоретиков».
Полемика развернулась вокруг понятия «народность», которое, по мнению Антоновича, неправомерно было заменено понятием «почва». Он критикует своих противников за стремление определять народность по случайным признакам. Причины разрыва между верхними, образованными, и нижними, необразованными, слоями общества он усматривает не только в реформах Петра I, но и в социальных условиях жизни, иронически замечая при этом, что трудно читать книги, «идя за сохой или плугом» , тогда как образованные люди читают книги, «сидя за чаем». Он считает, что примирить разные слои общества, за что выступал Григорьев в статье «Народность и литература», невозможно. Примирительные теории «почвенников», писал Григорьев, только усугубляют чувство апатии, из которого надлежит вывести русский народ.
Через год Антонович снова вступает в полемику с журналом Достоевского «Эпоха» по тем же вопросам, высмеивая и антизападнические выступления Страхова, и идею органического развития и органической критики Григорьева, называя ее «ерундой органической критики».
Из других заметных критиков 1860-х годов нужно назвать Г.З. Елисеева, В.А. Зайцева и Н.В. Шелгунова.
Г.З. Елисеев сотрудничал в журнале «Современник» и написал несколько теоретических работ (например, «Очерки русской литературы по современным исследованиям») и статей о творчестве Некрасова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Гоголя и др. Он был яростным противником славянофильства, «чистого искусства» и ядовито издевался над «нежноидеалистическими чувствами». После закрытия «Современника» Елисеев печатался в «Отечественных записках» Некрасова и Салтыкова-Щед-рина и был близок к народникам, выступив в 1890-е годы в их журнале «Русское богатство».
В.А. Зайцев был бойким критиком «Русского слова» и вместе с Писаревым сделал журнал очень популярным среди нетерпеливой радикальной молодежи. Он разделял точку зрения Писарева на бесполезность искусства, тяготея при этом к социальному дарвинизму, распространяя учение о видовой борьбе в природе на человеческое общество. В большой статье «Перлы и адаманты русской журналистики» он резко критиковал журналы «Русский вестник», «Библиотека для чтения» и другие. В дальнейшем он принял участие в полемике между «Современником» и «Русским словом» на стороне последнего.
Н.В. Шелгунов выступил в критике в конце 1860-х годов, и пик его критической деятельности приходится на следующее десятилетие – с конца 1860 по 1870-е годы, но по своим взглядам он принадлежал к радикалам 1860-х годов, эволюционируя от Чернышевского к Писареву. К этому времени относятся его статьи «Новый ответ на старый вопрос», «Русские идеалы, герои и типы», «Люди сороковых и шестидесятых годов», «Талантливая бесталанность». Все они опубликованы в журнале «Дело». Продолжая Писарева, Шелгунов критикует произведения Тургенева, Гончарова, Писемского, Лескова, Л. Толстого. По его мнению, эти писатели безнадежно отстали от новых исторических условий. Даже роман Чернышевского кажется ему устаревшим. Такого рода критика особенно расцвела в 1870-е годы («Попытки русского сознания», «Двоедушие эстетического консерватизма», «Тяжелая утрата», «Новый реализм в литературе», «Глухая пора», «Философия застоя», «Русская сатира», «Бессилие творческой мысли»).
Основной вопрос для Шелгунова – борьба с «крепостной эксплуатацией», которая «спутала нравственные границы между людьми». Ценя в человеке и писателе сознательное отношение к жизни, Шелгунов пытается определить, что такое талант. По его мнению, талант «есть сила образного изображения в широко захватывающих картинах». Главное в таланте – общественные взгляды, любовь к отечеству, к национальной славе, патриотизм, убеждение в национальной самобытности и неразлучность этих качеств с лучшими стремлениями времени. Эти критерии позволяют Шелгунову расположить писателей по степени таланта: Гончаров – обыкновенный талант (он способен заглядывать в человеческую душу, но «не признает закона причинности и верит в моисеевский принцип награды и воздаяния»), Тургенев – талант ниже обыкновенного, поскольку своими романами «вырыл собственными руками могилу для своего поколения», Писемский – талант «очень маленький» и т.д. Идеал человека для Шелгунова – не Базаров, не Рахметов, не «новые люди», как для его учителей Писарева и Чернышевского, а «стоик», человек «дела». Для того, чтобы воплотить этот тип, нужен новый реализм, свободный от идеализма. Черты его Шелгунов увидел в очерках Решетникова. У этого писателя не нужно искать изображения «психологии» героев и индивидуального своеобразия типов. И тем не менее, он превосходит всех прежних писателей – Гончарова, и Тургенева, и Л. Толстого, и Ф. Достоевского.
Таким образом, в критической деятельности Шелгунова в известной мере завершился процесс превращения критики радикально настроенной разночинской интеллигенции из деятельности художественной в деятельность публицистическую. Это позволяет назвать критику Чернышевского, Добролюбова и их последователей критикой «публицистической», в которой окончательно возобладали не художественные, а общественно-политические критерии.
Многие из названных писателей и критиков неизвестны нынешнему читателю в силу своего невеликого таланта. Но все они остались в истории русской литературы как участники формирования ее громадной преобразующей роли в духовном развитии общества.
Основные понятия
Романтизм, реализм, «гоголевское направление», журналы «Современник», «Москвитянин», «Время», «Эпоха», западники, славянофилы, почвеничество, критика реальная, критика органическая, критика эстетическая, критика консервативная, критика публицистическая.
Вопросы и задания
1. Какие вопросы волнуют русское общество в 1850-1860-е годы?
2. Каково состояние русской журналистики? Какие журналы были наиболее популярными в эту эпоху?
3. О каких проблемах литературного развития и текущего литературного процесса спорили писатели и критики?
4. Каково состояние русской прозы в 1850-1860-е годы?
5. Каково состояние русской поэзии в это время и каковы основные тенденции, проявившиеся в ходе литературного процесса?
6. Что представляла собой русская драматургия в эту пору?
7. В чем состояли принципы реальной, эстетической, консервативной, органической, публицистической критики?
8. Дайте расшифровку основных символических и аллегорических образов 1, 2, 3, 4 снов Веры Павловны в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?».
9. Что сближает и что отличает Лопухова и Кирсанова как идеальных разночинцев из романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» и тургеневского реального разночинца Базарова?
10. Своих идейных оппонентов автор «Что делать?» нередко называет в романе «партизанами прекрасных идей». Кого имеет в виду Чернышевский?
11. Как христианская по происхождению тема высокой жертвы преломляется в главе из романа «Что делать?», посвященной Рахметову, и в стихотворениях Некрасова «Памяти Добролюбова» и «Пророк» («Н.Г. Чернышевский»)? При знакомстве с творчеством Некрасова выделите и опишите христианские мотивы в его поэмах «Русские женщины» и «Кому на Руси жить хорошо». Сравните эти мотивы с мотивами романа Чернышевского и объясните их роль и функцию в идейно-художественном целом в произведениях писателей.
Литература
Григорьев АЛ. Литературная критика. М., 1967.
Григорьев АА. Эстетика и критика. М., 1980.
Григорьев АА. Искусство и нравственность. М., 1986.
Григорьев А А. Стихотворения и поэмы. М., 1978.
Дружинин A.B. Литературная критика. М., 1983.
Дружинин A.B. Прекрасное и вечное. М., 1988.
Евгеньев-Максимов В.Е. «Современник» в 40-50-х гг. От Белинского до Чернышевского. Л., 1934.
Егоров Б.Ф. Николай Александрович Добролюбов. М., 1986.
Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев – критик. В кн.: Ученые зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 98. Тарту, 1960; вып. 104. Тарту, 1961.
Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982.
Кузнецов Ф.Ф. Публицисты 1860-х годов. Круг «Русского слова». М., 1980.
Лебедев А А. Герои Чернышевского. М., 1962.
Нелидов Ф.Ф. А.Н.Островский в кружке «молодого “Москвитянина”». Русская мысль, 1901, № 3.
Нечаева B.C. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». М., 1972.
Нечаева B.C. Журнал М. М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». М., 1975.
Николаев ПА. Историзм в художественном творчестве и в литературоведении. М., 1983.
Осповапг АЛ. Короткий день русского «эстетизма» (В.П. Боткин и A.B. Дружинин). «Литературная учеба», 1981, № 3.
Писарев Д.И. Соч. в 4 т. М., 1955.
Скатов H.H. Некрасов. Современники и продолжатели. М., 1986.
Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX в. М., 1986.
Чернец Л.В. Экспериментальная поэтика Н.Г. Чернышевского. В ее кн.: Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики). М., 1982.
Щукин В. Русское западничество сороковых годов XIX века как общественно-литературное явление. Краков, 1987.
Ямполъский И. Поэты и прозаики. Л., 1986.
Ямполъский И.Г. Сатирическая журналистика 1860-х годов. Журнал революционной сатиры «Искра» (1859-1873). М., 1964.
ГЛАВА И
М.Е. САЛТЫКОВ (Н. ЩЕДРИН)
(1826-1889)
Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина соединяет в себе острейшую политическую злободневность и вечные проблемы, обращение к понятным только русскому читателю-современнику реалиям и создание на их основе образов всечеловеческих. Проблемы крепостного права, глубочайшие пороки самодержавно-бюрократической системы, угнетение народа и деформация сознания русского мужика, дворянина, разночинца-интелли-гента пореформенной поры – все это, несомненно, составляло центр литературных, критических интересов, редакторских и собственно гражданских (чиновничьих) радений Салтыкова. Но «рассеивание» таланта на публицистику породило неожиданные всходы: энергия социальности трансформировалась в эстетические модусы и обеспечила подлинный художественный прорыв в реализме, в сатире, русской литературе вообще. Художественная сила писателя такова, что его творчество – глубоко русское в разных смыслах предваряет различные стилевые тенденции в мировом литературном развитии XX в. от реалистических до модернистских. (Существует, например, мнение, что «Опись градоначальникам» из «Истории одного города» заключает, как в капсуле, «свернутый» фантастический роман, который за век предвосхитил поэтику «Ста лет одиночества» Г.Гарсиа Маркеса.) Между тем эстетическое новаторство писателя редким образом сочеталось с глубокой социальной прогностикой, величие таланта определялось, кроме иных качеств, жреческим предвидением общественных катаклизмов рубежа веков и века двадцатого.
РАННИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ПИСАТЕЛЯ. ТВОРЧЕСТВО 1840-х ГОДОВ
«Как хотите, а есть в моей судьбе что-то трагическое», – характеризовал Щедрин свою биографию. Детство, проведенные в Пошехонье, и молодые годы «были свидетелями самого разгара крепостного права, которое, по утверждению М.Е. Салтыкова-Щедрина, было губительно для всех сословий. Проявившийся еще в годы жизни в родительской вотчине протест против любых форм порабощения станет основой демократических убеждений писателя. Другой мощный импульс из детства, предопределивший многие мировоззренческие и творческие константы, – впечатление от «страстного чтения» Нового Завета. Оно порождало размышления после священных библейских слов о равенстве и человеколюбии. «...Возбужденная мысль невольно переносилась к конкретной действительности, в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных и замученных человеческих существ». «Униженные и оскорбленные встали... осиянные светом».
В 1838 г., как один из лучших учеников пансиона Московского Дворянского института, М. Салтыков был переведен для обучения на казенный счет в Царскосельский лицей, где готовили высокопоставленных чиновников. «Рассадником министров» назовет впоследствии лицей Салтыков-Щедрин, но лучшими преподавателями лицея поддерживались некоторые традиции, связанные с именем Пушкина. В лицее началось формирование будущего писателя, которое не было прервано и чиновничьей службой в канцелярии военного министерства, куда в 1844 г. был определен Салтыков.
Дебют М. Салтыкова как прозаика не вполне удался. Повесть «Противоречия» (1847 г.), в которой отразились актуальные философские споры, была довольно слабой в художественном отношении. Главный герой повести, рефлектирующий Нагибин – идеалист, трактующий гегелевский тезис «Все действительное разумно» для оправдания своей позиции безвольного созерцателя. Новаторство произведения сказалось в началах реалистической типизации и экзистенциальной проблематике: судить о человеке не «по публичным отношениям», а заглянув в «самую темную сферу – на задний двор его жизни, где тянется она, бледная и вялая, час за часом...»
Середина сороковых – время мощного духовного роста писателя. Будущий сатирик испытал влияние колоссальной личности В.Г. Белинского, статьи которого мощно воздействовали на литературное и идейное взросление Салтыкова. Взращенная Белинским «натуральная школа» стала для молодого писателя реальной литературной школой, а затем и направлением, к которому он примкнул. Салтыков сближается с литературным критиком В.Н. Майковым. Из кружка социалиста-утописта М.В. Петрашевского он выносит представление о возможной общественной гармонии, о «золотом веке», «который не позади, а впереди нас», а спустя полтора десятилетия в статье 1863 г. определенно выразит серьезные сомнения в попытках фурьеристов «втискивать человечество в какие-то новые формы, к которым не привела его сама жизнь». Сомнения, возникшие в пору юности, заставили М.Е. Салтыкова прекратить посещение «пятниц» Петрашевского в 1847 г., но до конца дней писатель не растерял обретенную тогда веру в «новую жизнь», пафос беззаветной борьбы за нее.
1848 год стал для Салтыкова годом первой литературной удачи и первого правительственного удара: революционные события во Франции вызвали «профилактические» репрессивные меры российского самодержавия, а публикация «Запутанного дела» дала повод применить их к молодому автору.
«Запутанное дело» (1848 г.) продолжает традицию повестей о бедном чиновнике. Как и в повестях Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского («Шинель» 1837 г., «Бедные люди», 1845 г.) главный герой второй повести М.Е. Салтыкова Мичулин – человек крайне бедный, доведенный нищетой и бесправием до отчаяния. Не случайно ему снится сон, где он видит себя почти придавленным огромной пирамидой из человеческих существ, этажи которой образуют разные сословия. Образ этот был заимствован молодым автором у социалиста-утописта Сен-Симона. Но само использование гротеска в повести (как и специфической фразеологии) стало первым шагом в формировании оригинальной иносказательной манеры зрелого сатирика, его индивидуального стиля, основанного на вторичной условности.
По словам поэта и критика П.А. Плетнева, в повести «ничего больше не доказывается, как необходимость гильотины для всех богатых и знатных» (хотя иронический пафос повести направлен и в адрес псевдосвободомыслия либеральной молодежи). По велению Николая I в апреле 1848 г. Салтыков был сослан в Вятку, где с 1850 г. он служил в должности советника губернского правления. Ссылка обогатила его уникальным знанием российской действительности, укрепила убеждения: именно в Вятке Салтыков окончательно формируется как сторонник крестьянского демократизма.
Период «укрощения, стушевки и акклиматизирования» (так иронично писатель называл вынужденное привыкание к суровым условиям ссыльной жизни) закончился уже после смерти Николая I. В Петербург Салтыков возвратился в январе 1856 г.
«ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ»
Это первое произведение, вышедшее под псевдонимом Н. Щедрин. Предназначенные первоначально для «Современника», «Губернские очерки» были отвергнуты H.A. Некрасовым и напечатаны в «Русском вестнике». Профессиональное чутье не подвело М.Н. Каткова: на долю очерков выпал необыкновенный успех. В них разноликая русская провинция впервые в русской литературе предстала как широкая художественная панорама. Очерки внутри цикла сгруппированы преимущественно по тематическому принципу («Прошлые времена», «Богомольцы, странники и проезжие», «Праздники», «Казусные обстоятельства» и др.) и лишь в разделе «Драматические сцены и монологи» – по жанровому принципу.
Крутогорск – собирательный образ дореформенной провинции. Название города, подсказанное архитектурным пейзажем Вятки, расположенной на крутом берегу реки, положило начало оригинальной сатирической «топонимике» Салтыкова-Щедрина. Позже в художественном мире писателя появятся Глупов, Ташкент, Пошехонье, Брюхов, Навозный и пр. 1Генетически связанные с образами гоголевских городов в «Ревизоре» и «Мертвых душах» (а именно Гоголя Салтыков считал своим учителем), города в художественном мире писателя получат собственную «историю», конфликты, «народонаселение». Крутогорск представлен знакомыми всем россиянам топосами (постоялый двор, острог, суд, лачужки городских бедняков, церкви, общественный сад, особняк губернского чиновника высокого ранга и т.д.). Собранное вокруг губернского города художественное пространство разомкнуто, действие нередко переносится в глубинку: уездный центр, помещичью усадьбу, крестьянскую избу, а внутри вставных повествований – в сопредельные и отдаленные российские земли. Образ дороги, также восходящий к известному гоголевскому мотиву, возникающий во «Введении» и символически завершающий весь цикл (Глава «Дорога /Вместо эпилога/»), помогает автору и читателю легко передвигаться от одной сюжетно-тематической картины к другой. Соответственно упрощаются, становятся в значительной мере условными переход от одной повествовательной манеры к другой, смена стилей и жанровых форм внутри цикла. Неизменным остается сатирический пафос, причем диапазон его уже здесь необычайно широк: от легкой иронии до ядовитого сарказма.
В «Губернских очерках» воссозданы характерные русские типы. В социальном отношении они представляют главным образом народ (крестьян и разночинный люд), чиновников и помещиков-дворян. В нравственно-психологическом плане авторская типология также отражала реалии России последних лет крепостного права.
С особенным вниманием изображаются писателем русские мужики, в помещичьей кабале не потерявшие доброту души. Очевидны уважение, симпатия, а порой и благоговение по отношению к нищему, но смиренному и нравственно чистому трудовому люду, в чем, несомненно, сказалось увлечение славянофильством. «Признаюсь, я сильно гну в сторону славянофилов», – признавался сам Салтыков-Щедрин в 1857 г. Известно, что раздел «Богомольцы, странники и проезжие» был первоначально посвящен славянофилу С.Т. Аксакову. Вслед за славянофилами в исследовании духовного мира простого русского человека Салтыков обращается к проявлениям подлинной религиозности. Паломничество («богомолье») воспринимается в народе как «душевный подвиг». Религиозному подвижничеству низов («Отставной солдат Пименов», «Пахо-мовна») противопоставляются честолюбивые и корыстные мотивы участия в богомолье представителей более высоких в социальной иерархии сословий. В «Острожных рассказах» драматизм судьбы простых людей (крестьянского парня, мужи-ка-бедняка, крепостной Аринушки) обнажает не их преступные наклонности, а прекрасные природные качества. Однако своеобразный антропологизм Салтыкова не противоречит со-циально-историческому подходу. Сформулированное еще в Вятке убеждение: «Борьбу надлежит вести не столько с преступлением и преступниками, сколько с обстоятельствами, их вызывающими», – определило в очерках пафос протеста против существовавших форм и методов уголовного наказания.
Разные типы чиновников – от подъячих «прошлых времен» до современных администраторов-«озорников» и «живоглотов» (разделы «Прошлые времена», «Юродивые» и др.) – главный объект сатиры Салтыкова. Взяточничество и казнокрадство, клевета и насилие, подлость и идиотизм – вот далеко не полный перечень общественных пороков, ставших неотъемлемыми качествами государственного управления. Автор прибегает к лаконичным зарисовкам характеров и развернутым биографиям чиновников, бытовым сценам и диалогам «в присутствии»; сюжетам, рассказывающим “об административных казусах и должностных преступлениях, – широка палитра сюжетно-композиционных приемов социальной критики писателя. «Губернские очерки» наглядно демонстрируют, как Салтыков-Щедрин постепенно преодолевает ученичество, все увереннее осваивает собственный стиль. Если в образе корыстолюбивого Порфирия Петровича из одноименной главы ощущаются гоголевские ноты, то в сатирической классификации чиновников по видам рыб (чиновники-осетры, пескари, щуки) из рассказа «Княжна Анна Львовна» виден уже сам Салтыков, а не Гоголь. Одним из самых сильных по гражданскому пафосу в книге является очерк «Озорник», где политическая сатира обретает собственно щедринские формы. Она явлена в форме доверительного монолога чиновника высокого ранга, осуществляющего «принцип чистой творческой администрации», чиновника-теоретика, поборника обскурантизма и нивелировки масс. Художественный эффект достигается за счет своеобразного перепада эстетического напряжения: философствую-ще-холодному тону рафинированного администратора, брезгливо безразличного к судьбам «всех этих Прошек», контрастирует скрытый сарказм автора, глубоко сочувствующего Прошкам и Куземкам – жертвам чиновничье-дворянского произвола. Своеобразие психологизма автора заключается в воспроизведении потока сознания – сознания развитого, но одномерного, арефлективного, не способного слушать и слышать другого.
В цикле изображены доморощенные коммерсанты, находящиеся во власти тех же мздоимцев-чиновников («Что такое коммерция?»); европеизированные разбогатевшие купцы-от-купщики, неспособные, впрочем, освободиться от тяжелого наследия: «подлого» поведения, бескультурья, презрения к народу, кичливости и чванства и т.д. («Хрептюгин и его семейство»); агрессивные раскольники («Старец», «Матушка Мавра Кузьмовна»).
Создавая дворянские образы, Салтыков в «Губернских очерках» сосредотачивается не столько на мотивах эксплуатации крестьянства дворянами, сколько на проблеме нравственного одичания высшего сословия, порочности крепостнической морали («Неприятное посещение», «Просители», «Приятное семейство», «Госпожа Музовкина»). Замечено, что на этом групповом портрете высший класс общества ни разу не показан в цветении дворянской культуры, как это бывало у Тургенева и Толстого. Опошление, грубая меркантильность, бездуховность сближают щедринских дворян этого цикла с героями рассказов и повестей А.П. Чехова, запечатлевшего один из «финальных актов» жизнедеятельности русского провинциального дворянства.
Пристальному изучению Салтыкова-Щедрина подвергаются измельчавшие «лишние люди», в 50-х годах превратившиеся в праздных обывателей, губернских позеров и демагогов (раздел «Талантливые натуры»).
В итоге русская провинция 40-50-х годов предстает в книге не столько как понятие историко-географическое, сколько бытийно-нравственное, социально-психологическое: «О провинция! Ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!». Повествователь – образованный дворянин демократических убеждений – воспринимает провинциальную дворянско-чиновничью среду как «мир зловоний и болотных испарений, мир сплетен и жирных кулебяк», мир полусна-полуяви, «мглы и тумана». «Где я, где я, господи!» – заканчивается кульминационная в бытийноличностной сфере конфликта глава «Скука». Вновь, как и в «Запутанном деле», социальные проблемы оборачиваются экзистенциальными; эти первые ростки обнаженного психологизма Салтыкова-Щедрина дадут богатые всходы в романах писателя «Господа Головлевы» и «Пошехонская старина».
В символической картине похорон «прошлых времен», венчающей цикл («В дороге»), сказались либеральные пред-реформенные иллюзии писателя. Сравнивая пафос «Губернских очерков» и написанной в 1869-1870-х годах «Истории одного города», исследователь отмечал: «Для Крутогорска еще существует надежда на возможность «возрождения», тогда как для Глупова такая перспектива будет, в конечном счете, исключена» 1.
Современные Салтыкову критики разошлись в идейной и эстетической оценке «Губернских очерков». Ф.М. Достоевский в почвенническом «Времени» писал: «Надворный советник Щедрин во многих своих обличительных произведениях – настоящий художник». Либеральная критика говорила о протесте против частных общественных недостатков («Библиотека для чтения», «Сын Отечества»). Славянофил К.С. Аксаков, высоко оценивая общественный пафос очерков, отказывал им в художественности, упрекал в «карикатурности» и «ненужном цинизме» («Русская беседа»). Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов в «Современнике» писали о неприятии в «Губернских очерках» самих устоев России, подводили читателя к мысли о революционных переменах.
ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ САЛТЫКОВА НА РУБЕЖЕ 1850-1860-х ГОДОВ
В годы всеобщего подъема Салтыков разделяет серьезные упования многих русских людей на Александра II (ведь даже Герцен сразу после реформы 1861 г. будет приветствовать его именем царя-освободителя!). Он считает обязанностью гражданина помочь правительству в отмене крепостного права. Салтыков не оставляет государственную службу и на административном поприще надеется способствовать прогрессивным мерам царской администрации. С энтузиазмом Салтыков брался за самые спорные дела, яростно боролся с произволом чиновников и помещиков. Не случайно его, вице-губернатора Рязани (1858-1860), местные острословы называли то «вице-Робеспьером» по имени бескомпромиссного вождя Великой французской революции, то «домашним Герценом». В год освобождения крестьян на посту вице-губернатора Твери он предельно ясно выразил свою позицию: «Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа... Очень, слишком даже будет!»
Следующим поистине гражданским поступком писателя, не так давно вернувшегося из ссылки, стало вхождение в редакцию «неблагонадежного», с точки зрения самодержавия, журнала. Когда «Современник» лишился двух своих лидеров (в 1861 г. умер H.A. Добролюбов, а в 1862 г. Н.Г. Чернышевский стал узником Петропавловской крепости), его редактор H.A. Некрасов нуждался в надежном соратнике, чей авторитет мог бы поддержать доброе имя и репутацию главной трибуны демократически настроенных литераторов и критиков.
H.A. Некрасов, сблизившийся с М.Е. Салтыковым, не ошибся. Прогрессивные взгляды, писательская известность, недюжинные организаторские человеческие качества М.Е.Салтыкова: гражданская отвага, прямодушие, способности и честность – помогли поддержать авторитет издания.
В «Современнике» и его сатирическом приложении «Свистке» печатаются новые произведения Салтыкова, оттачивается его сатирический талант. Острая злободневная публицистика будоражит российского читателя. Рассказы и очерки тяготеют к циклам, которые приобретают названия «Невинных рассказов» (1857-1863) и «Сатир в прозе» (1859-1862).
В 1863-1864 годы на фоне краха связанных с реформой демократических надежд серьезно обострились разногласия Салтыкова с молодыми демократами, прежде всего с Д.И. Писаревым. Вострополемичных статьях-обзорах «Нашаобщественная жизнь» он не раз обвиняет круг единомышленников Писарева, входящих в редакцию «Русского слова» в «скромном служении» общественным наукам, в репетиловщине и сепаратизме. Д.И. Писарев в статье «Цветы невинного юмора» (февраль 1864 г.) обрушивается на сатирика с упреками в туманных бессмыслицах и убаюкивающей, располагающей ко сну сатире. В. Зайцев в том же номере журнала в статье «Глупов-цы, попавшие в “Современник”», разоблачает Салтыкова-Щедрина как «будирующего сановника», случайно попавшего в «Современник» и лишь носившего «костюм Добролюбова». Положение усугубляется спором вокруг романа арестованного Н.Г. Чернышевского «Что делать?», который Салтыков-Щедрин не принял прежде всего из-за утопизма и «произвольной регламентации» в известных проектах будущего. «Всякий разумный человек, читая... роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей». Но вислоухие (этим жестким прозвищем в пылу полемики Салтыков награждает соратников Писарева, но отнюдь не всех молодых демократов, как подчеркивает сам писатель) понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и «приударяют насчет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с пением и плясками». Происходит так называемый раскол в нигилистах. Разногласия с сотрудниками редакции «Современника» (М.А. Антоновичем, Г.З. Елисеевым,