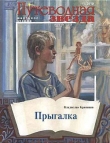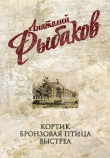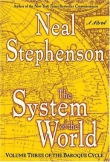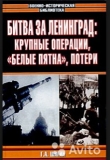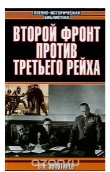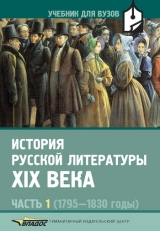
Текст книги "История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 2"
Автор книги: Екатерина Дмитриева
Соавторы: Валентин Коровин,Людмила Капитонова
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 39 страниц)
Мир природы в произведениях Аксакова самостоятелен, писатель не ставит его в зависимость от мира человека, не подчиняет человеку, не соотносит явления природы и внутренней жизни человека, что было весьма характерно для большинства русских писателей и поэтов. «Записки об уженьи рыбы», «Записки ружейного охотника» С.Т. Аксакова и другие его охотничьи рассказы обнаруживают в авторе особый тип художественного мышления, основная черта которого может быть определена как природность. Авторское сознание в этих сочинениях как будто не вычленено из природы. Природа не только художественный объект, но форма мышления, бытия. Она и анализируется, и диктует свои способы выражения, свой угол зрения» 1.
МЕМУАРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С.Т. АКСАКОВА. «СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА», «ВОСПОМИНАНИЯ», «ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА»
Причины, побудившие писателя обратиться к мемуарному жанру, многочисленны. В литературе 1840-1850-х годов проявляется общий интерес к мемуарной прозе. Самыми заметными явлениями в русской литературе этого времени, связанными с мемуарными и автобиографическими формами, стали книга А.И. Герцена «Былое и думы», трилогия JI. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность».
Объясняя причины появления «Семейной хроники», A.C. Хомяков отмечал: «Снова перечувствовать прошедшее и другим рассказать перечувствованное – вот его единственная задача». И, наконец, может быть, самая главная причина была объяснена и сформулирована сыном писателя Иваном Аксаковым: «Кажется нам, история умственного и общественного развития в России едва ли может быть вполне понятна без частной истории семей, без оценки той степени участия, по-видимому, неразумного, самовольного, непрошеного, но тем не менее часто спасительного, которое в нашей личной и общественной судьбе приходится на долю семьи и быта, – непосредственному действию предания и обычая».
История семьи Багровых дает возможность писателю осмыслить тот путь, который проходит в своем духовном развитии русское дворянство. Воссоздавая спокойный, независимый от внешних обстоятельств и исторических событий мир русской семьи, писатель исследует причины духовной цельности или духовного падения человека. Аксаков не рассматривает своих героев с социальных позиций, а дает им нравственно-религиозные оценки. Один из главных героев «Семейной хроники» дед Степан Михайлович Багров, «полный господин не только над своей землей, но и над чужой», далеко не идеализирован автором: разрушительными как для него, так и для всей семьи оказываются вспышки неукротимого гнева. Однако Степан Михайлович обладает куда более ценным качеством, на которое обращает особое внимание Аксаков, – он наделен созидающей силой. Законы правды являются для него основополагающими: «Мало того, что он помогал, он воспитывал нравственно своих соседей! Только правдою можно было получить от него все. Кто раз солгал, раз обманул, тот и не ходи к нему на господский двор...».
Михайла Максимович Куролесов – главный герой второго отрывка из «Семейной хроники», герой принципиально другого, разрушительного характера. Потерявший человеческое лицо, приносящий только несчастье своей семье, жене, Прасковье Ивановне, крепостным, он умирает, так и не раскаявшись. Именно об этом больше всего сожалеет Прасковья Ивановна: «...я любила его четырнадцать лет и не могла разлюбить в один месяц, хотя узнала, какого страшного человека я любила; а главное, я сокрушалась об его душе: он так умер, что не успел покаяться».
Жизнь героев Аксакова согрета теплой верой в Бога; в трудные, переломные моменты своей жизни они обращаются к Богу и черпают в вере душевные силы. Прасковья Ивановна перед трагической встречей с мужем «стояла на коленях и со слезами молилась Богу на новый церковный крест, которые горел от восходящего солнца перед самыми окнами дома». Софья Николаевна, не в силах более выносить жестокостей мачехи, решилась на самоубийство, «... бедная девушка захотела в последний раз помолиться в своей коморке на чердаке перед образом Смоленской Божьей Матери, которым благословила ее умирающая мать. Она упала перед иконой и, проливая ручьи горьких слез, приникла лицом к грязному полу. Страдания лишили ее чувств на несколько минут, и она как будто забылась; очнувшись, она встала и видит, что перед образом теплится свеча, которая была потушена ею накануне; страдалица вскрикнула от изумления и невольного страха, но скоро, признав в этом явлении чудо всемогущества Божьего, она ободрилась, почувствовала неизвестные ей до тех пор спокойствие и силу и твердо решилась страдать, терпеть и жить».
«Детские годы Багрова-внука» (первоначально произведение было названо «Дедушкины рассказы») вышли в свет в год смерти Аксакова. Автор ставил перед собой задачу «написать такую книгу для детей, какой не было в литературе», книгу о «детском мире, созидающемся постепенно под влиянием ежедневных впечатлений». «Книга, – как отмечал писатель, – должна быть написана не подделываясь к детскому возрасту, а как будто для взрослых, и чтоб не только не было нравоучения (всего этого дети не любят), но даже намека на нравственное впечатление, и чтобы исполнение было художественно в высшей степени». Если Л. Толстой, поставивший перед собой близкую художественную задачу в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность», берет несколько эпизодов из детства и отрочества Николеньки Иртеньева, то Аксаков рисует девять лет жизни Сережи Багрова, строго соблюдая последовательность событий. Часто писатель обращается к одним и тем же деталям, подробностям жизни семьи, но представляет их по-разному, в зависимости от возраста героя: растет Сережа Багров, изменяется и его взгляд на знакомые вещи. Формирование внутреннего, нравственного мира ребенка складывается в первую очередь под влиянием семьи, природы и книг. В одном из первых критических отзывов на повесть «Детские годы Багрова-внука» С. Шевырев так определил характер главного героя: «...натура живая, но тихая, глубокая, внутренняя, зародыш силы скорее зиждущей и охранительной, нежели разрушительной и ломающей».
Обращаясь к извечной для русской литературы проблеме русского национального характера в «Семейной хронике», «Детских годах Багрова-внука» в других произведениях, Аксаков решает ее иначе, нежели Гоголь, бывший в это время близким другом семьи писателя. Он видит неизменные и здоровые начала в жизни России. Так один из очерков в «Разных сочинениях» – «Встреча с мартинистами» – содержит эпизод, близкий по сюжету к «Повести о капитане Копейки-не» Гоголя, но решенный в принципиально ином идейном плане. Офицер Балясников, подобно Копейкину, раненный, но только во время войны со Швецией, является к Аракчееву, чтобы добиться помощи. Как и Копейкин, он долго ждет в приемной, но лишь одна его фраза позволяет достучаться до забывшего нравственные принципы русского офицерства чиновника и решить все проблемы: «Извините, ваше высокопревосходительство, раненый офицер неотступно требует доложить вам, что он страдает от раны и ждать не может, и не верит, чтобы русский военный министр заставил дожидаться русского раненого офицера».
Несмотря на сложность, подчас трагичность событий, представленных в «Детских годах Багрова-внука» и в особенности в «Семейной хронике», С.Т. Аксаков создает картину русского мира, основанного на законах добра, любви, веры. Хомяков отмечал: «Об С.Т. Аксакове было сказано в “Русской беседе”, что он первый из наших литераторов взглянул на нашу жизнь с положительной, а не с отрицательной точки зрения. <...> чувство благоволения и любви, любви, благодарной небу за каждый его светлый луч, жизни за каждую ее улыбку и всякому доброму человеку за всякий его добрый привет, любви, укрепляющей душу против долгих страданий и умирявшей ее во время этих страданий, любви, дошедшей в последние дни до духовной радости, высказанной им смиренно и полголоса человеку, который его глубоко любил, но которого он не боялся испугать, – это чувство наложило на все произведения С.Т. Аксакова свою особую печать. Оно-то дает им их несказанную прелесть: оно делает их книгою, отрадною для всех возрастов, от юности, собирающей свои силы, чтобы схватиться с жизнью, до старости, ищущей душевного покоя, чтобы отдохнуть от нее».
Основные понятия
Мемуары, жанр записок, фактографичность, документальность, хроника как литературный жанр.
Вопросы и задания
1. Какие периоды можно выделить в творчестве С.Т. Аксакова?
2. Охарактеризуйте ранние литературные опыты писателя.
3. Как определил своеобразие творческой манеры С.Т. Аксакова И.С. Тургенев?
4. В чем причины обращения С.Т. Аксакова к мемуарным формам?
5. Каковы принципы оценки человека и человеческих взаимоотношений, которые дает писатель в мемуарных произведениях?
6. Каковы принципы изображения характера в «Детских годах Багрова-внука» ?
7. В чем особенности решения проблемы русского национального характера в творчестве С.Т. Аксакова?
Литература
Анненкова Е.И. Семья Аксаковых в истории русской культуры. В кн.: Абрамцево, материалы и исследования. Аксаковские чтения. 1985-1987. Вып. 2. М., 1989.
Войпголовская Э.Л. С.Т. Аксаков в кругу писателей-классиков. Документальные очерки. JL, 1982.
Лобанов М. С.Т. Аксаков. М., 1986.
Машинский С.И. С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество. М., 1973.* Покровский В.И. Сергей Тимофеевич Аксаков. Его жизнь и сочинения. М., 1912.
Хомяков A.C. Сергей Тимофеевич Аксаков. В его кн.: О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988.*
ГЛАВА 10
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 1850-1860-х ГОДОВ
«МРАЧНОЕ СЕМИЛЕТИЕ»(1848—1855).
В 1848-1849 годах по Европе прокатилась волна революций, среди которых февральская французская революция 1848 г. имела принципиальные последствия для русского общества: с нее «начинается царство мрака в России» (П. Анненков). Завершилась либеральная эпоха николаевского царствования с ее верой в человека, в победу разума и просвещения, в прогресс и совершенствование человеческого рода. В стране наступил период, получивший название «мрачное семилетие» и длившийся до 1855 г. (смерть императора Николая I).
Правительство, напуганное событиями в Европе, особенно остро начинает реагировать на обстоятельства внутри России. Жестоко подавляются крестьянские волнения, вспыхивающие в различных концах страны. Предпринимаются различного рода усмирительные меры в отношении оппозиционных настроений у передовой части русского общества.
Люди 40-х годов, цвет русского дворянства, для которых сама идея революции была неприемлема, тем не менее очень болезненно восприняли победу реакции в Европе и разрастающуюся ситуацию политического террора в России.
Особое внимание правительство уделяет учебным заведениям, стремясь пресечь возможное и имеющее место вольнодумство профессоров и студентов. Но главными объектами, на которых сосредоточено государственное «око», являются литература и журналистика. Учреждается особый комитет во главе с князем A.C. Меншиковым для проверки упущений цензуры в периодической печати с целью искоренения «вредного направления» в литературе. Спустя некоторое время создается постоянный комитет по делам печати, известный как «бутурлинский» (по имени его председателя).
В российских журналах этого времени запрещалось даже упоминать о чем-нибудь французском – всюду мерещилась связь с революцией. Так, «Современник» не смог опубликовать роман XVIII в. «Манон Леско» аббата Прево.
Для наведения порядка в общественной жизни официальные власти не гнушались ничем в выборе охранительных средств, к примеру, как и в декабрьскую пору 1825 г., в обществе существовала система осведомительства.
В апреле 1849 г. в Петербурге был разгромлен кружок революционно настроенной молодежи, которым руководил М.В. Буташевич-Петрашев-ский. Под следствием находилось 123 человека, из них 21, в том числе Ф.М. Достоевский, был приговорен к смертной казни, замененной в последний момент, уже после совершения всего предсмертного ритуала, разными сроками каторги.
По традиции преследованиям подвергались писатели, публицисты, журналисты. За повести «Противоречия» и «Запутанное дело» сослан в Вятку (1848) М.Е. Салтыков-Щедрин. В 1852 г. за некролог о Гоголе (но главная причина состояла в публикации «Записок охотника») высылается в свое имение Спасское-Лутовиново И.С. Тургенев. В связи с анонимным «пашквилем» по поводу высочайшего манифеста, посвященного европейским событиям, на подозрении у III Отделения находятся H.A. Некрасов и умирающий от чахотки В.Г. Белинский.
Однако, как и в эпоху николаевского террора, наступившего после восстания на Сенатской площади, в «мрачное семилетие» еще более активизируется духовная жизнь русского общества. Вынужденное молчание, замечает в 1849 г. Н.В. Гоголь, заставляет людей мыслить. Одним из подтверждений глубокой интеллектуально-нравственной жизни русской нации тяжелой семилетней поры является состояние литературного процесса 1848-1855 гг.
С точки зрения жанровой картины это время господства прозы, ее очеркового типа, идущего от «натуральной школы». Основные сочинения 50-х годов – «очерковые книги» самого разного плана: «Записки охотника» Тургенева, «Фрегат “Паллада”» Гончарова, севастопольские и кавказские очерки Толстого, «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина, «Очерки народного быта» Н.Успенского, «Очерки из крестьянского быта» Писемского, «Очерки и рассказы» Кокорева.
В середине 50-х годов в печати появляется роман «Рудин» Тургенева. Но в целом становление романного жанра произойдет позже – в самом конце 50-х – начале 60-х годов, когда в течение трех-четырех лет будут опубликованы «Дворянскоегнездо», «Накануне», «Тысяча душ», «Униженные и оскорбленные», «Мещанское счастье», «Отцы и дети» и др. Так начнется величайшая эпоха русского романа, приходящаяся на 1860-1870-е годы.
«Мрачное семилетие» не стало «паузой» в литературном развитии. Это был период поисков новой дороги в литературе, новых художественных принципов изображения действительности и человека. Многие писатели уже отчетливо осознавали недостаточность объяснения человеческого характера исключительно влиянием среды. Человека формирует жизнь во всем ее многообразии. Но для того, чтобы изобразить человека в его связях с миром, требовалось освоение новых литературных жанров, которые и воплощают эти связи.
Новыми в литературе 50-х годов стали мемуарно-автобиографические жанры: трилогия Л. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность», «Семейная хроника» С. Аксакова, «Былое и думы» А. Герцена) и др.
Все более заметно взаимопроникновение социального и психологического начал в изображении характера героя.
К 50-м годам относятся дебюты или «второе рождение» почти всех русских писателей второй половины XIX в. И среди них не только Достоевский, Толстой, Гончаров, Тургенев, но и литераторы второго ряда: А. Левитов, Ф. Решетников, Н. Успенский и др.
Период с 1846 по 1853 год дал небывалое явление в истории литературы. Ведущие журналы вообще перестают печатать стихи. По этому поводу очень точно сказал А.И. Герцен, что после смерти Лермонтова и Кольцова «русская поэзия онемела». Однако постепенно отношение к поэзии меняется, о чем свидетельствует содержание некрасовского «Современника» . Здесь начинает печататься цикл статей под общим названием «Русские второстепенные поэты», реабилитирующие поэзию. Одна из причин преодоления «равнодушия» к поэзии в 50-е годы состояла в интересе литературы этого времени к индивидуальной психологии, к человеческим переживаниям. Уже набирают силу такие поэты, как Н. Некрасов, И. Никитин, Н. Огарев, А. Майков, Я. Полонский, А. Толстой, А. Фет. Выделяются на литературном фоне поэтессы Е. Ростопчина, К. Павлова, Ю. Жа-довская, разрабатывающие в поэзии мотивы женского любовного чувства. Заметным явлением становится антологическая поэзия Н. Щербины.
В 50-е годы в течение всего лишь нескольких лет был создан ряд первоклассных драматических произведений Островского. Тургенева, Сухово-Кобылина, Писемского, Салтыкова-Щедрина, Мея.
В 1852—1853 гг. заметно обострились русско-турецкие отношения; их результатом явилась Крымская война.
В 1855 г. умирает Николай I. И хотя еще не закончилась война, но вся Россия чувствовала, что со смертью Николая I завершилась большая страшная эпоха и что больше так жить невозможно.
Это чувство возникало еще ранее, в 1853-1854 гг., но переломным оказался именно 1855 г. Этот год характеризуется и самым бурным за все время войны размахом крестьянских волнений.
30 августа 1855 г. пал Севастополь – трагическое событие, ставшее кульминацией войны и приблизившее ее развязку. Позорное поражение России в Крымской войне обнаружило несостоятельность крепостнической системы, нуждающейся в незамедлительном реформировании. Правительству совершенно ясно, что дальнейшее сохранение крепостного права грозит революцией.
ВРЕМЯ ДУХОВНОГО ПОДЪЕМА (1855-1859)
С середины 50-х годов, после жесточайшего политического террора, Россия переживает пору своеобразного духовного подъема. III Отделение, цензурные ведомства по инерции ведут борьбу с литературой и журналистикой, но перевес общественных сил и растущее настроение надежды на скорые перемены уже налицо.
Крестьянский вопрос, подготовка реформы становятся центральными и объединяют даже непримиримых противников, таких как западники и славянофилы, которые еще в годы Крымской войны занялись разработкой конкретных проектов освобождения крепостных крестьян, показав себя умелыми и опытными практическими деятелями и неуклонно сближая свои позиции в отношении к крепостному праву.
Подготовка крестьянской реформы необыкновенно консолидировала общество. Большинство представителей различных социальных группировок (либералы и демократы и колеблющиеся между либералами и демократами) было заинтересовано в ожидаемых переменах.
В атмосфере духовного подъема существенно изменяются тональность и содержание периодических изданий: сюда буквально хлынула общественная проблематика, заполнив все отделы – от художественного до «Смеси».
В это же время (1855-1856) развернулась борьба между демократами-радикалами, жаждавшими социальных преобразований и видевшими в искусстве своего помощника, и защитниками автономии искусства. Эту позицию независимости искусства от злобы дня, его самодостаточности особенно активно защищал талантливый критик и писатель A.B. Дружинин. Его называли идеологом «чистого искусства». В статье «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» Дружинин прямо напишет: «...искусство служит и должно служить само себе целью».
Отсутствие единодушия в творческой среде во взглядах на литературу, тем не менее, не повлияло на возобладание в ней крестьянской темы, на появление многочисленных произведений, связанных с жизнью простого народа.
В 1852 г. выходят «Записки охотника», вслед за ними – рассказы Писемского «Питерщик», «Леший», роман Григоровича «Рыбаки», рассказы Кокорева о городских низах, драмы Островского «Не в свои сани не садись». «Бедность не порок». В период 1853-1854 гг. тема народа господствует в поэзии Некрасова.
Поскольку «Записки охотника» находились под официальным запретом, наиболее принципиальными в свете обсуждаемой в эти годы проблемы художественного воссоздания «народного» и «национального» стали драмы «москвитянинского периода» А.Н. Островского. Мнения относительно Островского сразу же поляризовались. Критики петербургских журналов – и либералы, и демократы – резко нападали на славянофильские крайности молодого драматурга. В противовес им «молодая редакция» журнала «Москвитянин» выдвинула Островского на первое место в русской литературе. Теоретические положения редакции наиболее полное выражение получили в статьях Аполлона Григорьева – яркого и талантливого критика.
Не закрывая глаза на «язвы современности», сотрудники «молодой редакции» были уверены, что художники должны ориентироваться на те здоровые, самобытные основы, которые содержит в себе русская жизнь. По мысли Ап. Григорьева, «настоящий быт», исконные народные начала свободно развиваются и хранятся в патриархальном купечестве – главном герое пьес Островского. Характеры, выводимые на страницах его произведений, расценивались «молодой редакцией» как истинно народные.
Иначе отнесся к пьесам «москвитянинского периода» журнал «Современник» в лице его ведущего критика Н.Г. Чернышевского: он называл их «слабыми и фальшивыми».
ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ БОРЬБА НА РУБЕЖЕ 50-60-х ГОДОВ
1858 – год резкого размежевания революционной демократии и дворян-либералов, некогда бывших вместе. На авансцену выходит журнал «Современник». Идейный разрыв между его сотрудниками был обусловлен приходом сюда в 1855 г. в качестве ведущего критика Н.Г. Чернышевского, а затем и H.A. Добролюбова, возглавившего библиографический отдел журнала.
В противоположном Некрасову, Чернышевскому и Добролюбову лагере окажутся В. Боткин, П. Анненков, Д. Григорович, И. Тургенев, более склонные к реформаторским путям преобразования русского общества. Многие писатели либерально-западнической ориентации станут сотрудничать в журнале «Русский вестник» М.Н. Каткова.
Итак, на рубеже 1850-1860-х годов завершается процесс размежевания общественно-литературных позиций и возникают новые общественно-литературные тенденции. Все понимают, что центральный вопрос – вопрос о крепостном праве. Реформы становятся неминуемыми, но всех интересует их характер: освободят ли крестьян с наделом, «с землей», с наделом за выкуп или «без земли».
Радикальную точку зрения отстаивает журнал «Современник». После раскола 1856 г. в журнале укрепляет свои позиции Н.Г. Чернышевский. В 1858 г. отдел критики в журнале был поручен H.A. Добролюбову. Кроме Некрасова, Чернышевского и Добролюбова в «Современнике» в состав редакции входили М.Е. Салтыков-Щедрин, Г.З. Елисеев, М.А. Антонович и др. С 1859 г. журнал становится откровенно литер атурно-полити-ческим, используя художественную литературу в целях политической борьбы и пропаганды. Позиции «Современника» всецело разделяет приложение к журналу «Свисток» (1859-1863), в котором объединились сотрудники «Современника» и писатели-сатирики. Позднее возник близкий к ним сатирический журнал «Искра» (1859-1873) под редакцией поэта-сатирика B.C. Курочкина и художника H.A. Степанова, где сотрудничали Добролюбов, Елисеев, Вейнберг. «Современник» был активно поддержан возглавленным с 1860 г. Г.Е. Благосветловым журналом «Русское слово», в который были приглашены молодые сотрудники Д.И. Писарев, В.А. Зайцев, Н.В. Шелгунов, Д.Д. Минаев.
Решительными и непримиримыми противниками «Современника» стали журналы «Библиотека для чтения», ведущим критиком которой был A.B. Дружинин, «Отечественные записки», чей отдел критики, а потом и общая редакция находились в руках С.С. Дудышкина, «Русский вестник» во главе с М.Н. Катковым.
Особую позицию занимал и «Москвитянин» и славянофилы. Журнал славянофилов «Русская беседа», в котором основную роль играли А.И. Кошелев, Т.И. Филиппов и И.С. Аксаков, опубликовал статью К.С. Аксакова «Обозрение современной литературы», провозглашавшую антизападничес-кие идеи. Но в другой статье «Наша литература», вышедшей уже после смерти автора в газете «День», Аксаков с сочувствием отнесся к сатире Салтыкова-Щедрина в «Губернских очерках». Помимо этих печатных органов, славянофильские идеи развивались также в газете «Парус», издававшейся И.С. Аксаковым. В 1850-1855 гг. в «Москвитянин» пришла «молодая редакция» (А. Островский, затем А. Григорьев). Ее активными сотрудниками стали Т.И. Филиппов и Б.Н.Алмазов, которые несколько снизили анти-западнический тон своих выступлений. Позднее, в 1860-е годы традиции славянофилов во многом воспримут журналы братьев Ф.М. и М.М. Достоевских «Время» (1861-1863) и «Эпоха» (1864-1865).
Основная литературная борьба развернулась вокруг специфики так называемого «отражения» действительности и общественных функций искусства. Она велась Чернышевским, Добролюбовым, в меньшей степени Некрасовым, Салтыковым-Щедриным и их единомышленниками под флагом утверждения принципов критического реализма, как будто писатели и критики, с которыми велась полемика (И. Тургенев, А. Островский, JI. Толстой, П. Анненков, А. Дружинин и др.) настаивали на каком-то другом направлении в литературе и выступали против реализма. За словами о реализме скрывалось иное: стремление сделать литературу придатком общественной борьбы, уменьшить ее самостоятельное значение, снизить ее самоценность и самодостаточность, сообщить ей сугубо утилитарные цели. С этой целью был изобретен даже термин «чистое искусство», которым беспощадно клеймили писателей, воспевавших красоту природы, любовь, общечеловеческие ценности и будто бы равнодушных к общественным язвам и порокам. Для критиков радикального направления, ратовавших за реализм в литературе, в новых общественных условиях было недостаточным даже требование критического реализма. На первый план они выдвигали жанры политической сатиры. В программной статье Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» (1859) отвергались принципы предшествующей сатиры. Добролюбов был неудовлетворен тем, что русская сатира критиковала отдельные недостатки, тогда как должна была разоблачать всю общественно-государственную систему в России. Этот тезис послужил сигналом к осмеянию всей современной «обличительной» литературы как поверхностной и безвредной. Совершенно ясно, что автор имел в виду не столько собственно литературные цели, сколько цели политические.
В это же время радикальная критика «левого» толка высмеивает некогда так называемых «передовых» людей, ставших «лишними» и бесполезными. По поводу таких идей возражал даже Герцен, который отнес подобный смех к себе и не мог отказаться от прогрессивности исторических типов Онегина и Печорина.
Русские писатели и критики (Л. Толстой, И. Тургенев, Н. Лесков,
А. Писемский, А. Фет, Ф. Достоевский, П. Анненков, А. Дружинин и др.) не могли, конечно, пройти мимо унижения художественной литературы, мимо прямого декларирования несвойственных ей задач, мимо проповеди безрассудного утилитаризма и резко отрицательно реагировали на эти идеи радикальной критики крупными «антинигилистичес-кими» романами, статьями, рецензиями и высказываниями в письмах.
Опору для своих утилитарно-общественных взглядов на искусство радикальные критики нашли в теоретических трактатах, литературных статьях и художественных произведениях Чернышевского. Представление
о сущности искусства было изложено Чернышевским в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности»
С точки зрения Чернышевского, не «идея» прекрасного и вообще не прекрасное в искусстве является критерием и образцом прекрасного, а сама жизнь и прекрасное в природе, в жизни. Чернышевского не смущает то, что в жизни очень редко встречаются образцы истинно прекрасного. Само же искусство есть более или менее адекватное подражание действительности, но всегда ниже той действительности, которой оно подражает. Чернышевский выдвигает понятие идеала жизни, «как она должна быть». Идеал искусства соответствует идеалу жизни. Однако, по мысли Чернышевского, представление об идеале жизни у простого народа, и у других слоев общества различно. Прекрасное в искусстве – это то же самое, что и представление простого народа о хорошей жизни. А представление народа сводится к удовлетворению отчасти животных, отчасти вполне аскетических и даже убогих желаний: сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь и работать. Конечно, человек должен быть сыт, иметь крышу над головой, фактическое право на труд и отдых. Однако для русских писателей, с негодованием встретивших откровения Чернышевского, мысли о человеке не замыкалась на его материальных потребностях. Они мечтали о высоком духовном содержании личности. Между тем у Чернышевского все духовные потребности исключались из понятия о прекрасном или им не уделялось первостепенного внимания.
Исходя из «материального» представления о прекрасном, Чернышевский считал, что искусство призвано содействовать преобразованию действительности в интересах народа и претворению его понятий о прекрасном в жизнь. Писателю предписывалось не только воспроизводить то, чем интересуется человек (в особенности простой человек, человек из народа, крестьянин, простолюдин) в действительности, не только объяснять действительность, но и выносить ей приговор. Отсюда понятно, что искусство есть вид нравственной деятельности человека, что искусство отождествляется с нравственностью. Ценность искусства зависит от того, насколько оно выступает средством воспитания и формирования человека, преобразующего неприглядную действительность в «хорошую жизнь», в которой человек накормлен, обихожен, согрет и пр. Духовность человека может быть поднята не к высотам общечеловеческих идеалов, презрительно именуемых «абстрактными», «умозрительными», «теоретическими», а до вполне понятного уровня, не пересекающего границы нужных для поддержания жизни материальных претензий.
Литература с такой точки зрения есть не что иное, как служительница определенного направления идей (лучше всего – идей самого Чернышевского). Идея «нашего времени», писал Чернышевский, – «гуманность и забота о человеческой жизни».
В 1850-е годы Чернышевский напористо излагал свои эстетические взгляды не только в теоретических работах, но и в литературно-крити-ческих статьях. Обобщением его мыслей стала книга «Очерки гоголевского периода русской литературы». В ней он рассматривает Гоголя как основоположника литературы критического реализма. Однако при всем значении Гоголя этот писатель, по мнению Чернышевского, не вполне сознавал выраженные им идеи, их сцепление, их причины и следствия. Чернышевский требовал от современных ему писателей усиления сознательного элемента в их творчестве.
В наибольшей степени эта задача удалась ему в романе «Что делать?» – произведении достаточно слабом в идейно-художественном отношении, но наивно и полно воплотившем мечты автора о «хорошей жизни» и представление о прекрасном.
В романе преобладает рационалистическое, логическое начало, лишь несколько приукрашенное «занимательным» сюжетом, составленным из банальных ситуаций и фабульных ходов второсортной романтической литературы. Цель романа – публицистические и пропагандистские задачи. Роман должен был доказать необходимость революции, в результате которой будут осуществлены социалистические преобразования. Автор, который требовал от писателей правдивого изображения и почти копии действительности, сам в романе не следовал этим принципам и признавался, что от начала до конца извлек свое произведение из головы. Не было ни мастерской Веры Павловны, ни какого-либо подобия героев, ни даже отношений между ними. Отсюда возникает впечатление выдуманности и вымученности сочиненного идеала, насквозь иллюзорного и утопичного.