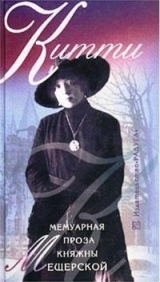
Текст книги "Китти. Мемуарная проза княжны Мещерской"
Автор книги: Екатерина Мещерская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Что делать?.. В это время мы подъезжали уже к конечной остановке.
Кондукторша поднялась к нам наверх и теперь, тряся за плечи то одного, то другого, будила обоих пьяных.
«Пожалуй, сейчас самая удобная минута!» – подумала я и встала.
– Давай сойдем вниз, – обратилась я к Андрюше.
– Зачем? Здесь тепло и уютно, на этом же троллейбусе и обратно поедем, – запротестовал тот.
– Пойдем, пойдем! Хоть на станцию взглянем, – настаивала я. Андрюша согласился.
Я пошла вперед. Пройдя две ступеньки, я чуть-чуть тряхнула рукавом. Кошелек мягко выскользнул и упал мне прямо в ноги; я мгновенно наступила на него и, тут же сделав вид, что споткнулась, схватилась за перила и, привставая, поморщилась, точно от боли.
– Что это? – Нога у меня подвернулась, я чуть не упала. – На что это я наступила? – Нагнувшись вперед, я схватила кошелек и, затаив дыхание, прошептала: – Кошелек…
Андрюша мгновенно тоже нагнулся. Я увидела близко его взволнованное лицо, он схватил мою руку, державшую кошелек, и сжал ее до боли.
– Молчи, молчи! – свистящим шепотом произнес он. – Молчи, иди вперед… Никто не видел, иди! – Андрюша был настолько взволнован, что на одну секунду мне даже показалось, что я действительно нашла чей-то кошелек.
В это время над нами, сверху, начали с шумом и руганью спускаться двое разбуженных гуляк, а за ними по лестнице, ворча, шагала по ступенькам и сама кондукторша.
У меня сразу отлегло от сердца. Слава Богу! Самое трудное было сделано, теперь оставалось только блаженствовать…
Но все оказалось не совсем так. На Андрюшу это происшествие произвело такое потрясающее впечатление, что я даже испугалась. Прежде всего он стал мучиться укорами совести: ему казалось, что кошелек потерял один из пьяных. Мне еле-еле удалось его в этом разубедить. Я положила «найденный» кошелек в свою сумочку и, приоткрыв ее немного, дала возможность Андрюше увидеть пачку аккуратно сложенных ассигнаций, которые навряд ли могли быть заработаны рабочими. Мои доводы как будто убедили Андрюшу, но теперь он стал с тревогой впиваться взглядом в других пассажиров, выходивших из вагона. Но ни один не походил на владельца набитого ассигнациями кошелька. – Да разве возможно, имея в кармане столько денег, оставаться таким хмурым, иметь такое недовольное выражение лица? – успокаивала я Андрюшу. – Ты подумай только: кто же, имея на руках такой кошелек, во всю дорогу ни разу не проверит, где он? Хорошо ли спрятан? Не потерян ли?
Но, несмотря на все мои доводы, мы добрых полчаса блуждали в темной сырой мгле по незнакомой станции, присматриваясь ко всем прохожим.
Андрюша никак не мог успокоиться. А потом вдруг наступило полное перерождение: его испуг и волнение уступили место ликующей радости, и теперь он жаждал только одного – как можно скорее пересчитать содержимое кошелька!
Мы решили вернуться на исходную точку нашего путешествия, а именно в Охотный ряд, подняться вверх по Тверской, и там, в здании Центрального телеграфа, открытого круглые сутки, удовлетворить свое любопытство.
Так мы и сделали.
– Господи! – прошептал Андрюша, сжимая в руке пересчитанные нами ассигнации, и светлое лицо его снова омрачилось. – Вот мы с тобой сейчас радуемся, а тот, кто потерял эти деньги, может быть, волосы на себе рвет…
– Не будем гадать, – ответила я. – Не он первый теряет, и не мы первые находим. Если не мы, то этот кошелек нашли бы другие. Лучше подумаем о том, что нам делать. Находка наша общая, значит, деньги пополам. Ну, что же ты собираешься покупать? – Задавая этот вопрос, я была готова к тому, что Андрюша заговорит о недорогом каком-нибудь костюме и черных лакированных полуботинках, которые давно были его мечтой; но он, ни минуты не колеблясь, ответил:
– Это твое, женское дело что-нибудь себе покупать, а я на свою половину приглашаю тебя танцевать! Да так, чтобы пыль столбом пошла! Ведь я все время мечтал найти клад!..
– Мне тряпки совсем не нужны, – сказала я, – а так как денег у нас с тобой достаточно, то давай обсудим, где мы побываем.
Было решено, что заветные деньги будут лежать до следующего воскресенья. А в воскресенье мы начинаем наш кутеж с того, что идем на дневное воскресное представление в цирк. Оттуда едем завтракать в «Метрополь». Потом пьем шоколад с пирожными в «Национале». Обедаем в 6 часов в «Савое», едем в «Оперетту», а после нее ужинаем в «Гранд-Отеле», где и танцуем до утра. К сожалению, из-за зимнего сезона все рестораны-«крыши» были закрыты.
Я никогда не забуду восторженного выражения лица у Анд-рюши в тот миг, когда в мраморной зале потух свет и под звуки джаза в фантастическом рисунке кружившегося фонаря поплыла, вместе с танцующими парами, вся зала.
Надо было видеть, какой лучезарной радостью светился Андрюша; эта радость сияла в его глазах, играла в улыбке, наполняла какой-то новой, мягкой грацией каждое его движение, придавала особое очарование каждому его, даже незначительному слову.
На три года я была старше, но Боже! Какая непроходимая пропасть лежала между этим большим ребенком, который еще не знал ни жизни, ни любви, и мной – женщиной, успевшей столько пережить и испытать. Он казался мне моим сыном, а я сама была человек, который, уцелев после кораблекрушения, плывет на жалком обломке дерева, вцепившись в него обеими руками, среди злобно вспенившихся волн грозно ревущего океана, который называется жизнью…
Зная, как жестока, как трудна, как безобразна бывает порою жизнь, я была счастлива дать этому милому существу, которого звали Андрюшей, хотя бы одно незабываемое и хорошее воспоминание.
Когда мы пили шампанское, Андрюша, виновато улыбнувшись, признался мне:
– Никогда я его не пил и думал, что оно необыкновенное, а это просто хорошее ситро с алкоголем, только и всего!
Когда мы заказывали какие-нибудь кушанья, то Андрюшу больше всего привлекали непонятные названия, вроде «оливье», «сотэ» и т. д.
– Давай закажем и посмотрим, что это такое! – восторженно шептал он мне.
Больше всего его поразил «соус с трюфелями», так как в его представлении трюфелями были только шоколадные конфеты.
От шампиньонов он решительно отказался, сделав при этом необычайно брезгливое выражение лица:
– Я их знаю, в деревне на лугу растут, где скот пасется. Это поганки, я их есть не буду, и ты, пожалуйста, тоже не ешь…
Мы веселились и танцевали до утра, а потом на оставшиеся деньги взяли такси и попросили шофера катать нас из одного конца Москвы в другой. А когда наступила минута прощания, Андрюша крепко пожал мне руку и вдруг совершенно неожиданно сказал:
– А знаешь, о чем я сегодня думал? Давай поженимся, брошу я к черту свою учебу! Будем вместе с тобой уроки западных танцев давать, хочешь?
– Милый Андрюша, – ответила я, – подумай лучше, не опаздываешь ли ты сегодня на работу? Посмотри, который сейчас час. Ведь тебе необходимо обтереться холодной водой, а то ты у станка твоего заснешь! Прощай до послезавтра, до нашего следующего урока! – С этими словами я нырнула в крыльцо нашего деревянного домика в Староконюшенном переулке.
Вскоре я перестала посещать «Метрополь». На долгое время оставила танцы. Андрюшу я больше не видела и не стремилась к тому, чтобы его встретить.
ПОД НОВЫЙ ГОД
Рассказ второй
(По подлинным письмам М. А. А.)
Однажды в канун Нового года мама с Димой Фокиным, моим вторым мужем, точно сговорившись, вдруг лишили меня моей обычной свободы. Я должна была встречать Новый год с ними.
Обычно мне легко удавалось сговориться с каждым из них в отдельности. Когда же они соединялись против меня вместе, я сдавала свои позиции.
Правда, причина, лежавшая в корне их просьбы, была достаточно серьезна, и потому я сдалась на их доводы довольно легко, хотя тут же впала в самое мрачное настроение. Наша домашняя обстановка с некоторого времени стала мне невыносима.
Новый год встречали у Пряников, в их большой просторной комнате. Под «Пряниками» теперь подразумевался один, оставшийся в живых Тинныч, который по-прежнему работал «учетчиком брадобреев» в парикмахерской, и грек Мелиссари Гуруни. Он служил в канцелярии греческого посольства, получая жалованье в валюте, и пользовался особыми магазинами и ежемесячным, особым пайком от посольства.
В 12-м часу ночи мы все сидели за их большим дореволюционным (и по размеру, и по яствам) столом.
Мама испекла традиционный новогодний пирог и на большом четырехугольном торте, тоже ее изготовления, выложила миндалем цифру наступавшего Нового года.
Ярко блестели начищенные ризы образов в Прянишниковском киоте. Перед ним теплилась зажженная восковая свеча, а большая красноватого стекла лампада лила свой ровный равнодушный свет так же, как много, много лет назад.
В ожидании полночи все отдались воспоминаниям: вспоминали прошедшие годы, и перед глазами грустной вереницей проходили тени дорогих умерших. Эта печальная цепь с каждым годом становилась все длиннее.
В разных уголках Москвы понемногу умирали друзья, и все меньше становилось тех, кто знал, помнил и навещал бывших миллионеров Прянишниковых.
Вспоминали веселые и печальные встречи других Новых годов, считали по пальцам, сколько лет прошло после того или иного события, спорили… вспоминали характеры, привычки умерших людей и вздыхали, вздыхали… А за фокинским высоким, до блеска начищенным самоваром, который, ворча, кипел и плевался горячими брызгами, сидела Аннушка Махрова. На все праздники она сползала со своего мезонина тихой, скользящей ящерицей и, оставив сына, невестку и внуков, сидела в обществе своих бывших благодетелей.
Еще сравнительно недавно она, сидя на своей деревенской картошке, овощах и на мешках муки, присланных братом Колей-Колькой (теперь председателем колхоза), совершенно холодно и равнодушно смотрела на то, как от голода и цинги умер Николай Иванович и как, голодная, грязная и немытая, умерла ее барыня и молочная сестра Тинна.
Но с тех самых пор, как Гуруни восстановил свое подданство и начал служить в греческом посольстве, Аннушка снова стала вползать в комнату Пряников и, притаившись, сидеть за самоваром.
Вот и теперь, медовым голосом вспоминая покойников и поддакивая общему разговору, она своими маленькими ярко-зелеными глазками зыркала по столу; в то время как взгляд ее впивался то в латвийские кильки, то в английскую ветчину, то в рижскую корейку, тонкие губы ее скупого и злого рта сжимались, проглатывая набежавшую слюну.
Тинныч, как всегда виновато моргая своими чудными, большими голубыми глазами, все бегал, проверял часы, все собирался включить радио, чтобы не пропустить бой часов на Спасской башне.
Гуруни раздраженно махал на него рукой.
– Нэ втыкай, нэ втыкай радый, – со своим неподражаемым южным акцентом говорил он, – када врэмя будэт, я сам воткну!..
А мама, все боясь, чтобы не остыл пирог, то укрывала его салфеткой, то говорила, что пирог «вспотел», и опять открывала его, и все суетилась, суетилась у стола.
Дима, чисто выбритый, в новом сером костюме, очень довольный собой, ходил, поглядывая мимоходом на себя в зеркало; он откупоривал и расставлял на столе бутылки с винами и показывал Тиннычу только что купленный им набор самого лучшего чая, из специального чайного магазина на Мясницкой улице.
Все эти люди и вся эта сутолока были скучны-скучны и вызывали в моей душе какую-то ноющую тоску.
Наконец Гуруни включил Красную площадь. Из черной бумажной круглой тарелки, весевшей на стене, в комнату ворвался отдаленный шум улицы, глухие гудки проезжавших автомобилей. Наконец раздался перезвон Спасских часов, а вслед за ним и первый удар, возвещавший полночь.
По старой традиции все выстроились перед киотом и погрузились в молитву.
Громкие звуки грянувшего оркестра и веселые такты «Интернационала» застали молившихся на коленях, за земными поклонами. Под звуки «Интернационала» это выглядело, мягко выражаясь, несколько необычно.
– Замалылись, дураки! – крикнул, смеясь, Гуруни, заядлый безбожник.
Тинныч как встрепанный вскочил с колен, выдернул шнур с вилкой от радио. «Интернационал» оборвался.
– Какое наваждение! – шептала мама, продолжая еще по инерции креститься.
Все стали целоваться, поздравлять друг друга. Дима, наливая, подносил всем рюмки, начали чокаться. Сели за новогодний ужин.
Но для пожилых людей он длится недолго. После двух-трех рюмок все уже опьянели, возбуждение быстро уступило место усталости, все ели нехотя, и каждый втайне мечтал о постели. В час ночи, оставив почти весь ужин на столе, пожелав друг другу спокойной ночи, все разбрелись по своим углам, и вскоре самый разнообразный храп стал раздаваться со всех сторон.
Я лежала открыв глаза, и чем глубже все вокруг меня погружалось в сон, тем меньше мне хотелось спать.
Вдруг я вспомнила о том, что на всех площадях Москвы установлены елки, что перед ними на наскоро устроенных подмостках будут выступать артисты. Потом я вспомнила о том, что из нашей квартиры многие жильцы ушли встречать Новый год к знакомым; следовательно, двери квартиры нашей останутся без предохранительной цепочки, а потому… потому… сердце мое забилось вдруг так сильно, и чувство неизъяснимой радости охватило все мое существо!..
Даже сама не отдавая себе отчета, куда я иду и зачем, повинуясь какому-то совершенно мне непонятному зову, я, словно вор в темноте, стала быстро одеваться, боясь только одного: чтобы кто-нибудь не проснулся.
Ах, скорее на улицу, скорее к людям, только бы не оставаться здесь, в этом царстве мертвых…
Я всегда не любила сон; недаром он олицетворяет смерть. Мне всегда было жаль спать. Именно жаль.
«Ведь жизнь идет, – думала я, – бегут секунды, минуты, часы, и то время, которое мы отдаем сну, это драгоценное время мы воруем у себя, у своей жизни…» Когда я вышла на улицу, она была очень оживлена.
Спешили опоздавшие на встречу Нового года. Были и такие, которые уже встретили. В большинстве случаев это были молодые супруги с маленькими, заснувшими у них на руках детьми, спешившие к себе, на покой. Большинство же москвичей еще сидело за ужином.
Мне сразу стало очень весело, едва я очутилась на улице и на свободе. Шла я к Арбатской площади, еще не зная, куда направить свой путь. Мороз был небольшой, зато поднималась метелица, пока еще шаловливо смахивавшая с крыш колючую, приятно обжигавшую лицо снежную пыль.
Я пересекла площадь и у «Художественного» кино встала на остановке автобуса, шедшего по Воздвиженке. Мне пришло в голову поехать на Театральную площадь и посмотреть на уличные елки и народное гулянье.
Послушать толпу, народ, уловить отдельные фразы, настроение и унести это все в своем сердце. Я очень любила растворяться в волне людей; перестать существовать и жить чужой жизнью…
Как ни странно, но на остановке никого не было. Я пристально вглядывалась в Арбат, по направлению к Смоленской площади, ожидая появления желанного автобуса. Но, кроме личных машин и такси да редко мелькавших пешеходов, никто не пересекал площади.
– Скажите, здесь останавливается второй номер автобуса? – спросил меня подошедший человек.
– Здесь, – не глядя на него, ответила я, продолжая всматриваться в даль.
– А он давно не проходил? – спросил меня тот же голос.
– Я только что подошла, – ответила я, не оборачиваясь.
– И не дождетесь, – вдруг весело возвестил голос, – не дождетесь, потому что остановку перенесли…
– Да что вы? – испугалась я отчего-то и наконец взглянула на говорившего. Только тогда я поняла, что он шутит. Глядя на меня, он улыбался и продолжал:
– Это я говорю только для того, чтобы вы на меня посмотрели. – Он еще больше заулыбался.
Передо мной стоял человек лет пятидесяти. Из-под котиковой круглой шапочки поблескивала седина виска. Черный котиковый воротник шалью резко оттенял бледность худого, немного даже болезненного лица. Черты его были тонки; большое самолюбие, доброта, ум, быть может, даже подчас едкий до жестокости, – вот то, что я прочла на лице незнакомца. Он заинтересовал меня, и я охотно вступила с ним в разговор.
– Увидев вас, одиноко стоявшую на остановке, – сказал он, – я, по правде говоря, удивился. Мне показалось странным, почему женщина ваших лет в такой поздний час новогодней ночи стоит здесь одна, вместо того чтобы сидеть в кругу семьи и друзей за веселыми тостами за праздничным столом. И я решил во что бы то ни стало спросить вас об этом, конечно, если вы соблаговолите почтить меня своей откровенностью.
– Если вам это интересно, то с удовольствием, – согласилась я и рассказала ему без утайки всю правду, вплоть до того момента, как ночью, под общий храп, в темноте оделась и убежала на улицу. – А вы? – спросила я в свою очередь. – Почему вы очутились на улице в новогоднюю ночь?
– Постараюсь ответить вам с той же искренностью, – сказал он и, вздохнув, вдруг сразу потупился и сделал паузу, словно ему не так легко было произнести какие-то слова. – Видите ли, – медленно начал он, – еще совсем недавно, еще в прошлом году, я не был одинок… Была жива моя жена… А вот этот год я остался один… Конечно, у меня много друзей, очень много. Особенно семейных, у которых мы часто бывали вместе с женой. Все они наперебой звали меня встречать Новый год с ними, но подумайте сами: как бы я сидел среди них, знавших мою жену, сидел бы в той комнате, где мы столько раз с ней бывали вместе?.. И чтобы избежать этого, я принял приглашение одного сослуживца. Он большой инженер, заядлый холостяк, не один раз разведен. Компания у него встречала Новый год большая и довольно интересная: актеры, певцы, балерины, художники…
Ну, думаю, пойду развлекусь. Внес пай, пошел, выпил первый бокал шампанского, прослушал несколько веселых тостов, посидел немного, и такая острая тоска меня взяла, что я без оглядки убежал: вышел в соседнюю комнату, якобы папироску выкурить, а сам надел шубу да и был таков!.. Теперь вот стою перед вами, позвольте представиться: Михаил Александрович Архангельский.
В ответ я назвала себя.
– Куда же мы с вами направим свой путь? – спросил он.
– На Театральную, посмотреть иллюминованные елки.
– Давайте пешком? – предложил он.
Я согласилась, и мы пошли, не обращая внимания на обгонявшие нас автобусы.
Так неожиданно в поздний час новогодней ночи я очутилась в обществе очень интересного и умного собеседника.
Чем больше я разговаривала с этим человеком, тем больше меня охватывало какое-то очень странное чувство: казалось, он был мною прочитан где-то и не один раз я углублялась в образ этого до мелочей, до самой последней черты понятного мне человека. Я даже видела его в театре. Типичный русский интеллигент. Пылкий романтик в душе, а в жизни подчас отвратительный циник. Человек со взлетом души, но с плавниками вместо крыльев, полный благородных порывов, с тоской о красоте, ненавистник пошлости, но вечный ее раб и всегда безнадежный неудачник. Словом, один из героев нашего великого Антона Павловича Чехова.
Театральная площадь с огромной иллюминованной елкой и веселившаяся молодежь не тронули меня. Громкоговоритель хрипло и фальшиво передавал на всю площадь танцы. Группа молодых людей с гармошкой в руке орала свои песни, девушки взвизгивали в лихих частушках. Все были пьяны, и лица у всех были глупые и противные. Что касается Михаила Александровича, то, глядя на всю эту картину, он весь преисполнился желчью, и оба мы мечтали поскорее удалиться от этой галдевшей площади. Мы шли, оставляя за собой улицы, переулки, пересекая широкие московские площади.
Все во мне померкло, кроме одной ненасытной жажды: глубже проникнуть в незнакомца, ближе узнать эту душу, этот новогодний подарок, который я так неожиданно получила.
Мы все говорили и говорили. Повалил снег. Проходя мимо какого-то здания, Михаил Александрович показал мне на него рукой.
– Как вы к этому относитесь? – спросил он. В белой завесе падавшего снега я разглядела очертания церкви.
– Я верю, но…
– Никаких «но», – резко оборвал он меня. – Значит, не верите. В вопросе религии может быть только «да» или «нет».
– Если так, то «да». Я только хотела оговориться, что христианская религия со всей ее обрядовой стороной и священниками мне чужда.
Эти слова привели Михаила Александровича в настоящее исступление. В религии он был неистовый фанатик и самый ярый церковник.
И о чем только мы не говорили в эту ночь… Утро застало нас на Гоголевском бульваре в самом горячем споре о французских композиторах; дело шло о Дебюсси и Равеле, которых Михаил Александрович не признавал, называя их декадентами «пустых звучаний». Он признавал только русскую музыку и выше «Могучей кучки» ничего себе представить не мог. Лишенный распоряжением нашего правительства колокольного звона, он упивался колоколами в «Граде Китеже», в «Иване Сусанине» и в «Борисе Годунове».
На высоком черном пьедестале сгорбленный Гоголь сидел весь покрытый снегом, напоминая маленькую снежную горку. Мы сидели против великого писателя на скамейке, тоже заваленные снегом, хотя, слава Богу, к утру он перестал идти.
Я вся посинела и дрожала не то от холода, не то от той леденящей пустоты, которой был полон мой собеседник, от его одиночества, от его тоски и от той обреченности, которой веяло от всей его личности.
Как согреть его? Как помочь ему?.. Я прекрасно понимала, насколько я дорога и нужна ему в эти минуты. Ему необходимо было выговориться, облегчить себя. Ему нужен был слушатель, и, поскольку им оказалась женщина, он был счастлив.
Женщина умеет терпеливее выслушать и если не понять, то по крайней мере сделать вид, что понимает.
Я никак не могла проститься с ним и уйти, казалось, он больше всего боялся этой минуты.
– Ах, я не увижу вас больше, – с тоской говорил он. – Ну когда, когда же мы встретимся? – спрашивал он тревожно.
Я окинула взглядом Арбатскую площадь и увидела с правой ее стороны почтовое отделение.
– Вот, – я указала на него, – пишите мне туда, на мое имя до востребования… Я немного освобожусь от разных дел, и тогда увидимся… А вы пока пишите, я буду отвечать.
Между прочим, так говорила я многим. Первое, что я говорила, когда видела, что человек почему-либо тянется ко мне. Письма раскрывают всё, как бы человек ни лгал в жизни, какие бы «позы» он ни принимал, какие бы маски ни надевал. Слог, обороты, стиль, даже сам почерк могут раскрыть нечто самое затаенное в человеке, нечто такое, что он тщательно от всех скрывает.
Было у меня по отношению к этому человеку одно подозрение. Когда настало утро, я смогла как следует рассмотреть его дотоле скрытое в полутемноте лицо. И на этом лице я прочла то, что в первую минуту заставило мою душу брезгливо отшатнуться. Чуть заметное подергивание мускулов лица в минуту, когда он взволнованно о чем-нибудь спорил, иногда какое-нибудь размашистое, нерассчитанное движение руки, а главное, что-то маниакальное во взгляде – все это, вместе взятое, выдавало в нем алкоголика. Хотя то, с какой тщательностью, чистотой и даже, можно сказать, шиком он был одет, показывало, что он только пристрастен к вину, но рабом его не успел стать, а следовательно, не успел и опуститься. Может быть, всему виной его одиночество, тоска по умершей жене?
Скажу искренно: этот человек сам по себе ничем меня не привлекал. Он стал мне чересчур ясен с одного только свидания, но… Я не всегда думаю только о себе.
Можно ли равнодушно пройти мимо человека, который страдает, пройти мимо его одиночества, его тоски, которую я так ясно ощутила и которая легла на мою душу тяжелым камнем и на время даже придавила меня?
Может быть, удастся какими-нибудь средствами спасти его? И прежде всего я решила затеять с ним самую живую переписку, это развлечет его. Потом мне захотелось нарушить его одиночество. Он создан для брака. Я задумала его женить. Тотчас же в моем представлении встали две кандидатуры. Первой была Валя. В своем очередном браке она очень мучилась с молодым и легкомысленным, всюду ей изменявшим мужем. Ее мечтой был человек пожилых лет.
Второй была Анна Павловна Б., наша соседка по двору в Староконюшенном переулке, только что овдовевшая женщина лет 40, добрый, славный человек и чудная хозяйка.
Но для осуществления моего плана следовало близко подружиться с моим новым знакомым, и в этом мне должна была помочь наша с ним переписка.
С таким твердым намерением я рассталась с Михаилом Александровичем. Придя домой, я за утренним кофе рассказала Диме о моей встрече и о моих планах. Выслушав меня, Дима стал хохотать как сумасшедший, чем меня не только до крайности обидел, но даже оскорбил.
Не придавая значения этикету, который не дозволяет женщине писать мужчине первой, я, полная своими планами и желанием сделать доброе дело, написала одно за другим два письма Михаилу Александровичу, а зайдя на почту, на другой день и сама получила от него весточку. Привожу это первое письмо полностью:
«Екатерина Александровна!
Все время нахожусь под сильным впечатлением нашей столь необычной встречи. Боюсь, что я оставил о себе самое нелепое впечатление. По крайней мере я был прямодушен и вполне искренен. О Вас у меня сохранилось самое лучшее воспоминание. Я очень сожалел бы, если бы наше знакомство пресеклось столь же неожиданно, как и началось, поэтому с нетерпением жду если не встречи, то по крайней мере Вашего письма. Это не дерзко – вы мне обещали. Итак, жду с нетерпением от вас вестей, хотя бы самых кратких… А может быть, все это лишь бред моей больной души? Нет, нет; ведь это было наяву! Не правда ли? Хочу Вас снова видеть, слышать. А ведь это так просто сделать. Но, повторяю, на все Ваша всемилостивейшая воля.
До скорого свидания, о котором уже мечтает
Ваш М. Архангельский».
О моих планах я рассказала и Вале, и Анне Павловне. На общем совете было решено, что я буду с ним переписываться, но видеться не буду. За это время мы подготовим их (обеих) встречу с ним в обществе. После знакомства нам всем будет ясно, понравился ли он кому-либо из них и какая из двоих понравилась ему. Вместе с тем Михаил Александрович прислал мне второе письмо:
«…Я думал на другой день: проснется моя странная, случайная незнакомка утром и скажет: бррр… что-то вчера полуфривольное было, ну да ведь Новый год! И даже тени воспоминаний не останется. Зачем же надобно писать? Чтобы это письмо, пролежав долгое время на почте, в истертом, замызганном виде было брошено в мусорный ящик, а может быть, кто-нибудь от скуки прочтет и скажет автору надгробное слово: „Какой глупец!“
И вдруг мне подают на почте целых два письма, я широко открыл глаза и спросил девушку, не спутала ли она инициалы, но все оказалось в порядке. Я трепетно вскрыл их оба тут же на почте и был умилен и растроган их содержанием. Мне стало стыдно, и я почувствовал, насколько же неизмеримо стою ниже Вас. Я тотчас же пришел и сел писать Вам. Верьте мне, что это воистину было так! Особенно растрогало меня Ваше первое письмо. Оно (помимо Вашей воли, вероятно) было таким родственно близким и даже нежным, не потому, понятно, что я Вам вдруг стал близким, а очевидно, потому, что этой заботливостью и нежностью к людям Вы вообще одарены безмерно. Есть такие редкие, исключительные женщины, это воистину сестры милосердия человечества.
„Мой новогодний друг“ – Вы так меня назвали в Вашем письме. Разве это не трогательно! А я боялся (чего, не знаю) написать Вам. Ограниченные люди всегда самолюбивы. Я самолюбив – следовательно, ограничен. А Вы даже не думали, что подумают о Вас, и удобно ли женщине писать первой, и какая судьба постигнет Ваше письмо, а просто написали, и все. А я? Ничтожество, обреченный человек, жалкий и неисправимый. Вы коснулись одного (из моих) больных мест – пьянства. А пьянство – разве это не синоним ничтожества физических и духовных свойств человека? Мне кажется, что Вы вообще замечательный человек и при всей Вашей трогательной заботливости к другим сами нуждаетесь в заботе и помощи…» и т. д.
«Милый, дорогой человек, – подумала я, – как он себя бичует и как бесстрашно и благородно он признался в пьянстве!»
Но, зайдя на другой день на почту (тоже на всякий случай), я получила третье, правда, коротенькое письмо:
«Екатерина Александровна!
Вчера послал Вам второе письмо. После моего молчания Вы вдруг тоже получите сряду два письма. Быть может, не такого милого и теплого склада, как Вы мне написали, но Вы ведь женщина, а я мужчина! Мужчина груб, самонадеян, самолюбив и Непосредственен, как истый самец. Женщина – ему антипод! А если бы было иначе, то вообще бы ничего не было, ни жизни, ни людей, ни переживаний! И не сердитесь на меня, моя хорошая и милая Катюша (простите, что я назвал Вас этим именем). Вы помните, я спрашивал вас, как лучше и нежнее назвать Екатерину? Не сердитесь! Я хуже Вас неизмеримо, но и я могу быть нежен. И я испытываю к Вам величайшую нежность!»…
После этих неожиданно вырвавшихся чувств идет уже настоящий монолог одного из чеховских персонажей:
«…я хотел бы встретить женщину, которая бы любила мужчину не за ум, красоту, богатство, а любила бы просто как человека, каков он есть в своей неприглядности, со всеми недостатками. Женщина, она любит мишуру, внешний блеск, фрак, манишку и не хочет знать, что находится за крахмальной манишкой. А иногда и под грубой, грязной тканью бьется нежное и сильное сердце.
Но вы мне уже сказали: в Вашем замке я ничего не могу увидеть, и даже Вас!!
Мне это грустно и горько. Я готов служить Вам, повсюду следовать за Вами, излечиться от всех скверн, готов сделать все во имя Ваше»… и т. д.
Прочтя все это, я подумала, что начинаю нравиться этому человеку и что надо кончать нашу переписку и скорее «переключить» его на совершенно другой женский образ.
В Староконюшенном переулке, во дворе, недалеко от «знаменитого» деревянного дома, который когда-то арендовали Прянишниковы, стояло удлиненное здание конюшни, принадлежавшее дому и сдававшееся вместе с ним в аренду. В одной его части стояли прянишниковские лошади, а другая часть была каретным сараем.
После революции сарай и конюшни долго пустовали, потом там одно время стояла корова, привезенная Аннушкой из деревни. Затем, после распоряжения правительства о запрещении держать скот в центре Москвы, Аннушка свою корову продала, а все здание стал переоборудовать под жилье некий богатый застройщик. Это был известный доктор (терапевт), которому правительство пошло навстречу. Он был женат на женщине с тремя детьми (от первого мужа).
Впоследствии этот доктор пережил много тяжелого и наконец умер от разрыва сердца.
Оставшаяся после него вдова и была та самая Анна Павловна, которую я прочила в жены моему «новогоднему другу».
После смерти мужа у нее тотчас же отобрали часть обстановки и вселили к ней в дом чужих людей. Однако две комнаты с обстановкой ей оставили.






