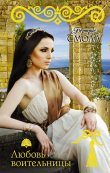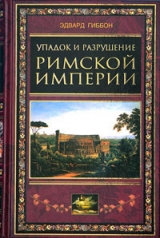
Текст книги "Упадок и разрушение Римской империи (сокращенный вариант)"
Автор книги: Эдвард Гиббон
Жанр:
Педагогика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 86 страниц) [доступный отрывок для чтения: 31 страниц]
Диоклетиан, словно желая, чтобы работу карателя выполняли другие, выпустил в свет свой эдикт против христиан лишь после того, как сложил с себя сан императора. Характер и положение его соправителей и преемников иногда понуждали их усилить, а иногда заставляли на время приостановить выполнение этих суровых законов, и потому мы не сможем составить себе верное и ясное представление об этом важном периоде в истории церкви, если не рассмотрим отдельно положение христианства в разных частях империи в течение тех десяти лет, которые прошли между первыми эдиктами Диоклетиана и окончательным установлением мира для церкви.
Для Констанция при его мягком нраве и человечности угнетение любой части его подданных было отвратительно. В его дворце главные должности занимали христиане. Он любил этих людей, высоко ценил их верность и не имел ничего против их религиозных принципов. Но пока Констанций был в низшем сане цезаря, он не имел власти открыто отвергнуть эдикты Диоклетиана или не подчиняться приказам Максимиана. Однако он своим авторитетом смягчал страдания, о которых сожалел и которые были ему ненавистны. Он неохотно согласился на разрушение церквей, но осмеливался защищать самих христиан от ярости черни и от суровости законов. Галльские провинции (к которым можно, вероятно, причислить и провинцию Британия) были обязаны царившим там необычным для этого времени спокойствием заботливому заступничеству своего верховного правителя. Но Датаний, наместник Испании, то ли от усердия, то ли по политическим причинам предпочитал выполнять принятые явно постановления императоров, а не вникать в тайные намерения Констанция, и вряд ли можно сомневаться в том, что время его управления провинцией было запятнано кровью нескольких мучеников. После своего возведения в наивысший и давший ему независимость сан августа Констанций смог дать полную волю своим добродетелям. Несмотря на то что его правление было коротким, он успел создать систему терпимости и оставил в наследство своему сыну Константину пример этой терпимости и наказ следовать той же системе. Его удачливый сын, как только вступил на престол, сразу же объявил себя защитником церкви и в конце концов стал первым императором, который открыто исповедовал и утверждал христианскую веру. Причины, побудившие его принять христианство, многообразны и могли быть порождены симпатией, политикой, убеждениями, угрызениями совести или ходом того переворота, который при могучем влиянии этого императора и его сыновей сделал христианство господствующей религией Римской империи. Описание этих причин составляет очень интересную и важную главу в третьем томе нашей истории. Сейчас же достаточно отметить, что каждая победа Константина приносила какое-то облегчение или пользу церкви.
Провинции Италии и Африки пережили недолгие, но жестокие преследования христиан. Там суровые постановления Диоклетиана строго и с радостью исполнял его соправитель Максимиан, который уже давно ненавидел христиан и наслаждался кровопролитием и насилием. Осенью первого года гонений два императора встретились в Риме, чтобы отпраздновать свой триумф, и несколько жестоких законов, видимо, появились в результате их тайных бесед, а представители власти сильнее усердствовали в присутствии своих государей. После того как Диоклетиан сложил с себя пурпур, Италией и Африкой управлял Север, и они были беззащитны перед яростью его господина Галерия. Среди мучеников, пострадавших в Риме, внимания потомков заслуживает Адаукт. Он был родом из знатной италийской семьи и, поднимаясь по дворцовой службе, занял важную должность казначея личных поместий императора. Адаукт тем более заслуживает внимания, что он был, видимо, единственным человеком с высоким положением в обществе, который был казнен за все время этого всеобъемлющего гонения.
Мятеж Максенция немедленно вернул покой церквам Италии и Африки, и тот самый тиран, который угнетал все прочие разряды своих подданных, проявлял себя справедливым, человечным и даже пристрастным по отношению к пострадавшим христианам. Он зависел от их благодарности и любви и вполне естественно предполагал, что страдания, которые они перенесли, и опасности, которых они по-прежнему ожидали от его самого непримиримого врага, обеспечат ему самому верность этой партии, уже сильной благодаря своей многочисленности и богатству. Даже поведение Максенция по отношению к епископам Рима и Карфагена может считаться доказательством его веротерпимости, поскольку даже самые православные государи приняли бы точно такие же меры к своему духовенству. Первый из этих прелатов, Марцелл, привел столицу в смущение, наложив строгое покаяние на очень многих христиан, которые во время гонений отреклись от своей веры или скрывали ее. Гнев враждующих партий часто прорывался жестокими бунтами, верующие проливали кровь верующих, и изгнание Марцелла, у которого благоразумие, видимо, было слабее религиозного пыла, оказалось единственной мерой, способной восстановить мир в сбитой с пути римской церкви. Поведение Мензурия, епископа Карфагенского, выглядит еще более достойным осуждения. Один дьякон из этого города выпустил в свет памфлет против императора. Этот обидчик государя укрылся в епископском дворце, и епископ, хотя было немного рановато заявлять о неприкосновенности церкви, отказался выдать его служителям правосудия. За это преступное сопротивление Мензурий был вызван в суд и вместо положенных по закону смерти или изгнания после короткого допроса получил разрешение вернуться в свою епархию. Христианские подданные Максенция жили так счастливо, что, если им было нужно раздобыть для себя мощи мучеников, они всегда были должны приобретать эти останки в самых дальних провинциях Востока. Известен рассказ об Аглае, знатной римлянке из консульской семьи, владелице такого огромного имения, что для управления им были нужны семьдесят три служащих. Один из них, Бонифаций, был любимцем своей госпожи, а поскольку Аглая совмещала христианское благочестие с любовью, рассказывают, что он делил с ней постель. Богатство Аглаи позволяло ей удовлетворить ее благочестивое желание владеть какими-нибудь священными реликвиями с Востока. Она вручила Бонифацию большую сумму золотом и много благовоний, и ее любовник в сопровождении двенадцати конников и трех закрытых колесниц предпринял далекое паломничество в город Таре в Киликии.
Эдикт Галерия о веротерпимости
Кровожадный Галерий, первый и главный инициатор гонений, был страшен для тех христиан, которые, на свое несчастье, оказались в подвластных ему областях империи, и можно с большой вероятностью предположить, что многие люди из средних слоев общества, которых не приковывали к родным местам ни цепи богатства, ни цепи бедности, бежали с родины и искали убежища на Западе, где обстановка была мягче. Пока Галерий командовал лишь армиями и провинциями Иллирика, ему было трудно найти достаточное количество мучеников в этом краю воинственных людей, где проповедников Евангелия принимали холоднее, чем в любой другой части империи. Но когда он достиг высшей власти и стал управлять Востоком, то дал самую полную волю своему усердию в служении суеверию и своей жестокости и сделал это не только в провинциях Фракия и Азия, которые находились под его непосредственным управлением, но также в Сирии, Палестине и Египте, где жестокие приказы своего благодетеля Галерия в точности исполнял Максимин, удовлетворявший при этом свои собственные наклонности. Частые неудачи честолюбивых замыслов Галерия, опыт, приобретенный за шесть лет гонений, и полезные размышления, которых потребовала от Галерия эта долгая, медленная и болезненная смута в государстве, в конце концов привели его к убеждению, что даже самых мощных усилий деспотизма недостаточно для того, чтобы истребить целый народ или уничтожить его религиозные предрассудки. Желая исправить вред, который причинил, он выпустил в свет от своего имени и от имени Лициния и Константина эдикт для всей империи. После перечисления всех пышных императорских титулов там было сказано следующее:
«Среди занимавших наш ум важных забот о благе и целости империи мы имели намерение все исправить и восстановить в соответствии с древними законами и общественным порядком римлян. Особенно мы желали вернуть на путь разума и природы заблуждающихся христиан, которые отвергли религию и обряды, установленные их отцами, сочинили, самонадеянно презрев обычаи старины, причудливые законы и мнения по воле своего воображения и собрали вокруг себя разнородное сообщество из жителей различных провинций нашей империи. Поскольку эдикты, которые мы издали, чтобы силой насадить почитание богов, подвергли многих из христиан опасности и бедствиям, многие из них при этом погибли, и еще больше было тех, кто, упорствуя в своем нечестивом безумии, оказался за пределами всех публичных религий, мы желаем распространить на этих несчастных людей наше обычное милосердие. Поэтому мы позволяем им свободно исповедовать их личные взгляды и собираться в их молитвенных домах без страха и вреда с тем условием, чтобы они всегда сохраняли должное уважение к установленным законам и властям. Другим указом мы сообщим о нашем желании судьям и гражданским чинам на местах и надеемся, что наша снисходительность побудит христиан молить бога, которого они чтят, о безопасности и процветании нашем, их собственном и нашего государства». Обычно правду о тайных побуждениях, определяющих поступки правителей, следует искать не в словах их эдиктов и манифестов, но это были слова умирающего императора, и, может быть, его состояние можно считать доказательством его искренности.
Подписывая этот эдикт о веротерпимости, Галерий был уверен, что Лициний охотно подчинится желаниям своего друга и благодетеля, а Константин одобрит любые меры, полезные для христиан. Но император не рискнул вписать во вводную часть эдикта имя Максимина, согласие которого имело первостепенную важность и который через несколько дней после этого унаследовал власть над азиатскими провинциями. Однако в первые полгода своего царствования Максимин подчеркнуто подчинялся мудрым советам своего предшественника, и, хотя он не снизошел до того, чтобы упрочить покой церкви официальным эдиктом, его префект претория Сабин отправил всем наместникам и должностным лицам его провинций циркуляр, где много и цветисто говорилось об императорском милосердии, было признано, что упорство христиан неодолимо и было дано согласие на тайные собрания этих страстных почитателей своего бога. Вследствие этих распоряжений очень много христиан были выпущены из тюрем или освобождены из рудников. Исповедники вернулись в свои родные края, распевая победные гимны, а те, кто согнулся под напором бури, теперь со слезами каялись, добиваясь, чтобы их приняли обратно в лоно церкви.
Но это обманчивое спокойствие было коротким. Христиане Востока совершенно не могли надеяться на своего государя еще и из-за его характера. Господствующими страстями в душе Максимина были жестокость и суеверие. Первая подсказывала способы преследования, второе указывало для него жертвы. Император был преданным почитателем богов, увлеченно изучал магию и глубоко верил в предсказания прорицателей. Пророки или философы, которых он чтил как любимцев Неба, часто становились наместниками провинций и получали доступ на его самые тайные совещания. Они легко убедили Максимина, что христиане побеждают благодаря упорядоченности своих рядов и дисциплине, а язычество слабо в основном из-за отсутствия единства и строгого порядка подчиненности у служителей веры. Поэтому была создана система управления, явно скопированная с церковной. Во всех крупных городах империи по приказу Максимина были восстановлены и украшены храмы, а жрецы – служители многочисленных богов были подчинены власти верховного понтифика, который должен был противостоять епископу и вести вперед дело язычества. Эти понтифики, в свою очередь, признавали старшими над собой первосвященников – митрополитов провинций, а те были наместниками самого императора. Знаком их сана была белая просторная одежда. Эти новые прелаты были выбраны в результате строгого отбора из самых родовитых и богатых семей. Под влиянием представителей власти и жреческого сословия императору было отправлено, больше всего из городов Никомедия, Антиохия и Тир, много обращений, в которых хорошо известные намерения двора были хитро представлены как единодушное чувство народа. Их авторы усердно просили императора слушаться закона, а не голоса милосердия, говорили о своем отвращении к христианам и смиренно умоляли по меньшей мере изгнать этих нечестивых сектантов оттуда, где живут они сами. Ответ Максимина на письмо граждан Тира сохранился до наших дней. Император хвалит их за пылкость веры и за усердие словами, которые выражают высшую степень удовлетворения, много рассуждает об упрямстве и нечестивости христиан и охотно соглашается на изгнание этих упрямцев, показывая этим, что не дает поручение, а принимает его. Жрецы и должностные лица получили от него полномочия применять силу для исполнения его эдиктов, которые были выгравированы на бронзовых табличках, и, хотя им было рекомендовано воздерживаться от пролития крови, непокорные христиане несли самые жестокие и позорные наказания.
Азиатские христиане могли ждать любых ужасов от этого сурового монарха-святоши, который так решительно готовил свои насильственные меры. Но прошло всего несколько месяцев, и два западных императора своим эдиктом вынудили Максимина приостановить выполнение его замыслов: гражданская война, которую он безрассудно и поспешно начал против Лициния, заняла все его внимание. Вскоре поражение и смерть Максимина освободили церковь от ее последнего и самого неумолимого врага.
В этом общем обзоре гонений, которые начались с эдиктов Диоклетиана, я сознательно не стал описывать страдания и смерть отдельных христианских мучеников. Было бы легко набрать длинный ряд ужасных и омерзительных картин из истории Евсевия, ораторских сочинений Лактанция и древнейших судебных актов, заполнить много страниц описанием решеток и щипцов, железных крючьев, раскаленных постелей и прочих разнообразных видов мучений, которые огонь, сталь, дикие звери и озверевшие больше животных палачи могли причинить человеческому телу. Эти печальные сцены можно было бы скрасить огромным количеством видений и чудес, предназначенных для того, чтобы отсрочить смерть, прославить победу или указать место, где находятся останки тех канонизированных святых, которые пострадали во имя Христа. Но я не могу решить, что я должен переписать в свою книгу, пока не пойму, скольким из этих рассказов я должен верить. Сам Евсевий, самый серьезный из историков церкви, косвенным образом признается, что рассказал все, что могло послужить для славы христианской веры, и умолчал обо всем, что могло ее опозорить. Такое признание, естественно, заставляет заподозрить, что писатель, который так открыто нарушал один основной закон истории, не очень строго соблюдал и второй ее закон. Подозрение станет сильнее, если вспомнить о характере Евсевия: среди своих современников он был едва ли не самым недоверчивым и едва ли не самым искусным в придворных интригах. В некоторых случаях, когда представителей власти побуждала злобствовать личная выгода или личная ненависть, когда религиозный пыл заставлял мучеников, забыв о благоразумии и, может быть, даже о приличиях, опрокидывать алтари, проклинать императоров или избивать судью, когда тот сидел на судейском месте, можно предположить, что к этим благочестивым жертвам применили все возможные пытки, которые жестокость может измыслить, а терпение вынести. Однако два неосторожно упомянутых обстоятельства намекают на то, что обычно слуги закона обходились с арестованными христианами более терпимо, чем обычно считают. 1. Исповедники, приговоренные к работам в рудниках, благодаря человечности или беспечности своих сторожей получили от них разрешение строить часовни и свободно исповедовать свою веру в тех мрачных местах, где они теперь жили. 2. Епископы были вынуждены остудить порицанием религиозный пыл торопливых христиан, которые добровольно отдавали себя в руки властей. Некоторые из делавших это страдали от нищеты и долгов и безрассудно стремились окончить жалкое существование славной смертью. Других манила надежда, что недолгое заключение искупит грехи всей их жизни. Третьих побуждали менее благородные причины – желание получить щедрое обеспечение, а может быть, и большую прибыль от благотворительной милостыни, которую христиане раздавали заключенным. После того как церковь одержала победу над всеми своими врагами, соображения выгоды и тщеславие заключенных заставляли их преувеличивать свои заслуги, то есть прежние страдания. Достаточно большое расстояние во времени или пространстве дает много простора для вымысла, а часто встречающиеся утверждения о том, что раны святых мучеников мгновенно залечивались, силы чудесным образом восстанавливались или отрубленные конечности чудом отрастали вновь, были очень удобным средством устранить все трудности и заставить умолкнуть все возражения. Самые причудливые легенды, которые приносили почет церкви, принимались под рукоплескания доверчивой толпой, подкреплялись силой духовенства и подтверждались сомнительными свидетельствами церковной истории.
Расплывчатые описания ссылки и тюремного заточения так легко поддаются преувеличению или смягчению под пером талантливого оратора, что мы естественным образом вынуждены заняться выяснением более определенных и менее податливых фактов, а именно попытаться определить число людей, казненных на основании эдиктов Диоклетиана, его соправителей и преемников. Поздние сборники преданий содержат упоминания о целых армиях и городах, в один миг стертых с лица земли не щадившим никого гневом гонителей. Более ранние авторы лишь щедро сыплют трагическими проклятиями туманного содержания, но не снисходят до того, чтобы указать точное количество людей, которым было позволено подтвердить веру в истины Евангелия собственной кровью. Однако по историческому труду Евсевия можно подсчитать, что только девять епископов были наказаны смертью, а по его списку палестинских мучеников видно, что это почетное звание получили всего девяносто два христианина[59]59
В заключение своего рассказа он уверяет нас, что перечислил все случаи мученичества, которые были в Палестине за все время гонений. Может показаться, что глава 9 книги VIII его сочинений, посвященная египетской провинции Фиваида, противоречит нашим вычислениям с их скромным результатом, но это расхождение лишь позволяет нам восхититься умением этого искусного историка обращаться с фактами. Выбрав местом самой утонченной жестокости самую дальнюю и уединенную провинцию Римской империи, он пишет, что в Фиваиде часто от десяти до ста человек претерпевали мученичество за один день. Но когда он переходит к рассказу о своей собственной поездке в Египет, то в его словах постепенно появляется больше осторожности и умеренности. Вместо большого, но точного числа он говорит о многих христианах и очень умело выбирает двусмысленные слова, которые могут обозначать либо то, что он видел, либо то, что он слышал, либо ожидание наказания, либо его исполнение. Обеспечив таким образом это допускающее разные толкования место своего труда надежными путями для отступления, Евсевий передает его своим читателям и переводчикам, справедливо считая, что благочестие заставит их предпочесть наиболее благоприятный смысл. Замечание Теодора Метахиты, что все, кто хорошо знаком с египтянами, как Евсевий, восторгаются и наслаждаются туманной и запутанной манерой выражаться, возможно, содержит какую-то долю злой иронии.
[Закрыть].
Поскольку нам неизвестно, какая степень религиозного рвения и мужества преобладала в то время у епископов, мы не в состоянии сделать никаких полезных выводов из первого факта, но из второго можно вывести очень важное и вероятное заключение. По тому, какие территории занимали римские провинции, можно подсчитать, что Палестина составляла одну шестнадцатую Восточной империи. Поскольку некоторые наместники по причине подлинного или показного милосердия не запятнали свои руки кровью христиан, будет разумно посчитать, что родина христианства дала, как минимум, шестнадцатую часть мучеников, казненных во владениях Галерия и Максимина. Следовательно, всех мучеников было около полутора тысяч. Если разделить это число поровну на десять лет гонений, получится, что в год погибало сто пятьдесят мучеников. Если распространить это соотношение на провинции Италии, Африки и, возможно, Испании, где через два или три года суровые карательные законы были приостановлены или отменены, огромное множество христиан, казненных в Римской империи по судебному приговору, сократится до менее чем двух тысяч человек. Поскольку нет сомнений, что во времена Диоклетиана христиане были более многочисленны, а их противники более озлобленны, чем во время любых прежних гонений, этот правдоподобный холодный подсчет может научить нас, как надо вычислять количество раннехристианских святых и мучеников, которые отдали свою жизнь ради великой задачи ввести в мир христианство.
Эту главу мы завершим печальной правдой, которую, сопротивляясь, все же вынужден поневоле принять наш ум: даже если без колебаний и исследования признать истиной все, что было записано в истории или придумано благочестивыми верующими по поводу мученичества, все же нужно признать, что христиане из-за религиозных разногласий в собственных рядах причинили друг другу гораздо больше жестоких бед, чем когда-либо вынесли от усердных иноверцев. В годы невежества, которые последовали за упразднением Западной Римской империи, епископы имперской столицы распространили свою власть с духовенства латинской церкви и на ее мирян. Фабрика суеверия, которую они создали и которая могла бы еще долго сопротивляться слабым ударам разума, в конце концов подверглась нападению толпы отважных фанатиков, которые с XII века по XVI брали на себя любимую народом роль реформаторов. Римская церковь стала защищать силой верховную власть, которую приобрела обманом, и ее политика, прежде мирная и доброжелательная, вскоре была опозорена репрессиями, войнами, резнями и учреждением инквизиции. А поскольку реформаторами руководила любовь не только к свободе вероисповедания, но и к свободе гражданской, католические государи заключили союз со священниками ради общей выгоды и подкрепили ужасы духовной кары огнем и мечом. Есть сведения, что в одних Нидерландах более ста тысяч подданных Карла V пострадали от рук палачей, и эту огромную цифру подтверждает Гроций, гениально одаренный и высокоученый человек, который оставался умеренным, когда вокруг бушевала ярость враждовавших между собой сект, и создал летопись своего времени и своей страны в эпоху, когда изобретение печати дало уму новые средства воздействия, но увеличило для автора опасность в случае обнаружения. Если мы обязаны верить такому авторитету, как Гроций, то мы должны признать, что всего за одно царствование всего в одной провинции было казнено гораздо больше протестантов, чем погибло раннехристианских мучеников за триста лет во всей Римской империи. Но если невероятность такого факта должна оказаться сильнее, чем вся тяжесть доказательств, если надо обвинить Гроция в том, что он преувеличил заслуги и страдания реформаторов, то мы, естественно, должны задать вопрос: насколько можно верить недостоверным и неполным памятникам доверчивой древности, в какой степени можно доверять куртуазному епископу, страстному оратору, который, находясь под защитой Константина, имел исключительное право описывать преследования, которым подвергали христиан побежденные соперники или нелюбимые предшественники их милостивого государя?