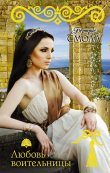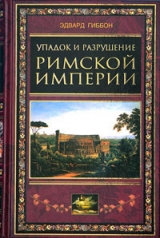
Текст книги "Упадок и разрушение Римской империи (сокращенный вариант)"
Автор книги: Эдвард Гиббон
Жанр:
Педагогика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 86 страниц) [доступный отрывок для чтения: 31 страниц]
Но достаточно было внимательно прочесть древние речи в защиту христиан, чтобы даже самое слабое подозрение на этот счет исчезло из ума честного противника. Христиане с бесстрашием людей, которые уверены в своей безопасности потому, что невиновны, призывают должностных лиц не доверять слухам, а быть беспристрастными. Они признают, что если удастся найти хоть какие-то доказательства тех преступлений, которые им приписывает клевета, то они заслуживают самого сурового наказания. Они сами просят наказать их и бросают вызов, требуя доказательств. Одновременно они настойчиво утверждают – и это в одинаковой степени справедливо и уместно, – что обвинение невероятно настолько же, насколько бездоказательно, и задают вопрос: может ли кто-нибудь всерьез поверить, будто чистые и святые правила Евангелия, которые так часто не позволяют им испытывать самые законные радости, учили бы их совершать самые отвратительные преступления, будто большое сообщество решилось обесчестить себя в глазах своих членов и будто множество людей обоих полов и всех возрастов все вместе согласились бы нарушать те правила, которые природа и воспитание глубоко врезали в их умы? Казалось, ничто не могло ослабить или уничтожить действие таких неопровержимых оправдательных доводов, но сами защитники вели себя необдуманно: предавали общее для них дело веры, чтобы удовлетворить свою благочестивую ненависть к внутренним врагам церкви. Иногда звучали туманные намеки, что эти самые кровосмесительные празднества, которые так ложно приписывают правоверным христианам, на самом деле устраивают маркиониты, карпократиане и некоторые другие секты гностиков, которые, несмотря на то что уклонились на путь ереси, все же чувствовали как люди и руководствовались правилами христианства. Те, кто откололся от церкви, платили ей подобными же обвинениями, и со всех сторон звучали признания, что среди большинства тех, кто носит имя христиан, преобладает самая скандальная распущенность нравов. Представитель властей, язычник, который не имел ни свободного времени, ни необходимого умения для того, чтобы увидеть почти незаметную разницу между истинной христианской верой и еретическим отступлением от нее, легко мог вообразить, будто вражда виновных между собой заставила открыть их общее преступление. Для покоя или, по крайней мере, для доброго имени первых христиан эти представители властей иногда проявляли в своих поступках больше спокойствия и умеренности, чем обычно бывает у тех, кто полон религиозного пыла, и в результате тщательного расследования беспристрастно докладывали, что сектанты, отказавшиеся чтить признанных государством богов, кажутся им искренними в своих заявлениях и безупречными с точки зрения нравственности, хотя и могут быть наказаны согласно закону за свое нелепое, доходящее до крайности суеверие.
Отношение императоров к христианам
История, дело которой – записывать события прошлого, чтобы они стали поучениями для будущих веков, была бы недостойна этой почетной обязанности, если бы снисходила до того, чтобы защищать дело тиранов или оправдывать преследования. Однако следует признать, что поведение тех императоров, которые выглядят наименее благосклонными к изначальной церкви, было вовсе не таким преступным, как поступки тех современных государей, которые обратили оружие насилия и террора против религиозных взглядов какой бы то ни было части своих подданных. Карл V или Людовик XIV могли по собственным размышлениям или даже собственным чувствам составить себе верное понятие о свободе совести, обязанностях верующего и о невиновности того, кто заблуждается. Но правители и должностные лица Древнего Рима не были знакомы с теми принципами, которые побуждали и поощряли христиан быть несгибаемо упорными в вопросах истины, и не могли найти в собственных душах ничего, что могло бы побудить их самих отказаться от законного и, казалось бы, естественного подчинения священным установлениям родной страны. Эта же причина, которая наряду с другими уменьшает их вину, должна была склонять их к тому, чтобы уменьшить суровость преследований. Поскольку ими руководил не яростный религиозный пыл ханжи, а умеренность законодателя, то, должно быть, презрение нередко ослабляло, а человечность часто приостанавливала на время выполнение тех законов, которые они применяли против смиренных и безвестных последователей Христа. Общий обзор их характера и побуждений, естественно, приводит нас к следующим выводам: I. Прошло много времени, прежде чем они стали считать новых сектантов заслуживающими внимания правительства. II. Осуждая любого из своих подданных, если того обвиняли в столь необычном преступлении, они делали это осторожно и неохотно. III. Выбирая наказания, они проявляли умеренность. IV. Преследуемая церковь знала между гонениями много мирных и спокойных промежутков времени. Несмотря на беззаботное равнодушие, которое даже самые плодовитые и щедрые на подробности писатели-язычники проявляли к делам христиан, мы все же оказались в состоянии подтвердить каждое из этих вероятных предположений подлинными фактами.
I. По мудрой воле Провидения церковь в пору своего младенчества была окутана покровом тайны, который не только защищал христиан от злобы языческого мира, но и вообще скрывал их от глаз язычников, пока вера христиан не стала зрелой, а число большим. Медленная и постепенная отмена Моисеевых обрядов стала безопасным и честным прикрытием для самых ранних приверженцев Евангелия. Поскольку они по большей части принадлежали к народу Авраама, то были отмечены знаком обрезания, совершали обряды и молитвы в Иерусалимском храме до его окончательного уничтожения, считали и закон и речи пророков подлинными откровениями Бога. Обратившиеся в новую веру неевреи, путем духовного усыновления разделявшие с Израилем его надежду, по одежде и внешнему виду тоже выглядели евреями, и их принимали за евреев; а поскольку язычники обращали меньше внимания на догмы веры и больше – на внешнюю сторону культа, новой секте, которая умело скрывала или очень слабо проявляла зачатки своего будущего величия и свои честолюбивые намерения, было позволено укрываться под защищавшим всех покровом веротерпимости, которая распространялась и на древний и прославленный еврейский народ, один из многих народов Римской империи. Возможно, уже вскоре после этого сами евреи, чей религиозный пыл был более неистовым, а вера охранялась более ревниво, заметили, что их собратья-назареяне постепенно отходят от учения синагоги. После этого они были бы рады утопить опасную ересь в крови ее сторонников. Но Небо своей волей уже успело обезоружить их злость: хотя евреи иногда могли позволить себе взбунтоваться, уголовное правосудие было уже не в их руках, и для них оказалось нелегко вселить в спокойную душу представителя властей – римлянина ту злобу, которую поддерживали в них самих религиозный пыл и предрассудки. Наместники провинций заявляли, что рады выслушать любое обвинение, которое может касаться общественной безопасности, но едва узнав, что речь идет не о делах, а о словах и спор ведется по поводу всего лишь толкования еврейских законов и пророчеств, они решали, что недостойно величия Рима всерьез обсуждать какие-то неясные различия, возникшие в умах варварского суеверного народа. Невежество и презрение становились защитой для невинно обвиненных первых христиан, и суд местного представителя властей – язычника часто оказывался для них самым надежным убежищем против ярости синагоги.
Правда, если бы мы были склонны следовать традициям слишком доверчивой древности, мы могли бы рассказать о паломничествах в дальние страны, чудесных успехах и неодинаковых смертях двенадцати апостолов; но более аккуратное расследование заставит нас усомниться, было ли дано кому-либо из тех, кто был свидетелем чудес, совершенных Христом, подтвердить собственной кровью за пределами Палестины истинность своего свидетельства[48]48
Во времена Тертуллиана и Климента Александрийского слава мученичества была дана лишь святым Петру, Павлу и Иакову. На остальных апостолов ее постепенно распространили более поздние поколения греков, которые благоразумно выбрали местом их проповеди и страданий далекие страны за пределами Римской империи.
[Закрыть].
Учитывая обычную продолжительность человеческой жизни, вполне естественным было бы предположить, что большинство из них скончались еще до того, как недовольство евреев переросло в ту яростную войну, которая закончилась лишь с разрушением Иерусалима. В течение долгого времени, которое прошло между смертью Христа и этим памятным восстанием, мы не можем обнаружить никаких следов нетерпимости римлян к христианской вере, если не считать того внезапного, кратковременного, но жестокого преследования, которому Нерон подверг христиан в столице империи через тридцать пять лет после первого из этих великих событий и всего за два года до второго. Характер историка-философа, которому мы в основном обязаны тем, что знаем об этом странном событии, уже сам по себе делает случившееся достойным нашего самого внимательного рассмотрения.
В десятый год правления Нерона столица империи пострадала от пожара, который свирепствовал с силой, превосходившей все, что помнили или испытали на собственном опыте предыдущие поколения. Памятники греческого искусства и римской добродетели, трофеи Пунических и Галльской войн, самые священные храмы и самые великолепные дворцы погибли в этом всесокрушающем пламени. Из четырнадцати кварталов, то есть частей, на которые делился Рим, лишь четыре уцелели полностью, три были стерты с лица земли, а остальные семь, испытав ярость огня, представляли собой печальное зрелище развалин и запустения. Бдительное правительство не упустило, кажется, ни одной меры предосторожности, которая могла бы уменьшить тяжесть столь ужасного бедствия. Императорские сады были открыты для толпы пострадавших горожан, для их удобства были построены временные дома, и большое количество зерна и других продуктов было продано им по очень низкой цене. Эдикты, определившие расположение улиц и регламентировавшие постройку частных домов, кажутся плодами самой великодушной политики. Как обычно случается в эпоху процветания, великий пожар Рима позволил за несколько лет создать новый город, более симметрично устроенный и более прекрасный, чем прежний. Но все благоразумие и вся человечность, которые Нерон проявил в этом случае, оказались недостаточны, чтобы уберечь его от подозрений со стороны народа. Тому, кто убил своих жену и мать, можно было приписать любое преступление; государь, унизивший себя и свой сан выступлениями на сцене театра, не мог не выглядеть способным на самые крайние и причудливые безумства. Слухи обвиняли императора в том, что он поджег собственную столицу, и, поскольку самые невероятные истории лучше всего усваиваются душой разъяренного народа, люди всерьез рассказывали друг другу и твердо верили, будто бы Нерон, наслаждаясь бедствием, которое сам создал, забавлялся тем, что пел, подыгрывая себе на лире, о разрушении древней Трои. Чтобы отвести от себя подозрение, которое не могла уничтожить силой деспотическая власть, император решился найти себе на замену каких-нибудь мнимых преступников. «С этой целью, – продолжает Тацит, – он подверг самым изощренным пыткам тех людей, носящих грубое простонародное имя христиане, которые уже были заслуженно заклеймены позором. Они производят свое имя и происхождение от Христа, который в годы правления Тиберия был казнен по приговору прокуратора Понтия Пилата. Это ужасное суеверие на короткое время было подавлено, но вспыхнуло вновь и не только распространилось по Иудее, родине этой вредоносной секты, но проникло даже в Рим, всеобщее убежище, которое принимает и защищает все, что есть нечистого и жестокого. Признания тех, кто был схвачен, позволили обнаружить огромное число их сообщников, и все они были приговорены не столько за то, что подожгли город, сколько за ненависть к человеческому роду. Они умерли в мучениях, и их муки были усилены оскорблениями и насмешками. Некоторых прибили гвоздями к крестам; других зашили в шкуры диких зверей и отдали на растерзание разъяренным собакам; третьих обмазали горючими составами и использовали вместо факелов, чтобы осветить ночную темноту. Местом для этого печального зрелища были выбраны сады Нерона; оно сопровождалось гонками колесниц и было почтено присутствием императора, который в одежде и в роли возничего смешался с чернью. Вина христиан действительно заслуживала самого примерного наказания, но отвращение и ненависть толпы сменились сочувствием из-за мнения, что эти несчастные были принесены в жертву не благу общества, а жестокости ревниво оберегавшего себя тирана». Те, кто следит любопытным взглядом за переворотами, происходящими с человечеством, могут отметить, что сады и цирк Нерона на Ватикане, оскверненные кровью первых христиан, были еще сильнее прославлены торжеством преследуемой религии и ее неверным применением. На этом самом месте с тех пор был построен храм, намного превышающий древнюю славу Капитолия, и воздвигли его христианские понтифики, которые, выводя свое право на власть над миром от скромного рыбака из Галилеи, сменили на троне цезарей, дали законы варварам, завоевывавшим Рим, и распространили свою духовную власть от побережья Балтики до берегов Тихого океана.
Но было бы ошибкой закончить рассказ о Нероновых гонениях, не высказав несколько замечаний, которые могут устранить трудности, возникающие при понимании этих событий, и пролить немного света на последующую историю церкви.
1. Даже самый скептический критик обязан признать истинность этого чрезвычайного события и отсутствие искажений в этом знаменитом отрывке из Тацита. Первое подтверждается старательным и точным Светонием, когда тот упоминает о наказании, которому Нерон подверг христиан, секту людей, принявших новое преступное суеверие. Второе может быть доказано одинаковостью текста в большинстве древних рукописей, неподражаемым стилем Тацита, его громкой славой, которая оберегала его текст, не позволяя вставить в него благочестивую ложь, и содержанием рассказа, в котором христиане обвиняются в самых жестоких преступлениях без намеков на то, что они имеют какую-либо чудесную или хотя бы магическую власть над остальной частью человечества. 2. Несмотря на то что Тацит, вероятно, родился за несколько лет до римского пожара, он мог знать лишь по книгам и разговорам о событии, которое произошло, когда он был младенцем. Прежде чем предстать перед судом публики как писатель, Тацит спокойно ждал, пока его гений достигнет полной зрелости; ему было больше сорока лет, когда благодарность памяти добродетельного Агриколы вдохновила его на самое раннее из тех исторических сочинений, которые будут восхищать и поучать даже самое отдаленное потомство. Попробовав свои силы в биографии Агриколы и в описании Германии, Тацит задумал и в конце концов выполнил более тяжелый труд – историю Рима в тридцати книгах, от падения Нерона до вступления на престол Нервы. Правление Нервы предшествовало эпохе справедливости и процветания, описанием которой Тацит рассчитывал заняться в старости; но, присмотревшись ближе к этой теме и, вероятно, рассудив, что приобретет больше почета или вызовет меньше зависти, если станет описывать пороки тиранов, оставшихся в прошлом, чем если будет прославлять добродетели правящего монарха, он предпочел рассказать в форме летописи о делах четырех ближайших преемников Октавиана Августа. Собрать, расставить по местам и украсить восемьдесят лет в бессмертной работе, каждая фраза которой наполнена мудрейшими наблюдениями и ярчайшими образами, – это была работа такого размера, что она занимала гений Тацита большую часть его жизни. В последние годы правления Траяна, когда этот победоносный монарх распространил власть Рима за прежние границы империи, историк описывал во второй и четвертой книгах своих «Анналов» тиранию Тиберия; должно быть, император Адриан сменил Траяна на троне еще до того, как Тацит, следуя в своей работе за ходом времени, смог рассказать о пожаре в столице и о жестокости Нерона к несчастным христианам. На расстоянии в шестьдесят лет летописец был обязан следовать рассказам современников описываемых событий, но для философа было естественно дать себе волю и описать происхождение, развитие и свойства новой секты в соответствии не с теми знаниями о ней и предрассудками, которые были в эпоху Нерона, а с теми, которые существовали во времена Адриана. 3. Тацит очень часто рассчитывает, что любопытство или ум его читателей укажут им те промежуточные обстоятельства и мысли, о которых он, писавший очень сжато, посчитал нужным умолчать. Поэтому мы можем осмелиться строить догадки о том, какая причина могла направить жестокость Нерона на столичных христиан, безвестность и невиновность которых должны были бы не только укрыть их от императорского гнева, но не дать императору даже заметить их. Евреи, многочисленные в столице и угнетаемые в своей собственной стране, были гораздо более подходящей целью для подозрений императора и народа; казалось достаточно вероятным, что побежденный народ, уже показавший свои ненависть и отвращение к римскому ярму, мог использовать самые жестокие средства, чтобы утолить свою неугасимую жажду мести. Но у евреев были очень сильные защитники во дворце и даже в сердце самого тирана – его жена и повелительница, прекрасная Поппея, и любимый актер, родом из племени Авраама, которые прежде уже заступались за этот несносный народ. Вместо евреев было необходимо отдать в жертву кого-то другого, и можно легко предположить, что, хотя истинные последователи Моисея и не были виновны в пожаре Рима, среди них возникла новая опасная секта галилеян, способная на самые ужасные преступления. Под именем галилеяне были смешаны две группы людей, совершенно противоположные по своим нравам и принципам – ученики Иисуса из Назарета, принявшие его веру, и зелоты – те, кто собрался под знаменем Иуды Гаулонита. Первые были друзьями рода человеческого, вторые – его врагами; единственным сходством между ними была непоколебимая верность своему учению, которая при его защите делала их нечувствительными к смерти и пыткам. Последователи Иуды, которые вовлекли своих земляков в восстание, вскоре были погребены под развалинами Иерусалима, а ученики Иисуса, известные под более прославленным именем христиан, расселились по Римской империи. Как естественно было для Тацита во времена Адриана приписать христианам вину и страдания, которые он мог бы гораздо более правдиво и обоснованно приписать гнусной секте, дурная память о которой почти угасла! 4. Каким бы ни было мнение читателя об этом предположении (а это всего лишь предположение), очевидно, что нероновские гонения, так же как их причина, были ограничены стенами Рима; что религиозные догмы галилеян или христиан никогда не становились причиной наказания или даже предметом расследования и что, поскольку воспоминание об их страданиях долгое время было связано с представлением о жестокости и несправедливости, умеренность последующих правителей побуждала их щадить секту, которую угнетал тиран, чья ярость обычно бывала направлена против добродетели и невинности.
Есть нечто знаменательное в том, что пламя войны почти одновременно поглотило Иерусалимский храм и римский Капитолий; и кажется не менее странным, что вклады, которые благочестивые люди жертвовали первому, по воле взявшего его штурмом победителя были направлены на восстановление и украшение второго. Императоры наложили на еврейский народ всеобщий подушный налог, и, хотя сумма, взимавшаяся с одного человека, была невелика, из-за цели, для которой налог был предназначен, и суровости, с которой он взимался, евреи считали его нестерпимой обидой для себя. Поскольку налоговые сборщики распространили свои несправедливые требования на многих людей, которые не были евреями ни по крови, ни по религии, у христиан, которые так часто укрывались в тени синагоги, не было никакой возможности ускользнуть от этих жадных гонителей. А им, которые так оберегали себя от заразы идолопоклонства даже в мелочах, совесть запрещала участвовать в том, что приносит почет демону, ставшему Юпитером Капитолийским. Поскольку очень многочисленная, хотя и уменьшавшаяся часть христиан все еще соблюдала закон Моисея, их старания скрыть свое еврейское происхождение терпели неудачу: его определяли по решающему признаку – обрезанию, а римские чиновники не имели времени на то, чтобы выяснять, чем различаются между собой догмы этих двух религий. Говорили, что среди христиан, приведенных на суд императора или, что кажется более вероятным, на суд прокуратора Иудеи, были два человека, чье происхождение было благороднее, чем у великих монархов, если говорить об истинном благородстве. Это были внуки святого апостола Иуды, который сам был братом Иисуса Христа. Их естественные права на трон Давида, возможно, могли бы вызвать уважение к ним у народа и возбудить подозрительность наместника, но их бедная одежда и простота их ответов быстро убедили его, что они не желают и не способны нарушить покой Римской империи. Они честно сказали о своем царском происхождении и близком родстве с Мессией, но заявили, что не ищут земных благ и что его царство, наступления которого они преданно ждут, чисто духовное и ангельское. Когда их спросили о размере их имущества и об их роде занятий, они показали свои огрубевшие от ежедневной работы руки и сказали, что живут лишь тем, что выращивают в своем крестьянском хозяйстве возле селения Кокаба, площадь которого примерно двадцать четыре английских акра, а стоимость девять тысяч драхм, то есть триста фунтов стерлингов. Внуки святого Иуды были отпущены с сочувствием и презрением.
Но хотя род Давида смог спастись от подозрений тирана благодаря тому, что стал безвестным, в малодушном Домициане тогдашнее величие его собственной семьи рождало тревогу, и успокоить его страх могла лишь кровь тех римлян, которых он либо боялся, либо ненавидел, либо высоко ценил. Из двоих сыновей его дяди Флавия Сабина старший вскоре был осужден за предательские намерения, а младший, носивший имя Флавий Климент, уцелел лишь потому, что не имел ни мужества, ни каких-либо талантов. Император долгое время благоволил к этому столь безвредному родственнику, отдал ему в жены свою племянницу Домициллу, усыновил детей, родившихся от этого брака, в надежде сделать их своими наследниками, и возвел их отца в звание консула. Но едва закончился год, который Климент провел в этой должности, как под надуманным предлогом его приговорили к смерти и казнили, Домицилла была изгнана на пустынный остров у берегов Кампании, и многие другие, обвиненные вместе с ними, были приговорены одни к смерти, другие – к конфискации имущества. Обвиняли их в атеизме и следовании еврейским обычаям – странное сочетание, которое невозможно было применить ни к кому, кроме христиан, как их смутно и неточно представляли себе должностные лица и писатели той эпохи. Ввиду столь вероятного толкования церковь, охотно посчитав подозрения тирана доказательством такого славного преступления Климента и Домициллы, включила обоих в число своих первых мучеников и заклеймила жестокое дело Домициана именем второго гонения. Но это гонение (если оно заслуживает этого названия) было недолгим. Через несколько месяцев после смерти Климента и изгнания Домициллы Стефан, ее вольноотпущенник, который пользовался благосклонностью своей госпожи, но точно не принял ее веру, убил императора в его дворце. Память Домициана была проклята сенатом, его постановления отменены, те, кого он изгнал, возвращены из ссылки, и при мягком правлении Нервы, когда невиновные получили обратно свое место в обществе и имущество, даже наиболее виновные были прощены или смогли бежать от наказания.
II. Примерно через десять лет после этого, при Траяне, Плиний Младший получил от своего друга и владыки поручение управлять провинциями Вифиния и Понт. Вскоре он обнаружил, что не в силах понять, какими правилами справедливости или какими законами он должен руководствоваться, исполняя должность, в высшей степени отвратительную для него при его человеколюбии. Плиний никогда не присутствовал на слушании судебных дел против христиан, о которых, кажется, не знал ничего, кроме их названия, и ему совершенно ничего не было известно о том, в чем состоит их вина, как выносить им приговоры и насколько тяжелыми должны быть наказания. В такой растерянности он прибег к своему обычному средству: доверяя мудрости Траяна, послал ему беспристрастный и в некоторых отношениях благоприятный отчет о новом суеверии с просьбой, чтобы император разрешил его сомнения и наставил его, невежественного. Плиний провел всю свою жизнь, приобретая знания и вращаясь в обществе. С девятнадцати лет он блестяще произносил защитительные речи в судах Рима, занимал место в сенате, побывал в должности консула и завел очень многочисленные знакомства во всех слоях общества как в Италии, так и в провинциях. Поэтому из его незнания мы можем извлечь некоторые полезные сведения. Мы можем быть уверены, что, когда он вступил в должность наместника Вифинии, не было в действии никаких законов или постановлений сената против всех христиан вообще, что ни сам Траян, ни кто-либо из его добродетельных предшественников, чьи эдикты вошли в гражданское и уголовное законодательство, не делали до этих пор публичного заявления о своих намерениях относительно новой секты, и, какие бы судебные меры ни принимались против христиан, среди них не было ни одной настолько значительной или авторитетной, чтобы она стала прецедентом поведения для римского должностного лица.
Траян в своем ответе, на который часто ссылались христиане более поздних времен, проявил максимум заботы о справедливости и человечности, совместимой с его ошибочными представлениями о религиозной политике. Он не повел себя с беспощадным рвением инквизитора, который жаждет не упустить ни одной крупицы ереси и приходит в восторг, когда жертв оказывается много; император гораздо больше заботится о том, чтобы обеспечить безопасность невиновных, чем о том, чтобы не дать ускользнуть виновным. Он признается, что ему трудно составить какой-либо план, пригодный для всех случаев, но предлагает два полезных правила, которые часто становились облегчением и поддержкой для попавших в беду христиан. Хотя он дает должностным лицам указание наказывать тех, кто осужден по закону, он с очень человечной непоследовательностью запрещает им добывать какие-либо сведения о предполагаемых преступниках. Кроме того, представителю власти разрешалось давать ход не всякому обвинению. Анонимные обвинения император отвергает как слишком противоречащие беспристрастию, принципу его правления; он строго требует осуждать тех, кто обвинен в принадлежности к христианам, лишь при наличии обвинителя, действующего открыто и честно. Вероятно также, что те, кто брался за такое ненавистное людям дело, были обязаны сказать, какие у них есть основания для подозрений, перечислить (точно указывая время и место) тайные собрания, на которых присутствовал их противник-христианин, и сообщить очень много такого, что очень старательно скрывали от взгляда непосвященных. Если обвинитель добивался успеха в своем преследовании, он навлекал на себя недовольство многочисленной и деятельной партии, осуждение более свободной от предрассудков и великодушной части человечества и бесславие, которое во все времена и во всех странах было связано с доносительством. Если же ему не удавалось доказать обвинение, он нес тяжелое наказание, а возможно, мог быть и казнен по изданному императором Адрианом закону против тех, кто ложно обвинял своих сограждан в преступной принадлежности к христианам. Вражда личная или идейная из-за суеверия иногда могла оказаться сильнее, чем самое естественное чувство страха перед позором или опасностью, но, конечно, невозможно себе представить, чтобы языческие подданные Римской империи легко или часто выдвигали такие невыгодные обвинения.
Средство, с помощью которого обходили эти благоразумные законы, является достаточным доказательством того, как эффективно они мешали тем, кто желал причинить другому вред из-за личной злобы или усердного следования суеверию. В многолюдном шумном сборище создаваемые страхом и стыдом ограничения, которые так сильны в человеческих умах, теряют большую часть своей сдерживающей силы. Благочестивый христианин, желавший добиться или избежать славы мученика, ожидал, в первом случае с нетерпением, во втором с ужасом, дня, когда в очередной раз полагалось устроить игры или отметить праздник. В этих случаях жители больших городов империи собирались в цирке или театре, где все особенности и места, и действия разжигали в них религиозный пыл и гасили человечность. Когда многочисленные зрители, украсив голову венками, надушив себя благовониями, очистившись кровью жертвенных животных, окруженные алтарями своих богов-покровителей, предавались удовольствиям, которые они считали важнейшей частью своего религиозного культа, они вспоминали, что христиане единственные с отвращением отвергают богов, которым поклоняются все люди, и своим отсутствием или печалью на этих торжественных праздниках словно оскорбляют или оплакивают всеобщее счастье. Если незадолго перед этим империя пострадала от любого возможного бедствия – мора, голода, военной неудачи, если Тибр вышел или Нил не вышел из берегов, если произошло землетрясение или в плавной смене умеренных по суровости времен года случилось какое-то отклонение, суеверные язычники приходили к убеждению, что христиане, которых щадит слишком милосердное правительство, наконец своими преступлениями и нечестием вызвали кару богов. А распущенная и доведенная до отчаяния чернь не станет соблюдать судебное законодательство, и в амфитеатре, залитом кровью зверей и гладиаторов, голос сострадания не слышен. Толпа в своих нетерпеливых криках называла христиан врагами богов и людей, обрекала их на самые тяжелые пытки и, осмеливаясь обвинять поименно некоторых самых видных последователей новой секты, требовала с непреодолимой силой, чтобы этих людей немедленно поставили перед ними и бросили на растерзание львам. Наместники и должностные лица в провинциях были председателями на публичных зрелищах и обычно проявляли склонность удовлетворить наклонности народа и успокоить его ярость, принеся в жертву несколько несносных сектантов, но императорская мудрость защищала церковь от этих шумных криков и беззаконных обвинений: императоры справедливо осуждали их как несовместимые ни с твердостью своей политики, ни с ее беспристрастием. В эдиктах Адриана и Антонина Пия было четко и ясно сказано, что голос толпы никогда не должен считаться законным свидетельством для осуждения или наказания тех несчастных людей, которые, заразившись религиозным исступлением христиан, приняли их веру.