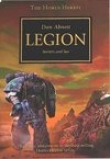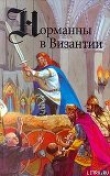Текст книги " Закат и падение Римской Империи. Том 6"
Автор книги: Эдвард (Эдуард ) Гиббон
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Однако, если бы последствия этого переворота не поколебали могущества и единства сарацинов, одно поколение могло бы восполнить причиненную междоусобицей убыль в людях. При истреблении Омейядов только один юный представитель царского рода, по имени Абдальрахман, спасся от ярости врагов, которые преследовали его от берегов Евфрата до долин Атласских гор. Его появление вблизи от Испании воспламенило рвение белой партии. До той поры одни персы вступались за права из интересы Аббассидов; Запад не принимал никакого участия в междоусобной войне, и люди, преданные изгнанному царскому роду, еще владели там наследственными поместьями и занимали государственные должности, хотя и не считали свое положение обеспеченным. Побуждаемые, с одной стороны, признательностью, а с другой – негодованием и опасениями за будущее, они обратились к внуку халифа Хашима с приглашением вступить на престол его предков, а при его отчаянном положении крайняя опрометчивость могла считаться за верх благоразумия. При своей высадке на берег Андалузии Абдальрахман был встречен радостными народными возгласами, воцарился, после успешной борьбы, в Кордове и сделался родоначальником испанских Омейядов, властвовавших в течение с лишком двухсот пятидесяти лет от берегов Атлантического океана до Пиренеев. Он убил в одном сражении наместника Аббассидов, напавшего на его владения с флотом и с армией; его отважный посланец вывесил перед входом в Меккский дворец голову Али, которую сохранил в соли и в камфаре, и халиф ал-Мансур радовался тому, что обширные моря и земли отделяют его от такого грозного противника. Их обоюдные замыслы или угрозы нападения испарились без всяких последствий; но вместо того, чтоб открывать мусульманам двери для нашествия на Европу, Испания отделилась от главного центра магометанского владычества, жила в непрерывной вражде с Востоком и обнаруживала расположение жить в мире и в дружбе с христианскими владетелями Константинополя и Франции. Примеру Омейядов подражали действительные или мнимые потомки Али – мавританские Эдрисиды и еще более могущественные африканские и египетские Фатимиды. В десятом столетии три халифа или повелителя правоверных, царствовавшие в Багдаде, в Кайруане и в Кордове, оспаривали друг у друга престол Мухаммеда; они отлучали друг друга от общения с верующими и сходились только в том принципе внутренних раздоров, что раскольник и более ненавистен и более преступен, чем неверный.
Мекка была наследственным достоянием потомков Хашима; тем не менее Аббассиды никогда не обнаруживали желания перенести свою резиденцию ни в тот город, который был родиной пророка, ни в тот, который служил для него постоянным местопребыванием. Дамаск был им противен, потому что служил резиденцией для Омейядов и был запятнан их кровию; поэтому брат и преемник Саффы ал-Мансур после некоторых колебаний основал город Багдад, служивший царской резиденций для его потомков в течение их пятисотлетнего владычества. Место для нового города было выбрано на восточном берегу Тигра, на расстоянии почти пятнадцати миль от развалин Модаина; двойная стена имела кругообразную форму, а расширение этой столицы, в настоящее время принадлежащей к разряду провинциальных городов, шло так быстро, что при погребении одного популярного святого присутствовали восемьсот тысяч мужчин и шестьдесят тысяч женщин, живших частью в Багдаде, частью в соседних деревнях. В этом городе мира, среди богатств Востока, Аббассиды скоро стали гнушаться воздержностью и бережливостью первых халифов и стали соперничать в роскоши с персидскими царями. Несмотря на то, что ал-Мансур вел столько войн и строил столько новых зданий, после него осталось около тридцати миллионов стерлингов в золоте и в серебре, а это сокровище было в несколько лет растрачено пороками или добродетелями его детей. Его сын Махди издержал шесть миллионов золотых динаров только на одно странствование в Мекку для богомолья. Благочестие и благотворительность могли внушить ему желание устроить водохранилища и каравансараи вдоль дороги, которая тянется на семьсот миль; но следовавший за ним ряд верблюдов с запасами снега мог только приводить арабских туземцев в удивление и освежать фрукты и напитки, подававшиеся за царским столом. Царедворцы, без сомнения, превозносили щедрость его внука ал-Мамуна, который, перед тем чтоб вынуть ногу из стремени, раздал два миллиона четыреста тысяч золотых динариев, составлявшие четыре пятых доли дохода, собранного с целой провинции. Во время бракосочетания того же монарха голова невесты была засыпана тысячью самых крупных жемчужин, а разыгранные в лотерею земли и дома доставили каждому возможность воспользоваться прихотливыми дарами фортуны. С упадком империи придворная роскошь скорей усилилась, чем уменьшилась, и один греческий посол имел случай с удивлением или с соболезнованием созерцать великолепие слабого Мохтадера. “Вся армия халифа, – говорит историк Абу-л-Фид, – как конная, так и пешая, выстроилась в боевом порядке и состояла из ста шестидесяти тысяч человек. Высшие сановники и любимые рабы стояли подле него с великолепными каменьями. Вслед за ними стояли семь тысяч евнухов, из которых четыре тысячи были белые, а остальные были черные. Швейцары, или привратники, были в числе семисот. По Тигру плавали шлюпки и лодки, разукрашенные самым великолепным образом. Не менее великолепна была внутренность дворца; там было развешено тридцать восемь тысяч занавесок, из которых двенадцать тысяч пятьсот были из шелковой материи, вышитой золотом. На полу были разложены ковры в числе двадцати двух тысяч. Халиф содержал сто львов, к каждому из которых был приставлен особый сторож. В числе редких и изумительных произведений роскоши было дерево, сделанное из золота и серебра и имевшее восемнадцать широких ветвей; и на этих ветвях и на маленьких сучьях сидели различные птицы; они были сделаны так же, как и листья деревьев, из тех же драгоценных металлов. Когда особый механизм приводил дерево в движение, птицы начинали щебетать, каждая по-своему. Среди этой великолепной обстановки греческий посол был приведен визирем к подножию халифова трона. На Западе испанские Омейяды носили с таким же блеском титул Повелителя Правоверных. Третий и самый великий из Абдальрахманов основал в трех милях от Кордовы в честь своей любимой султанши город Зеру, построил там дворец и развел сады. На это дело он употребил двадцать пять лет и более трех миллионов фунт,ст.; так как он обладал изящным вкусом, то из Константинополя были выписаны самые искусные скульпторы и архитекторы, и тысяча двести колонн из испанского и африканского, греческого и итальянского мрамора поддерживали или украшали здание. Стены залы, назначенной для аудиенций, были украшены инкрустациями из золота и жемчуга, а находившийся посреди нее бассейн был окружен оригинальными и дорогими изображениями птиц и четвероногих. В построенном в саду высоком павильоне был устроен один из таких же бассейнов или фонтанов, доставляющих столько наслаждений в знойных климатах; но он был наполнен не водою, а самою чистою ртутью. Число живших в серале Абдальрахмана жен, наложниц и черных евнухов доходило до шести тысяч трехсот, а когда он отправился в поход, его сопровождала гвардия из тысячи двухсот всадников, у которых перевязи и палаши были обделаны в золоте.
В жизни частного человека его желания постоянно сдерживаются недостатком средств и зависимостью; но деспотический монарх, приказания которого слепо исполняются, а желания немедленно удовлетворяются, располагает жизнью миллионов людей. Наше воображение прельщается блеском такого положения, и каковы бы ни были требования хладнокровного благоразумия, немногие из нас стали бы упорно отказываться от предложения испробовать удовольствия и заботы царской власти. Поэтому небесполезно будет сослаться на опыт, вынесенный из жизни тем самым Абдельрахманом, великолепие которого, быть может, возбудило в нас удивление и зависть, и цитировать следующие строки из памятной книжки, которая была написана рукою халифа и найдена в его кабинете после его смерти: “Я уже царствовал более пятидесяти лет то среди побед, то среди внутреннего спокойствия; я был любим моими подданными; враги боялись меня, а союзники уважали. Я вдоволь пользовался богатством и почестями, могуществом и наслаждениями, и для моего счастия, по-видимому, не было недостатка ни в одном из земных благ. В этом положении я старательно запоминал выпавшие на мою долю дни настоящего и полного счастия: их было четырнадцать: “О люди! не полагайтесь на блага этого мира!” Роскошь, столь бесполезная для личного счастия халифов, ослабила энергию арабского владычества и положила конец его расширению. Первые преемники Мухаммеда заботились лишь о мирских и духовных завоеваниях и на это благочестивое дело употребляли государственные доходы, за исключением лишь небольшой суммы, необходимой на удовлетворение их собственных скромных нужд. Аббассиды, напротив того, обеднели от разнообразия их нужд и от презрения к бережливости. Вместо того чтоб преследовать великие цели, указываемые честолюбием, они тратили свой досуг, свои чувства и свои умственные силы на роскошь и наслаждения; женщинам и евнухам доставалось то, что должно бы было служить наградой за храбрость, и в царском лагере господствовала такая же обременительная пышность, какая соблюдалась во дворце. Такие же наклонности распространились между подданными халифа. Их суровый энтузиазм смягчился с течением времени среди благоденствия; они искали богатств в промышленной деятельности, славы в занятиях литературой и счастья в спокойной домашней жизни. Война уже не была счастием сарацинов, и ни увеличение жалованья, ни назначение новых наград уже не привлекали к военному ремеслу потомков тех добровольцев, которые стекались толпами под знамена Абу Бакра и Омара в надежде обогатиться добычей и попасть в рай.
Под владычеством Омейядов ученые занятия мусульман ограничивались истолкованиями Корана и произведениями красноречия и поэзии на их родном языке. Народ беспрестанно подвергавшийся опасностям на полях сражений, должен бы был высоко ценить достоинства медицины, или, вернее, хирургии; но жившие в нужде арабские доктора втайне роптали на то, что физические упражнения и воздержанность отнимают у них пациентов. По окончании междоусобных войн и внутренних распрей подданные Аббассидов, пробудившись из своего умственного усыпления, нашли время и почувствовали желание приобретать светские знания. Эту склонность стал прежде всех поощрять халиф ал-Мансур, который, кроме изучения магометанского закона, с успехом занимался астрономией. Но когда скипетр перешел в руки седьмого из Аббассидов ал-Мамуна, этот халиф привел в исполнение замыслы своего дела и стал вызывать к себе Муз из их старинных местопребываний. Его послы, жившие в Константинополе, и его агенты, разосланные по Армении, Сирии и Египту, собирали памятники греческого знания; эти произведения были по его распоряжению переложны на арабский язык самыми искусными переводчиками; он приглашал своих подданных знакомиться с этими поучительными сочинениями, и преемник Мухаммеда с удовольствием и со скромностью присутствовал на собраниях и на диспутах ученых. “Ему не было безызвестно, – говорит Абу-л-Фарадис, – что это были избранники Божии, самые лучшие и самые полезные его слуги, посвятившие свою жизнь на развитие своих умственных способностей. Низкое честолюбие китайцев или татар может хвастаться их ручными изделиями или удовлетворением их скотских влечений. Но эти ловкие артисты должны смотреть с безнадежною завистью на шестиугольники и пирамиды пчелиного улья; на этих храбрых героев наводит страх свирепость львов и тигров, а в своих любовных наслаждениях они далеко уступают силе самых грубых и самых низких четвероногих. Преподаватели мудрости – настоящие светила и законодатели мира, который снова погрузился бы, без их помощи, в невежество и в варварство” . Усердию и любознательности ал-Мамуна подражали следующие монархи из рода Аббассидов; их соперники – африканские Фатимиды и испанские Омейяды были в одно и то же время и покровителями ученых, и повелителями правоверных; на такую же царскую прерогативу стали заявлять притязание независимые провинциальные эмиры, а благодаря их соревнованию любовь к ученым занятиям и обыкновение поощрять ее наградами распространились от Самарканда и Бухары до Феца и Кордовы. Визирь одного султана посвятил капитал в двести тысяч золотых монет на основание в Багдаде училища, на содержание которого назначил ежегодный доход в тысячу пятьсот динаров. Плодами образования воспользовались – быть может, не за один раз – шесть тысяч воспитанников разного звания, начиная с сыновей знати и кончая детьми ремесленников; бедным воспитанникам выдавалось достаточное вспомоществование, а профессора получали содержание, соразмерное с их заслугами или дарованиями. Во всех городах произведения арабской литературы переписывались и собирались благодаря любознательности людей трудолюбивых и тщеславию богачей. Один доктор отвергнул приглашение бухарского султана, потому что для перевозки его книг требовалось четыреста верблюдов. Царская библиотека Фатимидов состояла из ста тысяч изящно переписанных и великолепно переплетенных манускриптов, которые отпускались без недоверия или без затруднений каирским студентам для чтения. Впрочем, эти коллекции книг должны казаться незначительными, если правда, что испанские Омейяды составили библиотеку из шестисот тысяч волюмов, из которых сорок четыре были наполнены одними каталогами. Их столица Кордова и соседние с нею города Малага, Альмерия и Мурсия произвели на свет более трехсот писателей, а в городах андалузского королевства было открыто более семидесяти публичных библиотек. Эпоха арабской учености длилась более пятисот лет до великого нашествия монголов и совпадала с самым темным и самым бездеятельным периодом европейского летописания; но с той минуты, как запад снова озарился светом знаний, восточная ученость, по-видимому, стала чахнуть и приходить в упадок.
В арабских библиотеках точно так же, как и в европейских, большая часть бесчисленных волюмов имела местный интерес и мнимое достоинство. Там были собраны: ораторы и поэты, приспособлявшие тон своих произведений к вкусам и нравам своих соотечественников; очерки истории всеобщей и частной, содержание которых с каждым поколением обогащалось новыми героями и новыми событиями; кодексы и комментарии по части юриспруденции, заимствовавшие свой авторитет из Мухаммедова закона; истолкования Корана и правоверной традиции и масса богословов – полемиков, мистиков, схоластиков и моралистов, принадлежавших, по мнению скептиков, к низшему разряду писателей, а по мнению верующих – к высшему. Произведения научного или умозрительного содержания могли быть разделены на четыре разряда – на философские, математические, астрономические и медицинские. Сочинения греческих философов были переведены на арабский язык и снабжены объяснениями, а некоторые из ученых трактатов, подлинники которых утрачены, дошли до нас в сделанных на Востоке переводах, благодаря тому, что там изучали сочинения Аристотеля и Платона, Евклида и Аполлония, Птолемея, Гиппократа и Галена. Между различными системами мышления, изменявшимися вместе с современными вкусами, арабы избрали философию Аристотеля, одинаково понятную или одинаково непонятную для читателей всех веков. Платон писал для афинян, и его аллегорический стиль слишком тесно связан с языком и с религией греков. После падения этой религии перипатетики снова вышли из неизвестности и одержали верх в словопрениях восточных сект, а много времени спустя после того испанские магометане восстановили в латинских школах изучение произведений Аристотеля. Физика, – в том виде, как она преподавалась в Академии и в Ликее, – замедляла развитие настоящих знаний, так как была основана не на наблюдениях, а на аргументах. Метафизика бесконечного или конечного духа нередко обращались в орудие суеверий; но теоретические и практические занятия диалектикой укрепляют умственные способности; десять Аристотелевых категорий обобщают наши идеи и приводят их в порядок, а его силлогизм есть самое острое орудие для диспутов. Им искусно пользовались в сарацинских школах; но так как он более годен для обнаружения заблуждений, чем для отыскания истины, то не следует удивляться тому, что новые поколения наставников и учеников постоянно вращались в одном и том же круге логических аргументов. Математика отличается тем особым преимуществом, что с течением времени она может только подвигаться вперед, но не может отступать назад. Но геометрию – если я не введен в заблуждение – итальянцы пятнадцатого столетия нашли в том же положении, в каком она находилась у древних, и каково бы ни было происхождение слова алгебра, сами арабы скромно сознаются, что основателем этой науки был грек Диофант. Они более успешно занимались астрономией, которая, возвышая человеческий ум, научает людей презрительно относиться и к крошечным размерам планеты, на которой они живут, и к их кратковременному существованию. Дорогие инструменты для астрономических наблюдений были доставлены ал-Мамуном; а страна халдейцев по-прежнему доставляла обширную поверхность и безоблачный горизонт. Сначала на равнинах Сеннара, а потом на равнинах Куфы его математики тщательно измерили один градус большего земного круга и определили всю окружность нашего шара в двадцать четыре тысячи миль. Со времен владычества Аббассидов до времен владычества внуков Тамерлана звезды были предметом тщательных наблюдений, но без помощи телескопа, а Астрономические Таблицы, багдадские, испанские и самаркандские, исправили некоторые мелкие ошибки, но не осмелились отвергнуть гипотезу Птолемея и не сделали ни одного шага к открытию Солнечной системы. При восточных дворах научные истины могли иметь успех лишь при содействии невежества и глупости, и тот астроном, который не захотел бы унижать своей учености или своей чести вздорными астрологическими предсказаниями, был бы предметом общего презрения. Но в медицине арабы стяжали заслуженные похвалы. Имена Мезуа и Гебера, Разиза и Авиценны стоят наряду с именами греческих знатоков этой науки; в городе Багдаде восемьсот шестьдесят докторов имели разрешение заниматься своей доходной профессией, а школа в Салерно, обязанная своим возникновением арабской учености, распространила по Италии и по Европе знакомство с этим целебным искусством. Успех каждого профессора мог зависеть от личных достоинств и от случайных причин; но мы в состоянии сделать более основательную оценку их познаниям по анатомии, ботанике и химии, – по этим трем основам их теории и практики. Суеверное уважение к мертвым заставляло и греков, и арабов ограничиваться вскрытием пчел и четвероногих; с самыми крупными и самыми доступными для наблюдения частями человеческого тела доктора были знакомы во времена Галена, но для более тщательных исследований нужны были микроскопы и зонды, употребляемые новейшими знатоками этого дела. Успехи ботаники зависят от человеческой предприимчивости, и сделанные в жарком поясе открытия могли обогатить гербарий Диоскори-да двумя тысячами растений. Некоторые традиционные сведения о химии, быть может, втайне сохранялись в египетских храмах и монастырях; много полезных практических сведений было добыто теми, кто занимался искусствами и мануфактурами; но химия как наука обязана своим происхождением и своими усовершенствованиями трудам сарацинов. Они прежде всего стали употреблять для дистилляции перегонный куб, получивший от них свое название; они разлагали произведения трех царств на составные части, исследовали различие и свойства щелочной соли и кислот и стали извлекать из ядовитых металлов приятные и целебные медикаменты. Но арабская химия всего более занималась превращением металлов и отыскиванием эликсиров бессмертия; рассудок и состояния тысяч людей пропали в горниле алхимии, а к преследованию этой великой цели поощряли три достойных сотрудника – тайна, вымысел и суеверие.
Но мусульмане сами лишили себя главных выгод, доставляемых чтением произведений греческих и римских писателей, – знакомства с древностью, чистоты вкуса и свободы мышления. Гордясь богатством своего родного языка, арабы пренебрегали изучением языков иностранных. Переводчиков греческих сочинений они выбирали между подвластными им христианами, которые иногда переводили с подлинного текста, а чаще, как кажется, с сирийских переложений, и в массе астрономов и медиков, сочинения которых были изложены на языке сарацинов, нет ни одного поэта, ни одного оратора и даже ни одного историка. Гомерова мифология возбудила бы в этих суровых фанатиках отвращение; они пребывали в праздном невежестве, управляя колониями македонян и провинциями, прежде принадлежавшими Карфагену и Риму; герои Плутарха и Ливия были преданы забвению, и история мира до Мухаммеда умещалась в коротенькой легенде о патриархах, о пророках и о персидских царях. Наше образование, основанное на изучении греческих и латинских писателей, быть может, налагает на наш ум исключительный отпечаток, и я вовсе не расположен осуждать литературу и умственное направление народа, с языком которого я незнаком. Тем не менее мне известно, что классические писатели научают многому, и я полагаю, что восточные народы могли бы позаимствовать от них и сдержанное благородство слога, и изящную соразмерность частей, и внешнюю форму как видимой, так и духовной красоты, и верное описание характеров и страстей, и риторические украшения рассказа, и аргументации, и правильную постройку эпопеи и драмы. Влияние правды и рассудка сказывается в результатах еще более положительных. Философы афинские и римские наслаждались благами и отстаивали права гражданской и религиозной свободы. Их сочинения нравоучительного и политического содержания могли бы мало-помалу развязать цепи восточного деспотизма, распространить либеральную склонность к расследованиям и к веротерпимости и внушить арабским мудрецам подозрение, что их халиф был тиран, а их пророк самозванец. Но инстинкт суеверия был встревожен даже введением отвлеченных знаний, и самые взыскательные приверженцы Корана осуждали опрометчивую и зловредную любознательность ал-Мамуна. Непреклонный религиозный энтузиазм и монарха, и народа следует приписать жажде мученичества, мечтам о рае и вере в предопределение. Меч сарацинов сделался менее страшен, когда их юношество стало переходить из лагерей в школы и когда армии правоверных осмелились читать и размышлять. Тем не менее греки из безрассудного тщеславия завидовали их склонности к ученым занятиям и неохотно наделяли восточных варваров священным огнем.
Во время кровопролитной борьбы Омейядов с Аббассидами греки воспользовались удобным случаем, чтоб отмстить за вынесенные обиды и расширить свои владения. Но третий халиф новой династии Махди жестоко отплатил им за это, в свою очередь воспользовавшись тем благоприятным обстоятельством, что византийский престол был занят женщиной и ребенком, – Ириной и Константином. Армия из девяноста пяти тысяч персов и арабов была отправлена от берегов Тигра к берегам Фракийского Босфора под начальством второго сына повелителя правоверных, Харуна, или Аарона. Ее лагерь, раскинутый на противоположных высотах Хризополя, или Скутари, так что Ирина могла видеть его из своего константинопольского дворца, известил императрицу об утрате ее армий и провинций. Ее министры подписали позорный мирный договор с согласия или с тайного одобрения своей государыни, а подарки, которыми обменялись два двора, не могли замаскировать ежегодной дани в семьдесят тысяч золотых динариев, которою была обложена римская империя. Сарацины слишком опрометчиво проникли внутрь отдаленной и враждебной страны; их склонили к отступлению тем, что обещали дать им надежных проводников и снабдить их съестными припасами, и ни один грек не имел смелости намекнуть на то, что измученную неприятельскую армию можно бы было окружить и уничтожить во время ее неизбежного прохода между одной крутой горой и рекой Сангарием. Через пять лет после этой экспедиции Харун вступил на престол своего отца и своего старшего брата; это был самый могущественный и самый энергичный из монархов этого дома; он прославился на Западе тем, что был союзником Карла Великого, а читателям он знаком с детства, так как постоянно был героем арабских сказок. Его прозвище Аль-Рашида (справедливого) было запятнано истреблением благородных и, быть может, невинных бармекидов; тем не менее он был способен выслушать жалобу бедной вдовы, которая была ограблена его солдатами и осмелилась цитировать неосмотрительному деспоту изречение из Корана, угрожавшее ему судом Божиим и судом потомства.
Его двор был украшен блеском роскоши и учености; в свое двадцатитрехлетнее царствовавание Харун неоднократно посещал свои провинции от Хорасана до Египта, девять раз совершал благочестивые странствования в Мекку, восемь раз вторгался на территорию римлян, а всякий раз как они прекращали уплату дани, они узнавали по опыту, что один месяц опустошений стоил им дороже, чем один год покорности. Но когда жестокосердная мать Константина была свергнута с престола и отправлена в ссылку, ее преемник Никифор решился стереть это клеймо рабства и унижения. Письмо императора к халифу было прикрашено намеком на игру в шахматы, которая уже перешла в ту пору из Персии в Грецию. “Королева (он разумел Ирину) считала вас за ладью, а себя за пешку. Эта малодушная женщина согласилась уплачивать дань в двойном размере против того, что должна бы была взыскивать с варваров. Итак, возвратите то, что было плодом вашей несправедливости, или подчиняйтесь приговору меча”. С этими словами послы бросили к подножию престола связку мечей. Халиф улыбнулся при этой угрозе и, обнажив свой палаш, samsamah, приобретший историческую или баснословную известность, перерубил пополам слабое оружие греков, не употребляя в дело острия и не попортив закала своего клинка. Затем он продиктовал следующее послание, отличавшееся внушительною краткостью: “Во имя Всемилосердого Бога, повелитель правоверных Харун-аль-Рашид к римской собаке Никифору. Я прочел твое письмо, сын неверной матери. Ты не услышишь моего ответа, а увидишь его”. Этот ответ был написал кровавыми и огненными буквами на равнинах Фригии, а греки сдержали быстроту арабского наступления лишь при помощи обмана и притворного раскаяния. Торжествующий халиф удалился по окончании утомительной кампании в свой любимый дворец, в Ракку на берега Евфрата; но расстояние в пятьсот миль и суровое время года дали его противнику смелость нарушить мирный договор. Никифора поразило удивлением смелое и быстрое наступление повелителя правоверных, снова перешедшего среди зимы через снежные горы Тавра; он истощил все свои военные и политические хитрости, и этот вероломный грек бежал с тремя рабами с поля сражения, усеянного сорока тысячами его подданных. Однако император стыдился изъявлений покорности, а халиф твердо решил победить. Сто тридцать пять тысяч солдат регулярной армии получали от Харуна жалованье и были внесены в списки его войск; сверх того, более трехсот тысяч людей всякого рода выступили в поход под черным знаменем Аббассидов. Они разлились по Малой Азии далеко за Тиану и Анкиру и обложили понтийскую Гераклею, которая когда-то была столицей цветущего государства, а в настоящее время не более как ничтожный городишко, и которая в ту пору была способна выдержать внутри своих старинных стен месячную осаду против всех военных сил Востока. Она была совершенно разрушена, и найденная в ней добыча была обильна; но если бы Харун был знаком с греческой историей, он пощадил бы статую Геркулеса, атрибуты которого – палица, лук, колчан и львиная шкура – были изваяны из массивного золота. Опустошение, распространившееся морем и сухим путем от берегов Эвксинского моря до острова Кипр, принудило императора Никифора отказаться от его высокомерного вызова. В новом мирном договоре было условлено, что развалины Гераклеи всегда будут служить уроком для греков и памятником славы победителя и что на монете, которою будет уплачиваться дань, будут вычеканены изображения и имена Харуна и его трех сыновей. Однако благодаря этой многочисленности повелителей было легче снять с римского имени этот позор. Между наследниками халифа возникли, после смерти их отца, раздоры, а вышедший победителем из этой борьбы благородный ал-Мамун был слишком занят восстановлением внутреннего спокойствия и распространением заимствованных от иностранцев научных познаний.
В то время как в Багдаде царствовал ал-Мамун, а в Константинополе Михаил Косноязычный, арабы завладели островами Крит и Сицилия. Их собственные писатели, ничего не знавшие о славе, которую стяжали Юпитер и Минос, относились к первому из этих приобретений с пренебрежением; но оно не было оставлено без внимания византийскими историками, которые начали в ту пору освещать события своего времени более ярким светом. Кучка андалузских добровольцев, недовольных испанским климатом или испанским правительством, пустилась в море в поисках за приключениями; но так как они отплыли только на десяти или двадцати галерах, то их военные предприятия были заклеймены названием морских разбоев. В качестве подданных и приверженцев белой партии они считали себя вправе нападать на владения черных халифов. Партия недовольных открыла им доступ внутрь Александрии; они поражали без разбора и друзей, и врагов, грабили церкви и мечети, продали более шести тысяч христианских пленников и держались в столице Египта до той минуты, когда сам ал-Мамун прибыл в Александрию со своей армией. От устьев Нила до Геллеспонта острова и берега, находившиеся во власти как греков, так и мусульман, сделались жертвами их хищнических набегов; они прельстились плодородием Крита, пожелали овладеть этим островом и скоро возвратились туда с сорока галерами для более серьезного нападения. Андалузцы бродили по острову, не встречая никакого сопротивления; но когда они возвратились на берег с награбленною добычею, их суда были объяты пламенем, а их вождь Абу Кааб признал себя виновником этого пожара. Они стали обвинять его в безумии и вероломстве. “Чем вы недовольны? – возразил хитрый эмир. – Я привез вас в страну, которая изобилует млеком и медом. Здесь ваше настоящее отечество; отдыхайте от ваших трудов и позабудьте бесплодную страну, в которой вы родились”. – “А наши жены и дети?” – “Ваши красивые пленницы заменят ваших жен; в их объятиях вы скоро сделаетесь отцами новых потомков”. Их первоначальным жилищем был лагерь в заливе Суд, обнесенный рвом и валом; но один перешедший в их религию монах указал им более выгодное место в восточной части острова, а название Кандакса, данное их крепости и колонии, было распространено на весь остров в извращенном новейшем названии Кандии. Из ста городов, существовавших во времена Миноса, оставалось только тридцать, и только один из этих тридцати, по всему вероятию Кидония, имел достаточно мужества, чтоб отстоять свою свободу и не отречься от христианства. Критские сарацины скоро загладили утрату своего флота, и леса горы Иды стали рассекать морские волны. В течение ста тридцати восьми лет константинопольские императоры часто нападали на этих отважных корсаров, но их ненависть была бессильна, а их военные предприятия неудачны.