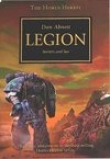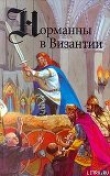Текст книги " Закат и падение Римской Империи. Том 6"
Автор книги: Эдвард (Эдуард ) Гиббон
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
III. Чтоб оправдать супружество своего собственного сына с дочерью короля Италии Гугона, мудрый Порфирородный придумал более благородные мотивы. Великий и святой Константин ценил преданность и мужество франков, а благодаря своему дару предвидения он знал, какое величие ожидает их в будущем. В пользу их одних было сделано исключение из общего запрета: король Франции Гугон происходил в прямой линии от Карла Великого, а его дочь Берта унаследовала прерогативы своего рода и своей нации. Голос правды или злобы с течением времени разоблачил ложь или ошибку императорского двора. Наследственные владения Гугона заключались не в королевстве французском, а лишь в графстве Арелатском; впрочем, никто не отвергал того, что Гугон, пользуясь тогдашними смутами, захватил верховную власть над Провансом и вторгнулся во владения короля Италии. Его отец был частный человек знатного происхождения, а если Берта и происходила по женской линии от Карла Великого, то каждая степень этого родства была запятнана незаконностью рождения или развратом. Бабка Гугона, знаменитая Вальдрада, была скорее наложницей, чем женой второго Лотара, который своим прелюбодейством, своим разводом и своим вторичным браком навлек на себя громы Ватикана. Его мать, прозванная великой Бертой, была замужем сначала за графом Арелатским, а потом за маркизом Тосканским; Франция и Италия были скандализованы ее любовными приключениями, и пока она не достигла шестидесяти лет, ее любовники всякого разряда были усердными служителями ее честолюбия. Король Италии был так же невоздержен, как его мать и бабка, и три любимые наложницы Гугона были украшены классическими именами Венеры, Юноны и Семелы. Дочь Венеры была уступлена византийскому двору по его настоятельным просьбам; ее имя, Берта, было заменено именем Евдокии, и она была выдана замуж или, верней, помолвлена за будущего наследника восточной империи юного Романа. Довершение этого брачного союза с чужестранкой было отложено ввиду нежного возраста обоих супругов, а по прошествии пяти лет и самый союз был расторгнут смертию девственной супруги. Второй женой императора Романа была девушка плебейского, но римского происхождения, а их две дочери, Феофана и Анна, были выданы за двух членов царственных домов. Старшая была выдана в качестве мирного залога за старшего сына Оттона Великого, который искал этого родственного союза с оружием в руках или через своих послов. Мог возникнуть вопрос о том, по какому праву саксонец пользуется привилегиями французской нации; но все колебания смолкли перед славой и благочестием героя, восстановившего западную империю. После смерти своего тестя и своего мужа Феофана управляла Римом, Италией и Германией во время малолетства своего сына, третьего Оттона, и латины ценили добродетели императрицы, которая жертвовала воспоминаниями о своей родине, исполняя лежавшие на ней высокие обязанности. При бракосочетании ее сестры Анны необходимость и страх заглушили все предрассудки и одержали верх над заботой о личном достоинстве членов императорского семейства. Царствовавший на севере язычник русский великий князь Владимир изъявил желание вступить в брак с одной из принцесс императорского дома, а чтоб подкрепить свои притязания, он угрожал войной, обещал обратиться в христианство и предлагал могущественное содействие в борьбе с нарушавшим внутреннее спокойствие империи мятежником. В качестве жертвы за свою религию и за свое отечество греческая принцесса была принуждена покинуть дворец своих предков и царствовать над варварским народом, живя в вечном изгнании на берегах Борисфена, или вблизи от Полярного круга. Впрочем, супружество Анны было счастливо и плодовито; для дочери ее внука Ярослава послужило рекомендацией происхождение от императорского дома, и король Франции Генрих I нашел себе жену на окраинах Европы и христианского мира.
Внутри византийского дворца император был первым рабом того церемониала, которому подчинял своих подданных, и тех строгих правил этикета, которые регулировали каждое слово и каждое телодвижение, держали его внутри дворца в осадном положении и нарушили досуг его сельского уединения. Но жизнь и состояние миллионов людей зависели от его произвола, а самые благородные умы, недоступные для приманок пышности и роскоши, способны увлечься более соблазнительным удовольствием повелевать себе равными. Власти законодательная и исполнительная сосредоточивались в особе монарха, а Лев Философ искоренил последние остатки авторитета сената. Летаргия рабства притупила умы греков: среди самых необузданных взрывов мятежа они никогда не помышляли о свободной конституции, и личный характер монарха считался единственным источником и единственным мерилом их общественного благоденствия. Суеверие скрепляло их оковы; когда патриарх короновал императора в Софийском соборе, они клялись у подножия алтаря в слепом и безусловном повиновении его правительству и его семейству. Он со своей стороны обязывался по мере возможности воздерживаться от смертных казней и от изувечий, собственноручно подписывал свой православный символ веры и обещал подчиняться как постановлениям семи соборов, так и уставам святой церкви. Но свое обещание быть милосердным он высказывал в форме неясной и неопределенной; свою клятву он давал не народу, а невидимому судье, и, за исключением тех случаев, когда на нем лежала неизгладимая виновность в ереси, исполнители воли Небес всегда были готовы отстаивать неотъемлемые права своего государя и извинять его мелкие прегрешения. Греческое духовенство само находилось в полной зависимости от светской власти: мановение тирана создавало епископов, переводило их с одного места на другое, низлагало их или наказывало позорною смертью; как бы они ни были богаты или влиятельны, они никогда не могли основать, подобно латинскому духовенству, независимую республику, и константинопольский патриарх, осуждая светское могущество своего римского собрата, втайне ему завидовал. Однако пользование беспредельною деспотическою властью, к счастью, ограничивается законами природы и необходимости. Повелитель империи исполняет свои священные и трудные обязанности в той мере, в какой одарен мудростью и добродетелями. Если же он порочен и безрассуден, скипетр, который ему не по силам, выпадает из его рук, и всеми движениями коронованного призрака незаметно руководит какой-нибудь министр или фаворит, принявший на себя из личных интересов роль общего притеснителя. Бывают такие роковые минуты, когда самый неограниченный монарх должен опасаться здравого смысла или прихоти нации, состоящей из рабов, а опыт доказал, что всякое расширение верховной власти уменьшает ее безопасность и прочность.
Каковы бы ни были титулы, усвоенные деспотом, и каковы бы ни были присвоенные им права, в конце концов он должен полагаться только на меч для обороны от своих внешних и внутренних врагов. Со времен Карла Великого до Крестовых походов три великие империи или нации – греческая, сарацинская и франкская – владели известным в то время миром (я оставляю в стороне отдаленную китайскую монархию) и боролись из-за обладания им. Степень их военного могущества можно определить путем сравнения их мужества, их искусств и богатств и их покорности верховному вождю, способному употреблять в дело все силы государства. В том, что касается первого из этих условий военного могущества, греки были много ниже своих соперников; но в том, что касается второго и третьего, они превосходили франков и, по меньшей мере, равнялись с сарацинами.
Благодаря своим богатствам греки были в состоянии привлекать к себе на службу более бедные народы и содержать военный флот как для защиты своих берегов, так и для нападения на своих врагов. Выгодная для обеих сторон торговля променивала константинопольское золото на кровь славонцев и тюрок, болгар и русских; мужество этих иноземцев содействовало победам Никифора и Цимисхия, а если какой-нибудь враждебный народ угрожал границам империи, его заставляли отступить для защиты собственной родины и искать мира, искусно направляя на него нападение какого-нибудь более отдаленного от империи народа. Преемники Константина постоянно заявляли притязания на владычество над Средиземным морем от устьев Танаиса до Геркулесовых столбов, а нередко и действительно пользовались этим владычеством. Их столица была наполнена морскими припасами и искусными мастеровыми; географическое положение Греции и Азии, длинные морские берега, глубокие заливы и многочисленные острова приучали их подданных к мореплаванию, а торговля Венеции и Амальфи служила рассадником матросов для императорского флота. Со времени войн Пелопоннесской и Пунических сфера деятельности нисколько не расширилась, а кораблестроительное искусство, по-видимому, приходило в упадок. Константинопольским корабельным мастерам, точно так же как и механикам нашего времени, не было знакомо искусство сооружать те громадные машины, на которых было по три, по шести или по десяти рядов весел, возвышавшихся и опускавшихся одни над другими. Дромоны, или легкие византийские галеры, имели только по два ряда весел; каждый ряд состоял из двадцати пяти скамеек, а на каждой скамейке сидели по два гребца, работавших своими веслами с той и с другой стороны судна. Сверх того на галере находились капитан, или центурион, стоявший во время сражения на корме вместе со своим оруженосцем, два кормчих, стоявшие у руля, и два офицера, которые стояли у носовой части галеры и из которых один находился при якоре, а другой наводил на неприятеля и приводил в действие машину, метавшую греческий огонь. Вся команда, как это бывает при зародыше военного искусства, несла двойную службу и матросов, и солдат; она была снабжена оружием и для обороны, и для нападения – луками и стрелами, которые употребляла в дело с верхней палубы, и длинными пиками, которыми действовала сквозь отверстия, сделанные у нижнего ряда весел. Правда, иногда военные суда имели более широкие размеры и более прочную конструкцию; в этих случаях обязанности сражаться и маневрировать более правильно разделялись между семидесятью солдатами и двумястами тридцатью матросами. Но большею частию они были небольших размеров, и ими было нетрудно управлять; а так как Малейский мыс в Пелопоннесе все еще наводил на моряков суеверный страх, то императорский флот перевозили через Коринфский перешеек сухим путем на расстоянии пяти миль. Принципы морской тактики нисколько не изменились со времен Фукидида; эскадра из галер выстраивалась перед вступлением в бой по-прежнему в форме полумесяца, нападала на неприятеля с фронта и старалась острым носом своих судов попасть в слабые стороны противника. Посреди палубы стояла машина из крепкого дерева, метавшая камни и стрелы, а когда хотели взять неприятельское судно на абордаж, на него перебрасывали вооруженных людей при помощи подъемной машины. Для языка сигналов, который так ясен и так обилен в морском диксионере новейших мореплавателей, служили не вполне удовлетворительным способом выражения различные положения и цвета адмиральского флага. Среди ночной темноты те же самые приказания двигаться вперед, нападать, останавливаться, отступать, выходить из строя или смыкать строй давались посредством огней, зажженных на передовой галере. На суше огневые сигналы передавались с одной горы на другую; нить из восьми таких сигнальных постов передавала известия за пятьсот миль, и Константинополь был через несколько часов извещен о неприязненных намерениях выступивших из Тарса сарацинов. О морских силах греческих императоров можно составить себе довольно верное понятие по интересным и подробным сведениям о тех вооружениях, которые были приготовлены для завоевания Крита. В столице, на островах Эгейского моря и в приморских городах Азии, Македонии и Греции был снаряжен флот из ста двенадцати галер и семидесяти пяти кораблей, построенных по образцу тех, какие строились в Памфилии. На эти суда были посажены тридцать четыре тысячи матросов, семь тысяч триста сорок солдат, семьсот русских и пять тысяч восемьдесят семь мардаитов, предки которых были выселены с Ливанских гор. Их жалованье, по всему вероятию за один месяц, было вычислено в тридцать четыре центенария золота, или почти в сто тридцать шесть тысяч фунтов стерлингов. Наше воображение становится в тупик от бесконечного перечисления оружия и военных машин, одежд и белья, съестных припасов и корма для лошадей, запасов и утвари всякого рода, которые были потрачены на безуспешную попытку овладеть маленьким островом, но которых было бы вполне достаточно для основания цветущей колонии.
Изобретение греческого огня не произвело в военном искусстве такого решительного переворта, какой произвело изобретение пороха. Этой горючей жидкости и столица, и империя Константина были обязаны своим спасением; она употреблялась при осадах и в морских сражениях и производила страшные опустошения. Но это изобретение или не было доведено до совершенства, или не было доступно для усовершенствований; и при нападении на укрепленные города и при их обороне чаще и с большим успехом употребялись старинные военные машины – катапульты, баллисты и тараны, а исход сражений не зависел от частого и сильного огня пехоты, которую было бы бесполезно охранять латами от такого же огня ее противников. Сталь и железо по-прежнему были обыкновенными орудиями истребления врагов и собственной обороны, а шлемы, латы и щиты десятого столетия мало отличались и по своей внешней форме, и по своим внутренним достоинствам от тех, которыми прикрывались боевые товарищи Александра и Ахилла. Но вместо того, чтобы приучать новейших греков постоянно носить эту предохранительную тяжесть, подобно тому как ее приучались носить в старину легионные солдаты, эти латы складывались на следовавших за армией легких повозках, и только при приближении неприятеля солдаты торопливо и неохотно надевали на себя это непривычное тяжелое бремя. Оружием для нападения служили мечи, боевые секиры и копья; но македонская пика была уменьшена на одну четверть своей длины и доведена до более удобной длины в двенадцать локтей, или футов. Греки испытали на себе силу скифских и арабских стрел, а императоры жаловались на упадок искусства стрельбы из луков как на причину общественных бедствий и советовали или приказывали поступавшим в военную службу молодым людям усердно упражняться до сорока лет в искусстве владеть этим оружием. Роты или полки обыкновенно состояли из трехсот человек, а в пехоте Льва и Константина солдаты выстраивались в восемь шеренг, которые составляли середину между двумя крайностями – между четырьмя и шестнадцатью шеренгами; но кавалерия нападала четырьмя шеренгами на основании того благоразумного соображения, что сила фронта не увеличивается от напора задних всадников. Если число шеренг в пехоте или в кавалерии иногда удваивалось, эта предосторожность обнаруживала тайное недоверие к мужеству войск, которые могли наводить страх своей многочисленностью, но между которыми только незначительная часть была способна противостоять копьям и мечам варваров. Построение в боевом порядке необходимо видоизменялось сообразно с местностью, с целью, которая имелась в виду, и с характером противников; но обыкновенное построение в две линии с резервом позади представляло последовательный ряд надежд и ресурсов, соответствовавший как темпераменту, так и здравомыслию греков. Если нападение оказывалось неудачным, первая линия отступала в промежутки второй линии, а резерв, разделившись на две части, обходил вокруг флангов или для того, чтобы довершить победу, или для того, чтобы прикрыть отступление. Все, что могла сделать правительственная власть, было сделано, по меньшей мере в теории, введением правил для лагерной жизни и для походов, для военных упражнений и для эволюции, и изданием эдиктов и сочинений, написанных византийским монархом. Все, что могло сделать искусство при помощи ковальни, ткацкого станка или лаборатории, в избытке доставлялось богатством монарха и трудолюбием его многочисленных мастеровых. Но ни правительственная власть, ни искусство не могли создать самое важное из всех военных орудий – солдата, и хотя Церемонии Константина всегда предполагают благополучное и победоносное возвращение императора, его тактика редко возвышается над изысканием средств избежать поражения и протянуть войну. Несмотря на некоторые временные успехи, греки упали в своем собственном мнении и в мнении соседей. Неподвижность рук и болтливость языка считались отличительными чертами нации; автор Тактики был осажден в своей столице, и самые последние из варваров, дрожавших при одном имени сарацинов или франков, могли с гордостью показывать золотые и серебряные монеты, которые они исторгли от слабого константинопольского монарха. Влияние религии могло бы одушевить их в некоторой мере тем мужеством, которого им не смело внушать их правительство и которое не было в их характере; но религия греков научала лишь страдать и покоряться. Император Никифор, на короткое время восстановивший дисциплину и репутацию римской армии, пожелал наградить почестями мученичества тех христиан, которые лишались жизни в священной войне с неверными. Но против этого закона, внушенного политическими соображениями, восстали патриарх, епископы и самые влиятельные сенаторы: они настоятельно ссылались на то, что по уставу св. Василия всякий, кто запятнал себя кровожадным ремеслом солдата, должен быть на три года удален от общения с верующими.
Эту нерешительность греков сопоставляли со слезами, которые текли из глаз первых мусульман, когда они не могли участвовать в сражении, а этот контраст между низким суеверием и пылким энтузиазмом объясняет для философа всю историю двух соперничавших наций. Подданные последних халифов, бесспорно, утратили усердие и преданность товарищей пророка. Тем не менее, по их воинственным верованиям, войны возникали по воле Божества; хотя и скрытая, но полная жизненной силы искра фанатизма все еще таилась в недрах их религии и нередко превращалась в яркое пламя в среде тех сарацинов, которые жили вблизи границы христианских владений. Их регулярные военные силы состояли из отважных рабов, привыкших охранять особу своего господина и следовать за его знаменем; но при первом звуке трубы, возвещавшем о священной войне с неверными, пробуждались и те мусульмане, которые жили в Сирии и Киликии, и те, которые жили в Африке и в Испании. Богатые люди искали или смерти, или победы, сражаясь за дело Божие; бедняков привлекала надежда грабежа, а старики, увечные и женщины принимали свою долю участия в этих достойных награды предприятиях, посылая вместо себя на войну наемников, которых снабжали оружием и лошадьми. Эти орудия наступательных и оборонительных войн походили по своей силе и по своему закалу на военные силы римлян, над которыми имели то преимущество, что арабы более ловко управляли конем и более искусно владели луком; массивные серебряные бляхи, украшавшие их перевязи, конскую сбрую и мечи, обнаруживали роскошь наслаждавшейся благоденствием нации, и, за исключением небольшого числа приходивших с юга черных стрелков из лука, арабы не придавали большой цены лишенному внешнего блеска мужеству своих предков. Вместо повозок за ними следовали длинные вереницы верблюдов, мулов и ослов; огромное число этих животных, которых они обыкновенно покрывали флагами и знаменами, как будто увеличивало пышность и многочисленность их армии, а на неприятельских лошадей нередко наводили страх уродливая внешность и отвратительный запах восточных верблюдов. Мусульмане были непобедимы благодаря терпению, с которым выносили жажду и жару; но от зимнего холода их бодрость застывала, а вследствие их склонности ко сну принимались самые строгие предосторожности против ночных нападений врасплох. Их боевой строй имел форму длинного четырехугольника, каждая сторона которого состояла из двух густых и тесно сплоченных рядов; в первом ряду стояли стрелки из лука, во втором – кавалерия. В своих сражениях и на море, и на суше они выдерживали ярость нападения с непоколебимою твердостью и редко сами ходили в атаку, не удостоверившись предварительно в истощении неприятельских сил. Но если их нападение было отражено и их ряды были прорваны, они не умели снова выстроиться в боевом порядке и возобновить бой, а их упадок духом в этих случаях усиливался от суеверного убеждения, что Бог принял сторону их врагов. Это страшное убеждение поддерживалось в них упадком, в который приходило владычество халифов; сверх того, ни у мусульман, ни у христиан не было недостатка в неясных пророчествах, предвещавших поражение то одних, то других. Единство арабской империи было разрушено, но ее самостоятельные осколки могли равняться с многолюдными и сильными государствами, а морские и военные силы какого-нибудь эмира, царствовавшего в Алеппо или Тунисе, свидетельствовали об искусстве и трудолюбии его подданных и о находившихся в его распоряжении больших денежных ресурсах. И во время своих мирных сношений с сарацинами, и в то время, как вели с ними войны, константинопольские монархи слишком часто сознавали, что в воспитании этих варваров не было ничего варварского и что если они были лишены самобытной гениальности, зато были одарены пылкой любознательностью и способностью подражания. Действительно, модель была совершенне копии: сарацины сооружали свои корабли, военные машины и укрепления не так искусно, как греки, и, не краснея, сознавались, что тот же самый Бог, от которого арабы получили свой язык, создал в более совершенном виде руки китайцев и головы греков.
Название нескольких германских племен, живших между Рейном и Везером, обратилось путем завоеваний в название большей части Галлии, Германии и Италии и под общим именем франков. Греки и арабы разумели христиан латинской церкви и западные народы, которые населяли страны, лежавшие за пределами им известного мира, вплоть до берегов Атлантического океана. Гений Карла Великого давал этому обширному политическому телу и душу, и единство; но раздоры и нравственная испорченность его потомков скоро разрушили империю, которая могла бы соперничать с византийскими Цезарями и могла бы отомстить за унижение христианского имени. Уже ничто не внушало ни страха врагам, ни доверия подданным: ни государственные доходы и продукты торговли и промышленности, прежде тратившиеся на организацию военных сил, ни взаимная помощь провинций и армий, ни те эскадры, которые были расставлены от устьев Эльбы до устьев Тибра. В начале десятого столетия потомство Карла Великого почти совершенно исчезло из виду; его монархия распалась на несколько независимых и враждовавших между собою государств; королевский титул присваивали себе самые честолюбивые вожди; их восстания служили примером для их подчиненных среди общей анархии и раздоров, и в каждой провинции знать отказывала своему государю в повиновении, угнетала своих вассалов и вела беспрестанные войны с себе равными и со своими соседями. Их личные распри ниспровергли власть правительства, но они поддерживали в народе воинственный дух. При теперешнем устройстве европейских государств сила меча находится, по крайней мере на самом деле, в распоряжении пяти или шести могущественных монархов; их военные операции ведутся на отдаленной границе их владений особым разрядом людей, посвятивших свою жизнь на изучение и на практическое применение военного искусства; остальная страна наслаждается во время войны мирным спокойствием и узнает о происходящих переменах только по увеличению или по уменьшению государственных податей. При неурядицах, господствовавших в десятом и одиннадцатом столетиях, каждый крестьянин был солдатом и каждая деревня была укреплена; каждый лес и каждая равнина были театром убийств и грабежа, а владельцы замков были вынуждены усвоить характер монархов и военачальников. Они смело полагались на свое собственное мужество и на свою политику в том, что касалось безопасности их семейств, охраны их земельной собственности и мщения за их обиды и, подобно более крупным завоевателям, были слишком склонны переступать за пределы прав самозащиты. Их силы душевные и физические крепли ввиду постоянной опасности и вследствие необходимости не терять бодрости духа; по тем же причинам они не покидали друзей и не щадили врагов и вместо того, чтобы спокойно засыпать под бдительной охраной правительственных должностных лиц, гордо отвергали авторитет законов. В дни феодальной анархии орудия земледелия и искусства превращались в орудия кровопролития; мирные занятия и мирян, и духовенства или прекращались, или изменяли свой характер, а епископы меняли свою митру на шлем не столько потому, что на них лежали обязанности ленных владельцев, сколько потому, что этого требовали нравы того времени.
Франки с гордостью сознавали свое природное влечение к свободе и к войне, а греки замечали его не без удивления и не без страха. “Смелость и храбрость франков, – говорит император Константин, – доходит до дерзости, а их неустрашимое мужество поддерживается презрением к опасностям и к смерти. На поле сражения и в рукопашном бою они нападают с фронта и бросаются очертя голову на врага, не обращая никакого внимания на то, как велики их собственные силы в сравнении с неприятельскими. Их ряды сплочены крепкими узами кровного родства и дружбы, а свои воинские подвиги они совершают из желания или спасти самых дорогих своих товарищей, или отомстить за их смерть. В их глазах отступление то же, что постыдное бегство, а бегство считается неизгладимым позором”. Народ, наделенный таким мужеством и такой неустрашимостью, мог бы быть уверен в победе, если бы для этих достоинств не служили противовесом многие важные недостатки. Вследствие того, что его морские силы пришли в упадок, греки и сарацины стали владычествовать на морях и стали пользоваться этим владычеством или для того, чтобы нападать на своих врагов, или для того, чтобы помогать своим союзникам. В том веке, который предшествовал возникновению рыцарства, франки были неловкими и неискусными кавалеристами, а в минуту опасности они до такой степени сознавали свою неловкость, что предпочитали сходить с коня и сражаться пешими. Не будучи знакомы с употреблением пик и метательных снарядов, они были стеснены в своих движениях чрезмерной длиною своих мечей, тяжестью своих лат, громадностью своих щитов и – если мне будет дозволено повторить сатирическое замечание худощавых греков – своей неуклюжей тучностью. Из любви к независимости, они не выносили ига субординации и покидали знамя своего вождя, если он удерживал их на службе долее условленного срока. Они на каждом шагу могли попасть в сети, расставленные менее храбрым, но более хитрым врагом. Их можно было подкупить, так как у варваров была продажная душа; их можно было застать ночью врасплох, так как они не принимали необходимых предосторожностей, – не обносили своих лагерей укреплениями и не окружали их бдительными часовыми. Трудности летней кампании истощали их физические силы и терпение, и они впадали в отчаяние, если не могли удовлетворить свою прожорливость обильными запасами вина и съестных припасов. Эти общие черты характера франков носили на себе еще некоторые национальные и местные оттенки, которые я должен приписать скорей случайности, чем климату, но которые бросались в глаза и туземцам и иностранцам. Один из послов Оттона Великого объявил в константинопольском дворце, что саксы более способны сражаться мечом, чем пером, и что они предпочитают неизбежную смерть позорному обращению спиной к неприятелю. Французские дворяне гордились тем, что в своих скромных жилищах они не знали иных удовольствий и занятий, кроме войны и грабежа. Они насмехались над дворцами, банкетами и утонченными нравами итальянцев, которые даже в глазах греков утратили любовь к свободе и мужество древних лангобардов.
В силу знаменитого эдикта, изданного Каракаллой, его подданные, от Британии до Египта, получили право пользоваться названием и привилегиями римлян, а их монарх, повсюду находивший вокруг себя соотечественников, получил возможность выбирать для своей временной или постоянной резиденции любую из провинций их общего отечества. При разделении империи на восточную и западную ее идеальное единство тщательно оберегалось, и преемники Аркадия и Гонория выдавали себя, в своих титулах, законах и регламентах, за неразделенных соправителей равного сана, за сомонархов римского мира и римской столицы, у которых были одни и те же пределы. После падения западной монархии величие императорского достоинства сосредоточилось в лице константинопольских монархов, а между этими монархами Юстиниан первый вновь завладел Древним Римом после его шестидесятилетнего самостоятельного существования и путем завоевания укрепил за собою священный титул императора римлян. Один из его преемников, Констанций Второй, задумал, из тщеславия или с досады, покинуть фракийский Босфор и возратить берегам Тибра их прежний почет: “Какой нелепый замысел! – злобно восклицает один византиец, – это было бы то же, что обобрать находящуюся в полном цвете красоты и юности девственницу для того, чтобы украсить или, верней, сделать более заметным безобразие покрытой морщинами дряхлой матроны”. Но меч лангобардов не дозволил Констанцию Второму поселиться в Италии; император вступил в Рим не победителем, а беглецом и после двенадцатидневного пребывания ограбил и навсегда покинул древнюю столицу мира. Окончательное восстание и отделение Италии произошло почти через двести лет после Юстиниановых побед, и с его царствования латинский язык начинает мало-помалу выходить из употребления. Этот законодатель составил свои Институции, свой Кодекс и свои Пандекты на таком языке, который он превозносил как обычный и публичный язык римского правительства, как такой, который употребляется и в константинопольском дворце, и сенате, и в восточных лагерях и судах. Но жители и солдаты азиатских провинций не были знакомы с этим иностранным языком, а истолкователи законов и государственные министры большею частью не вполне его понимали. После непродолжительной борьбы натура и привычка взяли верх над устарелыми законами, установленными человеческою властью; для пользы своих подданных Юстиниан издал свои Новеллы на двух языках; некоторые части его многотомной юриспруденции были мало-помалу переведены на греческий язык; об оригинале позабыли и стали изучать перевод, и наконец греческий язык, действительно заслуживавший предпочтения по своим внутренним достоинствам, сделался легальным и общеупотребительным языком Византийской империи. И происхождение преемников Юстиниана, и среда, в которой они жили, внушали им нерасположение к римскому языку; по мнению арабов – Тиберий, а по мнению итальянцев – Маврикий, были первыми греческими Цезарями и основателями новой династии и новой империи; этот тихий переворот окончательно совершился прежде смерти Ираклия, а некоторые остатки латинского языка сохранились лишь в терминах юриспруденции и в дворцовых официальных приветствиях. После того как западная империя была восстановлена Карлом Великим и Оттонами, названия франки и латины получили одинаковое значение и одинаковый объем, а эти высокомерные варвары не без некоторого основания отстаивали преимущество своих прав как на римский язык, так и на обладание Римом. Они с презрением относились к восточным чужеземцам, отказавшимся от одежды и от языка римлян, и ввели обыкновение называть их греками. Но это презрительное название с негодованием отвергалось и тем монархом, и тем народом, к которым оно относилось. Каковы бы ни были происшедшие в течение многих веков перемены, они ссылались на то, что вели свое происхождение от Августа и Константина в прямой линии и без перерыва, и даже в последнем периоде упадка и бессилия осколки константинопольской империи все еще носили римское имя.