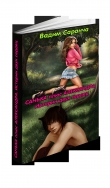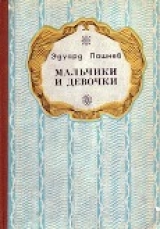
Текст книги "Мальчики и девочки (Повести, роман)"
Автор книги: Эдуард Пашнев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Василию Алексеевичу пришлось достичь немалого совершенства и в «наглядных пособиях», и в «Художественном театре», он стал академиком, профессором, заслуженным деятелем искусств, лауреатом Государственной премии. И он, как никто другой, понимал, что совершил ошибку: всю жизнь делил талант на две равные части, а надо было выбрать что-либо одно…
Это был грустный итог. И, заканчивая книгу, он написал о себе в последней главе: «Вот пример, не достойный подражания».
Думая о Наде, он пожалел о том, что в его время, когда он только начинал свой путь в искусстве, когда и ему было двенадцать лет, не случилось, да и не могло случиться вот такого совета белоголовых. Тогда в Академиях художеств не проходило президиумов, посвященных воспитанию детей…
Надя сидела на качелях, старик наблюдал за ней издали. Их мысли пересекались в пространстве, становились почти материально ощутимыми, как ветер, трава и солнце. Птица опустилась на ветку яблони, и Брагину показалось, что это именно она вернула его к началу разговора, к тому, что он собирался сообщить отцу Нади.
– Ваша дочь, Николай Николаевич, – неожиданно сказал он, – не простое явление. Она гениальна. – Голос старика задрожал, и он повторил более сурово: – Гений. Я хочу, чтобы вы узнали об этом сегодня. Остальные пусть узнают потом.
– Вам так понравились ее рисунки к «Мастеру и Маргарите»? – спросил Николай Николаевич.
– Понравились, – согласился Василий Алексеевич, – но дело не в них. То, что я сказал сейчас, я смог сказать потому, что знал это давно.
– Давно? – изумился Рощин.
– Да, давно. А почему говорю только сейчас? Боюсь не успеть сказать. В другой раз. Ну что вы, Николай Николаевич, так испугались? Мне восемьдесят шесть лет, мы подводим итог, и я должен был это сказать. Ну неужели, дорогой мой, после шести лет дружбы я не имею права на то, чтобы вы от меня первого услышали это?
Наде наконец удалось оттолкнуться рукой от столба, и она тихонько раскачивалась, воображая себя маятником Фуко, который они видели с отцом в Исаакиевском соборе. Качели подвешены над землей так же, как и маятник, и, значит, сейчас под ней Земля, Москва и Таруса медленно смещались от градуса к градусу, безостановочно, в одном ритме, как смещались и год и два столетия назад. В Ленинграде на опыте Фуко она видела, как вращается Земля, и сейчас чувствовала это вращение материков, океанов, гор и морей под собой. И она раскачивалась, раскачивалась, пересекая это движение поперек.
«Адам и Ева», «Аполлон и Дафна»
Марат, Дуська и Таня должны были приехать в конце июня. Надя позвонила им в середине июля. Трубку сразу же взял ОН.
– Надюш, здравствуй! Ты где?
– Я звоню вам с улицы Горького, где магазин подарков.
– Очень хорошо. Спустись вниз до угла, напротив гостиницы «Москва» остановка пятого автобуса. Садишься на этот автобус, доезжаешь до кинотеатра «Ударник» и через пять минут нажимаешь на кнопку звонка в известном тебе доме. Согласна?
– Да, – ответила она.
– Алло, алло, подожди, не вешай трубку, – крикнул Марат, – я тут варю себе суп, ты не можешь сказать: картошку кладут в горячую воду или в холодную?
– В горячую, – тихо ответила Надя.
– Алло, я тебя плохо слышу. Куда ты пропала?
– В горячую, – повторила она громче.
– Я же помнил, что в какую-то воду кладут, чтоб хорошо разварилась. Жду тебя, Надюш.
Он вышел к своей гостье в фартуке и с поварешкой в руках. Чуточку, конечно, позировал.
– Все бросили меня, – весело объяснил вожатый. – Тетя уехала к сестре в Мичуринск яблоки есть, Таня и Дуська остались еще на месяц в Гурзуфе. Рядом с Артеком. Я там тебя часто вспоминал. Мы ходили купаться на артековский пляж. Там нас еще помнят. И тебя тоже.
Он замолчал, увидев, что Надя остановилась от него в трех шагах, не решалась подойти ближе.
– А Танина мама? – спросила она, и голос у нее перехватило.
– Туда далеко ходить обедать, – ответил вожатый, и голос у него тоже дрогнул. – Надюш, я так рад тебя видеть, что вот сейчас положу поварешку, сниму фартук и поцелую. Ты уже взрослая. Ты чувствуешь себя взрослой?
– Да, – еле слышно ответила она и попятилась. Спиной толкнула дверь в комнату, в которой никогда не была раньше. Марат приближался, и она попятилась в глубь этой комнаты. Это была столовая, обставленная темной старинной мебелью.
– Ты меня боишься? – остановился вожатый и быстро-быстро потер лоб рукой.
– Нет, – ответила Надя, не подымая глаз. – Я хочу, чтобы вы меня поцеловали. Нет, я не знаю. Как вы сами хотите…
– Я поцелую тебя, как на вокзале, – сказал Марат, – мы встретились и имеем полное право поцеловаться. Каждый гражданин Советского Союза имеет право на труд, на отдых, на образование и на поцелуй на вокзале.
В шутке он хотел найти опору для следующего шага. Надя больше не пятилась, не отступала. Она стояла посредине комнаты, опустив руки и голову, приговоренная к поцелую. Ладони вожатого опустились ей на плечи откуда-то издалека, он все еще медлил, был в нерешительности. Девочка вся напружинилась не для борьбы с ним, а для борьбы с собой, чтобы не убежать. Руки Марата скользнули за спину, осторожно приближая ее к нему. Громко ударили часы.
– Нет! – вырвалась Надя. – Что это?
На специальной подставке темного дерева возвышались часы «Сафо и Фаон». Мраморные фигурки, тесно прильнувшие друг к другу, с дребезжанием и скрипом объехали вокруг портика и вернулись на место.
– Понимаешь, Надюш, – смутился Марат, – это те самые часы, что мы с тобой видели на Арбате. Я рассказал Тане, она поехала на такси и привезла их мне ко дню рождения. Мы их поставим на камине в круглой гостиной, как и хотели.
– Нет, они уже стоят на тумбочке. Извините меня, – она боком прошла между ним и дверью, схватила в коридоре свою сумочку и выбежала прочь. Лестница быстро поглотила ее шаги, и сделалось тихо и пусто.
Надя несла прикосновение рук Марата через всю Москву. Ей казалось, что ладони вожатого отпечатались на плечах и спине и все люди в метро и автобусе видят эти отпечатки на ней. Дома Надя сразу переоделась. Но руки проникли сквозь одежду, и она их прикосновение понесла с собой в постель под ночной рубашкой. Наступила ночь, такая же трудная, как и та, когда она была Данаей. Просторная рубашка сдавливала тело. Надя ощупывала плечи, стараясь найти на них невидимые следы рук любимого человека и стряхнуть, освободиться. Сердце болело так, что казалось – болит грудь, не тронутая никем, твердая, как яблоко. Это сравнение пришло неожиданно, и Надя подумала: неправильно художники изображают миф об Адаме и Еве. Не на ветке яблоко, а вот, под рукой у самой Евы. Она босиком скользнула на пол, забралась с ногами в кресло, зажгла настольную лампу. Традиционные библейское яблоко бросила на землю, дерево совсем не стала изображать. Адам загородился растопыренной пятерней от яблока, спрятался за спину Евы. Его глаза и рот испуганны: «Не бери!» Но Ева тянется к яблоку на земле правой рукой, а в левой держит другое яблоко, свою грудь. Рисунок вышел удачный, но библейский миф об Адаме и Еве не до конца отвечал ее душевному состоянию. Она все еще продолжала убегать от Марата не со ступеньки на ступеньку, не из улицы в улицу, а в бесконечность, очерченную пространством листа бумаги. Аполлон и Дафна – вот кто мог стать подлинной иллюстрацией к ее жизни. Златокудрый Аполлон вот-вот должен был настичь красавицу нимфу. Но едва он протянул руку, чтобы схватить девушку, как она тотчас же превратилась в вечнозеленый лавр. Надя изобразила именно этот момент первого прикосновения и превращения нимфы в дерево. Себя она нарисовала третьей. Она тоже взмахнула вверх рукой, как и Дафна, но этот взмах скорее был жестом художницы, которая создала рисунок и сама же испуганно от него отшатнулась, загородилась руками, чтобы остаться в стороне.
«Нет, в композиции не должно быть третьего человека, – решила она, – ибо его не бывает и в жизни». Надя взяла новый лист и сделала все смелее и печальнее. На своем новом рисунке она позволила Аполлону догнать себя и обнять и только после этого превратилась в дерево.
А став вечнозеленым лавром, спохватилась, потянулась навстречу, чтобы ответить на объятие, и в самый последний момент успела коснуться плеч Аполлона, но уже не руками, а листьями.
Главная тема
Перед самыми каникулами наконец выпал снег. Он летел над улицей Горького, над площадью Пушкина, закручиваясь в немыслимую карусель так, что рябило в глазах. Прохожие подставляли ему спины или спешили навстречу с покупками, со свертками, с елочными игрушками. Предпраздничное оживление создавало на тротуарах людскую веселую карусель. Все торопились, всем было некогда, и только двое оставались неподвижны – бронзовый Пушкин и девочка в серенькой шубке с поднятым воротником у подножия памятника.
Надя принесла белые хризантемы, купленные у метро. Она положила их на верхнюю ступеньку пьедестала и смотрела как завороженная на снег, засыпающий цветы. Пушкин держал цилиндр в руках, закинутых за спину. Казалось, он его нарочно снял и подставил обнаженную голову под снег. «Как странно, – подумала Надя, – скульпторы все время изображают его с обнаженной головой, словно не мы о нем, а он о нас скорбит». И в Лицейском саду он сидит задумчиво на лавочке, а фуражка лежит рядом, небрежно забытая на вечные времена. И в Ленинграде, наверное, такой же снег, и Пушкин встречает его с обнаженной головой. И не только в лицейском саду, но и на площади Искусств перед зданием Русского музея. Он стоит, вытянув в сторону правую руку, и читает стихи. Надя видела несколько дней назад киноочерк по телевидению, где памятник работы Аникушина был снят с нескольких точек в очень удачно выбранных ракурсах. Рука поэта то оказывалась слегка вверху, то уплывала назад, то приближалась. Была полная иллюзия того, что бронзовый Пушкин взмахивает рукой и читает стихи.
Надя стояла на площади до тех пор, пока снегом не засыпало на ступеньке пьедестала цветы. Потом она медленно двинулась вниз по улице Горького к ближайшему входу в метро. По дороге она вглядывалась в лица идущих навстречу людей, но без особой надежды, а так, на всякий случай.
Дома на ее звонок выбежали в коридор отец и мама.
– Надя, ты взрослый человек. Ушла куда-то, а мы ничего не знаем, – развел руками Николай Николаевич. – Разве так можно? Где ты была?
– Вы же сами говорите, что я взрослый человек. Мне надо было к Пушкину, – она прошла в свою комнату и закрыла за собой дверь.
Рощины переглянулись.
– Ты ездила на площадь?! – спросил отец.
– Да, – ответила она через дверь, и ее голос прозвучал издалека, из другого, недоступного родителям мира, – мне надо было его почувствовать. Пошел такой живой снег, и я поехала.
Она переоделась и вышла к ним, зябко поводя плечами и виновато улыбаясь. Надя не подумала, что отец и мама будут волноваться. Они же знают, что все свободное время ей приходится отдавать срочной работе – иллюстрированию глав книги о Пушкине. И она встала и поехала, потому что почувствовала потребность взглянуть в лицо своему герою.
– Папа, – сказала Надя, – до каникул у нас намечено еще одно заседание КЮДИ. Я решила его посвятить Пушкину. Ты сможешь провести наших ребят по Москве, как водил меня и маму?
– Ты и сама можешь. Ты теперь не хуже меня знаешь пушкинские места, – сердито ответил отец.
– Нет, я хочу походить молча. Это и мне надо.
– Нашли бесплатного экскурсовода, – пробурчал Николай Николаевич. – А когда?
– В следующее воскресенье.
– Да еще в воскресенье. Ладно. Но ты, пожалуйста, а другой раз хоть записочку оставляй.
Надя кивнула, взяла с книжной полки большую бронзовую медаль с профилем поэта, выпущенную в 1937 году к столетию со дня смерти, и унесла в свою комнату. Ей разрешили с пятилетнего возраста играть медалью. Приятно было вспомнить пальцами ощущение тех милых времен. На минуту закрыв глаза, Надя потрогала вслепую лоб, линию носа, губ, провела рукой по кромочке медали… Пушкин… Вся жизнь ее, с самого раннего детства, проходила под знаком Пушкина. В семилетнем возрасте – «Сказка о царе Салтане». Множество маленьких рисуночков в размер странички карманного блокнота. Она старалась поймать на карандаш каждую строчку, перевести ее в зримого, изображенного со всеми мельчайшими подробностями человечка. Рисунки тех лет напоминали кадры мультипликационного фильма. Вероятно, если их пропустить через кинопроектор, герои сказки задвигаются.
Повзрослев, стала рисовать иначе, скупее, выражая свое отношение к Зареме и Марии, к оперному варианту «Евгения Онегина», где утрированно толстую щекастую Татьяну разглядывали с одной стороны тоненький субтильный Онегин, а с другой стороны ее будущий муж-генерал.
Потом пришла пора «Руслана и Людмилы». Долго искала композицию центрального эпизода, когда Руслан летит по небу, ухватившись за бороду Черномора… Сделала пять вариантов и осталась недовольна. Зато карлы, приготовившиеся к шествию Черномора, получились с первого раза. Все одинаковые, предельно сказочные, в огромных чалмах, в сапогах с загнутыми носами.
Один год прошел под знаком Татьяны Лариной и повестей Белкина. Она рисовала Татьяну и Ольгу в деревне, Татьяну в Петербурге, Татьяну в малиновом берете. Она искала образ чистой девушки, приноравливалась к ней, пыталась ее понять. А между Татьянами то Дуня из «Станционного смотрителя», то Вурдалак, то русалка Наташа. А то вдруг грузинка из лирического стихотворения «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальных».
Позднее она вновь возвратилась к Татьяне. Она нащупывала ее облик, изображала и на больших, и на маленьких листах, и на простой бумаге, и на цветной: «Татьяна в кабинете Онегина», «Татьяна и Ольга на балу у Лариных», «Татьяна и письмо». И еще одна Татьяна с письмом, но уже в Петербурге. Надя внимательно проследила все важные моменты биографии героини, психологически их пережила, но, не удовлетворенная концом романа, словно бы искала какой-то другой выход для чистой, романтически настроенной девушки. Но никакого другого выхода Пушкин не предусмотрел, Татьяна вышла замуж за генерала, – и тут ничего нельзя было поделать.
В четырнадцать лет Наде попалось в руки комментированное издание «Евгения Онегина». Предисловие было проиллюстрировано рисунками самого поэта. Орешковые чернила гениально небрежного пера произвели ошеломляющее впечатление. Она еще не знала, что ей могут дать рисунки Пушкина, но руки уже тянулись к карандашу. На этот раз именно к карандашу, а не к фломастеру и не к перу. Она собиралась рисовать на полях книги, но так, чтобы потом можно было стереть резиночкой наброски.
Надя не понимала, почему издатели украсили рисунками Пушкина вступительную статью и не сделали того же самого с текстом романа. Она решила хотя бы на время восполнить это упущение. И началось увлекательное чтение с остро отточенным карандашом в руке, который оставлял на бумаге еле заметные штрихи. Отметив карандашом строки: «Судьба Евгения хранила, сперва Madame за ним ходила, потом Monsiere ее сменил, ребенок был резов, но мил…», она рядом набросочно, как это сделал бы, по ее мнению, сам Пушкин, нарисовала юного Онегина, милого кудрявого мальчика с бантиком на шее и кружевным воротником рубашки. Она не соперничала с Пушкиным, она пыталась подстроиться под него, имитировала гениальную небрежность поэта. Она изображала какую-нибудь одну красноречивую подробность, а остальное должно было угадываться. То стол, уставленный яствами и вином, и царящую над ним руку с большим бокалом, то две ножки, о которых Пушкин писал: «Две ножки… Грустный, охладелый, я все их помню, и во сне они тревожат сердце мне». То «сытые бакенбарды» «рогоносца величавого». Одна, две строки Пушкина вызывали готовый образ. «Мы все глядим в Наполеоны», – и на полях возникал карикатурный Наполеончик, опиравшийся на свою шпагу, как на трость, и заложивший руку за пазуху. А сам весь под треуголкой с пером. «Потом приносят ей гитару, и запищит она (бог мой!): «Приди в чертог ко мне златой». И на полях пушкинского романа появлялась Дуня с гитарой и «толстый Пустяков» в картузе.
Но по-прежнему сильнее всего девочку занимал образ Татьяны. Она нарисовала ее тринадцать раз, тринадцать Татьян в разные периоды ее жизни против трех Онегиных и двух Ольг. Всего она сделала двадцать восемь рисунков в этой книге и отметила остреньким ромбиком, но в то же время и дерзким карандашом девяносто три места. К этим девяноста трем отметкам она собиралась вернуться потом и сделать к роману Пушкина еще девяносто три набросочных рисунка.
Уезжая в Артек, Надя захватила с собой комментированное издание «Евгения Онегина» с рисунками на полях. Она брала первые уроки рисования у Брагина и Лидии Львовны Устиновой. Теперь совершенно неожиданно она нашла себе еще одного учителя рисования – Пушкина. Читая роман, она настолько усвоила его манеру, что рука, словно бы помимо воли, вывела профиль Пушкина так, как он сам бы себя нарисовал. Надя долго разглядывала рисунок и, пораженная тем, что у нее вышло, устыдившись своей дерзости, спрятала лист в папку и никому не показала.
Отец потом сказал, что «пушкинской рукой» рисовать нельзя, что это кощунство. Так и остался бы набросок единственным в ее творчестве, если бы не произошла встреча с Грессеном. Маленький, в очках, с большой, совершенно лысой головой писатель разглядывал с радостным удивлением девочку. Погладив себя машинально по лицу и ущипнув кончик бородки, он спросил:
– Это правда, что вы любите иллюстрировать Пушкина? – и покрутил в воздухе рукой, очерчивая профиль великого поэта. Жест у него получился красивый, внушительный.
– Да, – кивнула немного испуганно Надя.
– С семи лет, – добавил отец.
– Вы можете ко мне приехать с рисунками завтра? – обратился Грессен к Наде и к Николаю Николаевичу и посмотрел на них сквозь большие очки – сердито, предполагая, что они откажутся и нужно будет их уговаривать.
– Мы можем, – сказал отец.
– Я живу в центре. В трех минутах ходьбы от памятника Пушкину.
Он сказал это так, что сразу стало ясно, как важно для него жить в соседстве с бронзовым Пушкиным.
– Не буду скрывать от вас, – сурово продолжал Грессен, – я в этой встрече очень заинтересован. Я хотел бы проиллюстрировать свою новую книгу о Пушкине рисунками Пушкина. А в детские, лицейские годы он, как вам, вероятно, известно, не рисовал или почти не рисовал, – предупредил он возражение Николая Николаевича. – Были, были в лицее уроки рисования, и был неплохой педагог, Чириков. Ученические два рисунка сохранились, но мне нужно другое. Вы понимаете, о чем я говорю?
Старик отошел от отца и дочери, двинулся вдоль стен, на которых были развешены рисунки и акварели Н. Н. Жукова. Встреча произошла на открытии выставки.
– Пап, значит, можно? – спросила Надя.
– Не знаю, Надюша. Если он тебя попросит, наверное, надо будет согласиться?
– Но ведь придется рисовать вместо Пушкина.
Они переглянулись. Оба давно знали, что рисунки Пушкина не побочное увлечение, не обычное писательское дилетантство. Его портреты, автопортреты, шаржи, сценки, вычерченные пером во время раздумий, так же гениальны, как и его стихи. Повторить их значило сравняться с ним. Надю это пугало, и в то же время она чувствовала, что и рука и сердце готовы к необычному экзамену.
– Интересный человек, правда? – проследив за Грессеном, сказал отец. – В Петербургском университете посещал лекции Менделеева. Блок был его однокашником. В качестве специального корреспондента Государственной думы он присутствовал, когда читали документ об отречении от престола Николая И. В восемьдесят два года написал свою первую книгу. А теперь вот пишет книги о Пушкине.
Отец говорил шепотом, и Надя молча его слушала. Странно было видеть человека, который сорок лет жил до революции. И еще более странно думать о совместной работе с ним.
Грессен принял Надю и Николая Николаевича в библиотеке, вернее в комнате, заваленной от пола до потолка книгами. На большинстве из них стояло имя Пушкина. Надя и не предполагала, что о Пушкине написано так много книг. С робостью и уважением она смотрела на человека, который собирался, несмотря на это, написать еще одну.
– Вот! – протянул Грессен папку. – Здесь две главы: «Детство» и «Лицейский Парнас». Дальше пойдут главы, к которым есть его собственные рисунки. А к этим двум главам попробуете сделать вы. Это очень взрослая работа, дерзкая. Вы, надеюсь, понимаете, что это дерзость – имитировать руку Пушкина.
– Я понимаю, – тихо ответила Надя, – я попробую.
Уходя домой, девушка помимо папки с главами уносила книгу с автографом писателя. «Дорогой Николай Николаевич! – написал Грессен на титульном листе. – Мы случайно встретились и познакомились на выставке Жукова. Сегодня вы посетили нас с вашей дочерью, юной талантливой художницей. Буду рад, если я, 90-летний писатель, встречусь с 16-летней Надей на страницах моей новой книги о Пушкине».
Запрет на пушкинский почерк, на пушкинскую линию, на орешковые чернила был снят, и Надя, позабыв на время все другие темы и сюжеты, принялась за работу. Она начала с предков, изобразила арапа Петра Великого, прадеда Пушкина, Абрама Петровича Ганнибала.. Он получился сразу, возможно, помогло то, что в Артеке ей приходилось рисовать негров. «Черный дед» вышел молодым, красивым. В его умном темпераментном лице проглядывали черты Пушкина, и все же это был еще не Пушкин, а только намек на него, только предощущение образа. Надя словно бы медлила, словно бы прощупывала знакомый по многим портретам облик. Сложность заключалась в том, что ей надо было нарисовать мальчика, трансформировать черты взрослого человека, увидеть их такими, какими они были в то время, когда у самой природы был еще очень ограниченный выбор индивидуальных черт. Задавленные чертами общими, присущими всем маленьким детям, они никак не попадали к ней на кончик пера. На известной миниатюре, где Пушкин изображен в трехлетнем возрасте, поэт нисколько не был похож на себя. Понадобилась криминалистическая экспертиза с участием самого Герасимова, чтобы установить, что на миниатюре маленький Александр, а не какой-нибудь другой ребенок.
Надя подолгу разглядывала этот детский портрет и не могла к нему привыкнуть. Пушкин, у которого светлые гладко причесанные волосы без единого вьющегося колечка, был ей незнаком. В нем не проглядывало ничего от арапа Петра Великого, разве только глаза – темные большие умные глаза взрослого Пушкина. И первое время после Ганнибала Надя была в нерешительности перед выбором индивидуальных особенностей облика трехлетнего Александра. Она больше работала над композицией, искала формулу будущего рисунка. Ей хотелось передать, что родился не просто мальчик, а нечто большее, родился XIX век. Его рождение произошло 27 мая 1799 года, всего за семь месяцев до нового XIX века.
Надя набросала первый вариант. За круглым столом в гостиной сидят родители: Надежда Осиповна и Сергей Львович. Открывается дверь, и входит маленький мальчик в ночной рубашке до пят, с растопыренными ручками, которыми он придерживается за стены, ибо только учится ходить. Надежда Осиповна всплеснула руками, она изумлена, как ее сын смог выбраться из кроватки. Отец сидит спиной к дверям. Пушкина мы тоже видим со спины. Это еще не сам поэт, а только формула его появления, XIX век. Решение нравится ей, но она продолжает поиски, меняет композицию, переносит широко распахнутую дверь в верхнюю часть листа. Теперь XIX век входит лицом к зрителям, а Надежда Осиповна и Сергей Львович, родители Пушкина, принадлежащие к прошлому веку, оказываются спиной к нам. Все внимание на входящего. «Вот он, XIX век!»
Но и эта композиция не до конца удовлетворила Надю. Ей кажется, что XIX век не должен сам входить, его нужно всем показать, и сделать это может только мать поэта. Надя вытянула фигуру «прекрасной креолки» так, как не вытягивала еще ни одного своего персонажа. Она хотела, чтобы зритель сразу обратил внимание на необычную удлиненность. На руках у Надежды Осиповны высоко поднятый, выше ее головы, с растопыренными в разные стороны ручонками маленький Пушкин. «Вот он, XIX век!» Множество вариантов этой композиции возникает из-под пера и тут же отбрасывается. Не тот наклон фигуры, не то положение маленького Александра на руках матери, не тот облик самой Надежды Осиповны.
В конце концов Надя отказалась и от этого выигрышного решения, в котором Надежда Осиповна служила для своего сына пьедесталом. Была в этом какая-то человеческая неправда, декларация матери вместо любви. Нет, «прекрасная креолка» не может знать, что у нее на руках девятнадцатый век. И Надя остановилась на рисунке, на котором мать, не заботясь о зрителях, крепко прижимает к себе своего маленького сына щекой к щеке. А Пушкин смотрит прямо на нас большими широко раскрытыми глазами. «Вот он, XIX век!» Он еще не оторвал своей щеки от материнской, но он уже вместе с нами.
Рука Нади, блуждающая в поисках похожих черт, наконец обрела уверенность. Это был явный признак того, что рисунок получился. Не зря она так долго вглядывалась в миниатюру неизвестного художника, на которой Пушкин изображен в возрасте трех с половиной лет, и в миниатюру Ксавье де Местра, на которой изображена Надежда Осиповна в молодости. Было ощущение, что она не погрешила против привычных оригиналов, а в чем-то неуловимо даже превзошла их. Может быть, в том, что не срисовала портрет с портрета, а пошла дальше, сумела посмотреть сквозь краски предыдущих художников в лицо живого Пушкина и в лицо живой Надежды Осиповны. В этом ей помогли главы Арнольда Ильича Грессена.
Была у Нади еще одна пушкинская медаль, сувенирная, подаренная Маратом в эпоху строительства Нерастанкино. Она лежала в коробочке, в нижнем ящике стола. Девушка могла бы ее тоже достать, но что-то мешало…