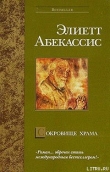Текст книги "Плохо быть богатой"
Автор книги: Джудит Гулд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
2
Желание жгло Антонио де Рискаля с раннего утра: в половине девятого он уже был на улице, высматривая себе жертву.
Поднося к сигарете золотую зажигалку фирмы „Данхилл", он вздохнул и тихо чертыхнулся. Ну почему природа так обошлась с ним, лишив его радостей обычной сексуальной жизни? И, как назло, именно в день прощания с Рубио он торчит тут, на углу 36-й улицы и 7-й авеню, жадно окидывая взглядом чернокожих юношей и молодых пуэрториканцев, выталкивающих на шумные торговые улицы стеллажи, увешанные различной одеждой.
Смертельная болезнь, казалось, дотянулась своими щупальцами до самых отдаленных уголков города, однако его плоть упрямо отказывалась воспринимать надвигающуюся угрозу.
Как обычно, 7-я авеню напоминала сумасшедший дом. Суета и скученность торгового центра, узенькие улочки с односторонним движением, на которых, рыча моторами и окутывая окрестности клубами дыма, сновали грузовики, привозя и увозя товары и создавая полную неразбериху в дорожном движении. А во всем этом смраде и гаме сновали-шныряли грузчики, толкая перед собой стеллажи с неприкрытыми рулонами ткани и готовой одеждой. Удивительно, что товары еще как-то попадают в магазин в чистом виде! И, словно этого ада кому-то показалось мало, по одному из проулков маршировали пикетчики, протестуя против кого-то или чего-то. Резкие крики носильщиков, рев автомобильных гудков, завывание сирен и шепот одурманенных наркотиками торговцев „дурью", предлагающих кокаин и марихуану, сливались в один общий гул: наверное, так мог бы выглядеть базар в аду.
Антонио де Рискаль, высокий, худощавый и безукоризненно ухоженный, смотрелся среди этого ада так же неуместно, как бриллиант в выгребной яме. Тело его, аристократически гибкое и длинное, словно задумывалось для демонстрации великолепного покроя костюмов, а черты загорелого до цвета меда лица – выдающиеся скулы, серо-зеленые глаза и задранный к небу нос – были столь же изысканно-коварны, как и его манеры. Всегда ухоженные и отполированные ногти холеных рук и даже плешь на затылке, окаймленная серебристо-черным ободком волос, смотревшаяся вполне величественно, дополняли общий облик благополучия и успеха.
– Эй, остерегись! – раздалось у него за спиной, и Антонио едва успел отскочить в сторону: на него катился грохочущий стеллаж с одеждой.
Волна ярости залила ему щеки, руки сжались в кулаки. Ублюдок! Похоже, эта шваль нарочно выбирает самых приличных прохожих, чтобы унизить, а то и сбить с ног.
Внезапно ярость исчезла, уступив место неодолимому возбуждению.
– При-и-вет! С чего бы это? – присвистнул он. Стеллаж, едва не сбивший его с ног, прокатил мимо, и Антонио краем глаза заметил грузчика, толкавшего его.
О Пресвятая заступница! Сколько же ему лет? Восемнадцать? Или все девятнадцать? А уж худущий, и посмотреть-то не на что!
Хотя нет: ляжки что надо – сильные, крепкие. Под плотным стеганым жакетом – гибкий, мускулистый торс. А эта уверенная, надменная походка… Потертые драные джинсы фирмы „Ливайс" облегали парня так плотно, что выставляли на показ все его достоинства, гордо предъявленные всему миру.
С одной своей слабостью Антонио не мог совладать совершенно: подчас решения диктовал ему не голос разума, а то, что находится ниже пояса. Вот и сейчас противиться зову плоти было выше его сил. Начисто забыв об осторожности, он отшвырнул в сторону сигарету и двинулся следом за пареньком.
И ягодицы у него аппетитные, подумал он, и тут же кровь быстрее побежала по жилам. Потрясающий экземпляр! И главное – прекрасно об этом знает. Тут Антонио не обманешь, ему-то уж известно, что с такой-то походкой жеребчика, размеренным покачиванием тощих бедер и откровенной гордостью своими достоинствами, выпирающими вперед, не рождаются. Не-ет, такая походка – результат тщательной подготовки и совершенствования.
Интересно, кто он? Пуэрториканец? Полукровка? А заработок? Сколько ему тут перепадает?
Антонио задумался, какой эффект могла бы произвести на паренька сотенная, если помахать ею у него перед носом. Может, хоть это собьет с него спесь?
У 37-й улицы носильщик с шумом выкатил стеллаж на проезжую часть, чтобы пересечь 7-ю авеню, и Антонио едва не наступил ему на пятки, в счастливом ослеплении не замечая ни рева автомобильных гудков, ни надвигающегося транспорта.
Быстро одолев проезжую часть, паренек свернул в переулок и внезапно резко остановился, так что Антонио буквально врезался в него со всего маху.
Он не успел еще и рта раскрыть, чтобы пробормотать извинения, а паренек уже воинственно уставился на него черными как маслины глазами на смуглом приятном лице.
– Эй, ты, в чем дело? – заорал он. – Какого черта ты за мной тащишься?
Антонио в один момент позабыл о всех восторженных эпитетах, которыми его осыпал еженедельник „Тобе рипорт", посвященный вопросам моды. Он, „ведущий американский модельер", который одевает и украшает модными аксессуарами самых богатых женщин страны, в том числе трех бывших первых леди, он, Антонио де Рискаль, глава империи моды с оборотом в 325 миллионов долларов, доходы которого только в прошлом году составили 420 миллионов долларов и который в 1987 году, уже после уплаты всех налогов, получил чистую прибыль почти в 19 миллионов, он, крупнейший мастер, у которого наград и призов „Коти" больше, чем у любого другого дизайнера в стране, неожиданно был отброшен до крайне идиотского, крайне неприятного и крайне унизительного положения. Но вместо унижения он чувствовал лишь непреодолимое возбуждение.
Сложив ладонь чашечкой, он деликатно откашлялся.
– Я… Извините меня… – мягко произнес он, оставаясь на том же месте, почти вплотную к пареньку.
– Ты что, – тот вдруг презрительно фыркнул, – педик?
Грубость и унижение лишь усиливали удовольствие. Краска стыда залила щеки Антонио, а тело сотрясала едва заметная дрожь. Он тихо пробормотал в ответ:
– Извините, что докучаю вам…
Он заметил, как сузились маслиновые глаза паренька. Казалось, он в раздумье – плюнуть на Антонио, сделав вид, что ничего не произошло, послать его подальше или же немного поиграть с ним? Пока паренек решал эту задачку, Антонио жадно его разглядывал.
Мальчишка просто находка. Глаз невозможно отвести. Перед такой вот грубоватой красотой, свойственной детям улицы, Антонио капитулировал сразу же. Именно такие типы ему и нравятся. Черт, да он просто сама мечта!
Такой стоит не одной сотенной, вдруг растерянно подумал он. Двух. Или трех?
– А если я предложу вам триста долларов?.. – выдавил он.
Мальчишка, казалось, не понял.
– Чего-о? – протянул он.
Антонио судорожно глотнул воздух.
– Я дам вам триста долларов, если вы пойдете со мной – всего на полчаса.
Парень расплылся в ухмылке.
– Хочешь сказать что заплатишь, если я тебя трахну?
Едва не лишившись сознания, Антонио живо закивал в ответ.
– Это недалеко, пару кварталов отсюда. Парень пожал плечами.
– Пойдет. А почему бы и нет? – Голос его внезапно сделался жестким. – Но сначала мне надо закончить с делами. Значит, появлюсь в десять.
– Прекрасно. – Антонио был так взволнован, что едва мог говорить. Голова шла кругом. В десять пятнадцать у него примерка – что ж, придется попросить секретаршу, чтобы заняла чем-нибудь эту старую колоду, пока он закончит с мальчишкой. В офис он проведет его через черный вход и так же отправит обратно. Этот путь ему хорошо знаком, приходилось им пользоваться.
– Значит, в десять, – мечтательно проговорил он. Одна мысль о предстоящем сводила с ума.
Обратно, на 7-ю авеню, 550, он буквально летел и всю дорогу, пока шел к лифту, шагал по просторной роскошной приемной в стиле Наполеона III и открывал дверь своего кабинета, радостно мурлыкал под нос какую-то мелодию.
Под дверью, подобно грозному сфинксу, восседала за своим столом его секретарша Лиз Шрек.
Вот уж кого никак нельзя было назвать украшением приемной, так это его секретаршу. Плотная, полная женщина, совершенно невыразительная, она каждое утро тащилась в городском транспорте на службу из отдаленных кварталов Куинса, зажав в одной руке сумку из крокодиловой кожи, а в другой – прозрачный пластиковый пакет с маргаритками. Словно для компенсации малого роста ее огненно-рыжие волосы были собраны на макушке в подобие башни, уносящейся ввысь. В общем, секретарша напоминала Антонио какую-то жуткую смесь хищницы-пираньи и красноперки.
Лиз уже перевалило за шестьдесят, и в своих кругах она слыла одной из самых знающих и опытных секретарш в городе. К тому же за ней тянулась легенда об абсолютной неподкупности.
– Доброе утро, отрада глаз моих, – промурлыкал Антонио, изобразив самую ослепительно-белозубую улыбку из своего арсенала, проходя мимо секретарши в кабинет.
– Не понимаю, чего в нем доброго? – проскрежетала Лиз, закуривая уже десятую за сегодняшний день сигарету. – Утро перегружено работой, а второй половины дня вроде как и вовсе нет, из-за прощания с Рубио. Чего уж тут доброго. – Она покосилась на Антонио сквозь клубы сизого дыма.
Он на секунду задержался у двери:
– Кстати, назначенная на десять пятнадцать…
– Дорис Баклин, я помню, да-да.
– Поскольку время примерки уже поздно менять, а я… у меня есть важное дело… Попросите ее подождать в приемной, пока я не приглашу ее войти. До этого момента прошу меня не беспокоить.
Он вспомнил мальчишку: сплошные мускулы и прочие прелести. Через полтора часа он проведет его по черной лестнице к себе в кабинет через запасной вход. Потом они немножко поразвлекаются, а старая коряга ни о чем не догадается. Антонио едва сдерживал волнение, чтобы не выдать себя.
Лиз впилась в него подозрительным взглядом.
– Есть еще просьбы? – спросила она ядовито.
– Пока все.
– И этого достаточно, – зло полыхнула секретарша. – У вас стальные нервы, знаете. Конечно, клиенты-то осаждают меня, а не вас. Как будто это я срываю расписание… – Она раздраженно фыркнула. – Одного не могу понять: зачем назначать встречу, если не можете сдержать слова?
Антонио вздохнул, перешагнул порог кабинета и прикрыл за собой дверь. Порой он спрашивал себя, что заставляет его терпеть присутствие Лиз? Брюзжит, как муха в осень.
Дай ей волю, она бы всех кастрировала, и охнуть не успеешь.
3
Эдвина летела домой как на крыльях.
Сан-Ремо, расположенный на Сентрал-Парк-Уэст, 145, без сомнения, являлся архитектурной жемчужиной Нью-Йорка: семнадцать этажей величественной довоенной постройки как бы раскалывались на две каменные башни цвета сливочного масла, каждая из которых взмывала ввысь еще на одиннадцать этажей. Фасад здания, обращенный на Центральный парк, поражал богатством и роскошью каменного декора в стиле рококо и множеством галерей.
Украшенные портиками шпили башен, казалось, царапают пухово-белые облака, стремительно проносившиеся по бледному зимнему небу. Да и внутреннее решение здания, предусматривавшее роскошные холлы, высокие потолки и широкие коридоры, свидетельствовало о более благодатных временах, ушедших в вечность.
– Доброе утро, мисс Робинсон, – поприветствовал Эдвину седовласый швейцар, кинувшись навстречу, чтобы открыть дверцу „мерседеса". На нем была серая униформа, на ногах – светло-серые высокие сапоги. Увидев Эдвину, он коснулся рукой козырька форменной черной фуражки.
– Привет, Рэнди, – отозвалась Эдвина чарующе-туманным голосом, выпорхнув из автомобиля. Она улыбнулась ему одной из тех улыбок, что способны озарить самый сумрачный день, особенно в комплекте с чаевыми, которые она незаметно сунула ему в руку. Какое сердце устоит против этого? – Не поможете Уинстону внести багаж? Там два моих чемодана.
– Сию минуту отправлю его наверх. – Рука Рэнди снова услужливо взметнулась к козырьку.
Эдвина вошла в лифт. С нетерпением коснулась кончиком языка ярких губ, чувствуя, как ее охватывает дрожь нетерпения, пока лифт преодолевал этажи южной башни, остановившись наконец на двадцатом этаже. Наконец-то она дома! Здесь – центр ее Вселенной, уютный и роскошный очаг, готовый согреть своим теплом, ее убежище, спасение от давки и сутолоки жестокого города, ее уютное волшебное святилище, сокрытое высоко в небе.
Едва Эдвина открыла дверь, готовясь переступить через порог, как на нее обрушился, оглушив, гром и грохот льющейся откуда-то музыки в стиле рок: казалось, это бьется само каменное сердце здания. Быстро захлопнув за собой дверь, Эдвина огляделась, нахмурившись. Грохочущие звуки, обрушившиеся на нее откуда-то сверху, странные слова песни, сопровождавшие этот грохот („смерть разуму… мертвая голова… пустые мозги…") плохо вписывались в элегантность ее прихожей с полом из черно-белого мрамора, обитыми винно-алым шелком стенами, огромной картиной в овальной раме, изображающей цветы и висевшей над столиком работы Уильяма Кента, на котором возвышались огромные канделябры, а также расставленными повсюду вазами с цветками красной и белой тропической антюреумы, белой фрезии и длинными стеблями белых орхидей, изящно запрятанных среди веерообразных лучей пальмовых листьев.
На столике, как обычно, поджидала ее аккуратно разложенная в четыре стопки почта. В первой были номера журналов „Женщины", „Дом и сад", „Гурман", „Город и усадьба", январские выпуски нескольких журналов мод и газет; во вторую, судя по всему, попала всякая чепуха, в третью – письма и счета, и, наконец, в корзиночке мейсенского фарфора ожидали ее плотные, с намеренно замысловатым шрифтом приглашения на светские рауты. Эдвина получала за одну неделю около десяти подобных приглашений. Что ж, почтой она займется позже. Всему свое время.
– Руби! – позвала Эдвина, стягивая перчатки голубой кожи и нетерпеливо похлопывая ими по тыльной стороне ладони. – Я приехала!
Со стороны кухни послышались вздохи, какой-то шум, и наконец в дверях появилась Руби. Изумление, написанное на ее цвета красного дерева лице, сменилось веселой белозубой улыбкой.
– Господи милостивый, мисс Эдвина! – воскликнула она. – Вы уже вернулись!
Эдвина улыбнулась и шагнула вперед, чтобы обнять Руби.
– О, Руби, как я рада! Если бы ты знала, как мне тебя не хватало!
Руби скорчила легкую гримаску.
– Если бы вы позвонили, я бы попросила вас еще на денек-другой задержаться. – Она слегка запрокинула назад голову и сердито воззрилась на лестницу, грациозным витком уходящую на второй этаж. – А все Аллилуйя… Сказала, что больна, и не пошла в школу. И что, как вы думаете, она делает? Взгромоздилась на постель, словно она принцесса Диана, и врубила эти дикарские звуки во всю мощь! Так, что я даже мыслей своих не слышу! – Руби с упреком покачала головой.
Медленно снимая норковую накидку, Эдвина обеспокоенно нахмурилась:
– С ней что-нибудь серьезное? У нее жар? Руби сердито отмахнулась:
– По моему разумению, это не жар, а лень. Причина не пойти на занятия, – проворчала она. В коричневых глазах Руби на мгновение вспыхнула ярость, но тут же погасла. Весь облик этой крупной большегрудой женщины с душой ангела-утешителя и золотым сердцем был удивительно успокаивающим. Она чем-то напоминала Эдвине огромный корабль, уверенно рассекающий носом морские просторы.
– Хорошо съездили? – принимая из рук Эдвины норку и неодобрительно ее разглядывая, спросила Руби. Она давным-давно дала Эдвине понять, что только глупцы или гулены перекраивают хорошую норку, а затем красят ее в синий цвет. – Просто ума не приложу, что происходит с этой девчонкой в последние две недели! – проговорила она в отчаянии. – Это совершенно другой ребенок, совсем не та, что вы оставили. Спросите меня, так я скажу, это не у певцов нет мозгов, это у нее пустая голова…
Эдвина встревожилась уже не на шутку.
– Руби, что ты имеешь в виду? – спросила она дрогнувшим от беспокойства голосом.
– Поднимитесь к ней, так увидите сами, – мрачно махнула Руби в сторону лестницы и, продолжая бормотать себе что-то под нос, принялась убирать в шкаф ненавистную синюю норку. Глаза бы ее на все это безобразие больше не глядели! – Но прежде, вот вам мой совет: глоток крепкого виски либо бренди вам не помешает…
Господи, да о чем она говорит? Эдвина ничего не понимала. Что могло случиться с ее прелестной милой малышкой за несколько дней?
Всего лишь год назад Аллилуйя решила стать балериной, а еще годом раньше – оперной певицей. Последним из самых сумасбродных ее решений стало желание выучиться на скрипачку, чтобы играть классику. Под этим девизом прошли несколько месяцев: вся квартира была заполнена чарующими звуками музыки.
И вдруг этот адский грохот… „Нет мозгов…"
Эдвина одним махом взлетела по лестнице вверх. Чем ближе к комнате дочери, тем несноснее становился грохот.
Дверь в царство сказочной принцессы, все сотканное из кружев – кружевное покрывало на кровати, кружевные скатерти и салфетки и даже кружевные занавески на окнах, – была закрыта. Эдвина постучала.
Ответа не последовало.
Иначе и быть не может, резонно успокоила она себя.
Удивительно другое: как у девочки вообще голова от этих звуков не лопнула.
Легко надавив на медную дверную ручку, Эдвина открыла дверь и застыла в немом ужасе.
Представшее ее глазам зрелище казалось абсолютно ирреальным. Ее первой мыслью было, что она попала в один из фильмов Стивена Спилберга: открыв совершенно обычную нормальную дверь, она оказалась на пороге преисподней.
Что произошло с прелестными стенами детской, на которые вручную был нанесен узор, напоминающий кружева? Куда подевались скатерти из бельгийского кружева, занавески, покрывала?
Эдвина прислонилась к дверному косяку, не в силах вымолвить ни слова. За две недели, что ее не было, дорогой узор стенной росписи сменили грубые черно-белые, как у зебры, полосы, покрывавшие даже потолок, а изысканная мебель, тоже драпированная кружевом, была ободрана до грубого остова и выкрашена в вызывающие тона: голая кровать с пологом на четырех столбиках – в испепеляюще розовый, туалетный столик – в отвратительный зеленовато-желтый. Повсюду были разбросаны акриловые покрывала, расписанные под леопарда: они прикрывали странные конструкции, которые, как смутно подсказывала ей память, некогда были изящными креслами-качалками, закрывали постель и даже свешивались с окон в качестве занавесок, напоминая полог у входа в палатку. Прекрасный паркет, когда-то тоже вручную выложенный узором из венков, теперь был спрятан под мрачным скверным паласом из зеленого искусственного меха – такими покрывают сиденья в туалетах. На экране телевизора тряслась и извивалась под вспышки и мерцание какая-то рок-группа, но даже Эдвина, далеко не специалист в этой музыке, могла понять, что звук телевизора выключен: снующие по экрану образы и грохочущая музыка не совпадали. Очевидно, оглушающей какофонией они были обязаны музыкальному центру.
Посреди всего этого ада возвышалось существо, которое еще недавно было ее милой драгоценной дочуркой. Аллилуйя Купер стояла посреди постели на коленях, ее длинные каштановые волосы, восхищавшие Эдвину всего две недели назад, теперь были коротко острижены и торчали во все стороны прямыми жесткими пиками, выкрашенными в черный и желтый цвет. Свежее чистое лицо девочки покрывал толстый слой дешевой грубой косметики, основной акцент которой пришелся на губы, почти черные, и глаза а ля Мадлен Дитрих.
А одежда… Эдвину передернуло. О Боже, где ей удалось сыскать эту рвань, пригодную разве что для помойки? И что она сделала со своей настоящей одеждой? Эдвина никогда прежде не видела того, что сейчас было на ее дочери: старый потертый мотоциклетный жакет из черной кожи, ярко-алый обтягивающий топик, брючки из черного кружева в обтяжку и грязно-белые теннисные тапочки. С эполетов жакета, с ремня, а также с мочек ушей, с запястий, шеи и даже с одной из щиколоток свешивались груды искусственных украшений, которые обожают посетители самых дешевых забегаловок Лас-Вегаса.
Эдвина не могла опомниться. Судорожно глотнув воздуху, она потрясла головой, словно стараясь стряхнуть с себя представший ее взору кошмар. Похоже, Руби еще недооценила ситуацию… Это создание… женского пола… Нет, оно не может быть ее дочерью! Видимо, пока Эдвина была в отъезде, злые эльфы похитили ее девочку, оставив вместо нее оборотня…
Слегка придя в себя, Эдвина на негнущихся ногах прошла в комнату, чтобы выключить ревущий плейер. Теперь комнату озаряли только блики и вспышки мечущихся по экрану телевизора беззвучных образов.
Аллилуйя вскочила с кровати.
– Салют, Эдс! – Она сверкнула улыбкой в сторону матери и выдула огромный розовый пузырь жвачки.
Салют? Эдс?… А где же привычные: „Привет, ма!"? Эдвина пристально рассматривала создание, предположительно приходившееся ей дочерью.
– Ал? – произнесла она потрясенно. – Это правда ты?
– Ну ты даешь! А кто же еще? – Аллилуйя округлила темно-карие с золотыми огоньками глаза. – Слушай, только не начинай гудеть, ладно? По-твоему, у меня тут крыша поехала? Ты вернулась домой: ай-яй-яй, что с моей девочкой?
– Именно так, – кивнула Эдвина. Стараясь унять дрожь, она присела на край постели. Опустив голову и зачем-то разглядывая отполированный ноготок, глубоко вздохнула, затем, подняв глаза, встретила прямой взгляд дочери. – Ал, малышка, – сказала она быстро.
– Я думаю, нам нужно поговорить.
– Ой, ма-а-а… – недовольно протянула девочка и трагически закатила глаза. – Все же будешь учить меня жить, так?
– Я просто волнуюсь за тебя, вот и все. Детка, Руби сказала мне, что ты больна.
Аллилуйя потупилась.
– Ну… Мне нездоровилось… Знаешь, как бывает, – вроде вот-вот заболеешь, доходит? – Она бросила на мать быстрый взгляд, чтобы проверить ее реакцию.
Судя по выражению лица Эдвины, лед еще не растаял. Похоже, даже наоборот.
– Правда? – холодно проговорила Эдвина. – А нельзя ли более подробно описать, чем это ты собиралась вот-вот заболеть, юная леди?
Аллилуйя воинственно вздернула подбородок:
– Ну, ты понимаешь…
– Ал, – спокойно проговорила Эдвина, ее внутренний ужас выдавала лишь бешено пульсирующая в виске кровь, которую она никак не могла унять. – Надеюсь, мы придем к какому-то соглашению.
– О-ох, – вздохнула девочка, все еще оставаясь настороже. – Значит, сейчас начнется очередной нудеж…
Сделав вид, что не расслышала последней фразы, Эдвина выпрямилась, расправив плечи и спину.
– Прежде всего… что касается твоей комнаты… Не могу не признаться, что для меня это шок. Все же тебе следовало поговорить со мной, а уж потом предпринимать эту… – Она замолчала, подыскивая слово. – Ну, перед тем как ее портить…
– Ма, – в голосе девочки зазвучали нотки усталого недовольства, – ты же никогда не слушаешь! Я сказала тебе по телефону на прошлой неделе, что хочу заняться своей комнатой, и ты ответила: „Прекрасно, дорогая". Естественно, я подумала…
– Ты подумала то, что тебе хотелось подумать… Ты же лучше всех все знаешь… Ну да ладно, что сделано, то сделано. – Эдвина сжала губы. – Теперь об одежде… и косметике. – Она помолчала, нахмурившись, и вопросительно взглянула на дочь. – Твой отец видел тебя в таком виде?
– В каком виде? – Аллилуйя смотрела на мать широко раскрытыми глазами – сама невинность.
– Хватит валять дурака, детка.
– Да правда, ма! Что в тебя вселилось? Кидаешься на меня со страшной силой!
– А как же ты думала? Уж если ты решаешься на такие шаги, то должна и предвидеть последствия. Ты считаешь себя достаточно взрослой, чтобы поступать по-своему, значит, должна быть готова ответить за свои поступки.
– Ты обращаешься со мной, как с ребенком!
– Для того, чтобы с тобой обращались, как со взрослой, нужно и поступать как…
Аллилуйя не дала ей договорить: углядев что-то на экране телевизора, она внезапно издала пронзительный вопль и врубила звук телевизора на полную мощь. Эдвина изумленно уставилась на экран: что могло так потрясти ее дочь?
На экране какой-то юнец с такими же, как у Аллилуйи, желто-черными волосами, торчащими во все стороны, с таким же макияжем и почти в том же самом кожано-брючном одеянии дергался практически под те же самые звуки, которые несколько минут назад удалось ликвидировать Эдвине, выключив плейер. „Пустая голова…"
– Это же Гадкий Билли! – восторженно взвизгнула девочка, стараясь перекричать резкие звуки музыки.
Эдвина вздохнула: так вот тот источник вдохновения, откуда ее дочь черпает идеи в одежде и косметике!
Дождавшись, пока песня кончится, Аллилуйя снова выключила звук. Она была в полном восторге, чего никак не могла сказать о себе Эдвина. В ушах все еще стоял звон, и она никак не могла избавиться от жутких видений, только что скакавших по экрану: рокеры, вампиры, хищники – и над всеми ними Гадкий Билли, своеобразный Франкенштейн хард-рока. Она с отвращением поежилась. Вот уж действительно пожалеешь о канувших в прошлое „Звуках музыки" или „Бэмби". Нет уж, кто как, а она всем этим Билли предпочитает бархатный голос Джули Эндрюс.
– Слушай, ма, правда, он самый сексуальный из всех них? – мечтательно протянула девочка, закатив глаза.
О Боже, час от часу не легче. С каких это пор Аллилуйю стала интересовать в мужчинах сексуальность?
Глубоко вздохнув, Эдвина попыталась взять себя в руки и ничем не выдать свою озабоченность.
– Ты должна понять, малышка, я просто хочу быть хорошей матерью. А это работа не из легких, поверь.
– Как и быть дочерью, – парировала Аллилуйя, выдувая очередной розовый пузырь.
– Да, я согласна. – Эдвина понимала, что слова звучат неубедительно и банально, но они передавали ее волнение. Она опять легко вздохнула. Если бы только Аллилуйя поверила, что она и вправду ее понимает! Эдвина вспоминала свое детство – вот уж его никак не назовешь нормальным. Полная фантасмагория.
Эдвина родилась в Нью-Йорке. Отца своего она не знала, а мать, Холли Робинсон, никогда о нем не рассказывала. Единственное, что ей удалось выяснить, – фамилия отца и правда была Робинсон, а странное чувство юмора, свойственное ее матери, проявилось в записи, которая была сделана ею в 1956 году в свидетельстве о рождении дочери и теперь останется с нею до могилы: Эдвина Джорджия Робинсон.[1]1
Эдвин Джордж Робинсон – известный американский киноактер – (Здесь и далее прим. пер.)
[Закрыть] Эдвина Джи.
Очень скоро все вокруг стали звать ее просто Эдс.
Девочку мало беспокоила необычность ее имени, а вот частое отсутствие матери беспокоило куда больше. Холли Робинсон не отличалась серьезностью поведения. Она обожала веселье и путешествия и беззаботно перемещалась из одного часового пояса в другой, полагаясь исключительно на великодушие своих спутников, приглашения и подарки друзей-приятелей или просто знакомых. Недостатка ни в тех, ни в других она не испытывала, чему способствовала ее очаровательная внешность, а также острый ум и яркая индивидуальность, оживлявшие любую вечеринку, на которой она появлялась. Холли входила в число завсегдатаев всех ведущих игровых площадок мира, будь то Париж, Сардиния, Монте-Карло, Лондон или же побережье Карибского моря. Повсюду, где только мог приземлиться самолет, легко сходила на землю и Холли. Денег у нее никогда не было, и матери с девочкой частенько приходилось перебираться из одного отеля в другой, подчас тайком выскальзывая из них ночью, чтобы не платить по счету. Однако недостатка в мехах, туалетах или ювелирных изделиях она не испытывала никогда, как не было у нее недостатка ни в магазинных счетах, ни в билетах на самолет, ни в приглашениях на званые вечера и прогулки на яхте. Красота и оригинальность Холли Робинсон служили ей пропуском в иной мир. Правда, пропуск этот был выписан на одно лицо; на детей он рассчитан не был.
Когда девочке исполнилось два года, Холли оставила ее у одной бездетной пары – своей школьной подруги, бывшей замужем за врачом.
– Я исчезаю всего на пару дней, – беззаботно щебетала она. – Вы же понимаете, ну что мне делать на Микеносе? Посмотрела один остров, посмотрела другой, ну и что дальше?
И, послав воздушный поцелуй дочери и махнув на прощанье рукой подруге, упорхнула куда-то на три месяца.
Но это было только начало.
К трем годам Эдвина уже по полгода проводила в переездах от одной подруги матери к другой. Причем каждый раз друзья и подруги оказывались новыми. Как правило, одного долгого визита было достаточно, чтобы в следующий раз искать новый дом.
Еще через год девочке приходилось гостить у чужих уже месяцев по девять. Когда же ей исполнилось семь лет, Холли, количество подруг которой, по-видимому, стало истощаться, оставила девочку с двумя молодыми людьми, живущими вместе в Гринвич-Виллидж.
– Это Альфредо, а это Джозеф, – прошептала она дочери нежным девическим голоском. – Это твои дядюшки, дорогая. Будь умницей, и мама скоро вернется. – Холли послала дочери ставший уже привычным поцелуй, закуталась в новые соболя и умчалась на какую-то вечеринку в шато, расположенное на другой половине земного шара.
Больше она не возвращалась – ни для того, чтобы забрать девочку, ни для того, чтобы исчезнуть снова. Ее самолет разбился в Альпах, и „дядюшки" Альфредо и Джозеф остались с семилетней девочкой на руках.
Они жили на пятом этаже старого дома без лифта на Бликер-стрит. Эдвине и в голову не приходило, в какой жалкой конурке проходит ее детство, а если бы вдруг пришло, она не обратила бы на это внимания. Пусть дом их считали грязной развалиной, зато на кухне была вода, комнатки всегда были чисто убраны, а обстановка и вовсе казалась пристойной – куда лучше, чем заслуживало жилье. Пол в комнатах покрывал рыжий линолеум, по обеим сторонам обваливающегося камина стояли кадки с рододендронами, водруженные на подставки. Старенькую мебель облагораживали яркие индейские покрывала, а гипсовую статуэтку мадам Помпадур, выкрашенную в серебристо-серый цвет, венчала соломенная шляпа. На каждый светильник был наброшен абажур из розового шелка, и приглушенный свет скрывал трещины на стенах и следы тараканьих перемещений. Тихие звуки цитры и острый, пикантный запах благовоний превращали эту норку в надежное укрытие от городской скверны.
Нужно признать, что дядюшка Эл и дядюшка Джо девочке нравились – впервые за долгие месяцы обивания чужих порогов. Она была еще слишком мала, чтобы понять: нормальные мужчины не живут вместе, не обнимаются и не целуются, как это случалось с Элом и Джо. Но все прочее, что скрывалось за этим, было скрыто и от глаз девочки.
Они счастливо прожили вместе около двух лет чуть ли не на второй день их совместной жизни Эдвина отбросила странноватое обращение „дядюшка" и стала называть Эла и Джо по именам. Так они и жили: два любящих брата со своей младшей сестренкой. Именно Джо, дизайнер-модельер в каком-то маленьком экспериментальном театре, помог ей впервые сшить туалеты для ее кукол. В обязанности же более серьезного Эла, фотографа, входили заботы о том, чтобы девочка не пропускала школу. Он же встречал ее после занятий. Но самое главное – Эл и Джо внесли в ее жизнь элемент стабильности, заботились о ней и щедро делились с девочкой теплом своих сердец. Первое время Эдвина еще рыдала по ночам, вспоминая мать, но постепенно эту боль вытеснило смутное ощущение своей собственной семьи.