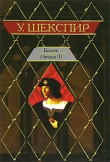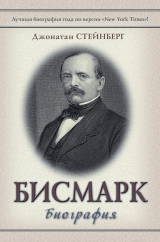
Текст книги "Бисмарк: Биография"
Автор книги: Джонатан Стейнберг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Гарнизоны европейских городов не владели тактикой парижских уличных боев. Они не знали, как сражаться против баррикад, перегородивших узкие и кривые улицы скученных городских центров, как справиться с льющимся из окон верхних этажей кипятком. Армии паниковали, видя братание между солдатами и гражданами. В Северной Италии маршал Радецкий располагал внушительной силой – более десяти тысяч вооруженных людей, и у него стояли гарнизоны во всех крепостях вокруг Милана, но и он не смог взять под свой контроль город. За один день после сообщений о падении правительства Венеции и бегстве Меттерниха Милан оброс рукотворными баррикадами50.
В Берлине беспорядки начались сразу же после получения вестей из Парижа. Удерживала толпы людей на улицах и прекрасная погода. Кристофер Кларк так описывал сложившуюся в городе ситуацию:
...
«Встревоженный нарастающей решимостью и своеволием толп, запрудивших улицы, начальник полиции Юлиус фон Минутоли распорядился ввести 13 марта в город свежие войска. В ту ночь несколько граждан были убиты в схватках, завязавшихся вблизи дворца. Толпы и солдаты состязались друг с другом за контролирование городского пространства»51.
Несколько дней король Фридрих Вильгельм IV пребывал в нерешительности, раздумывая, чью сторону занять: «голубей», предлагавших пойти на уступки, или «ястребов», возглавлявшихся генералом Карлом Людвигом Притвицем (1790–1871), командовавшим в Берлине бригадой гвардейской пехоты и настаивавшим на применении силы. 17 марта король, потрясенный бегством Меттерниха, наконец сдался и согласился отменить цензуру прессы и дать Пруссии конституцию. Минуло всего лишь одиннадцать месяцев со времени бравурной тронной речи, и король все-таки понял, что есть сила, способная трансформировать «естественную связь между государем и народом в обыкновенные конституционные отношения», и этой силой является не что иное, как страх. На следующее утро, когда ликующие толпы собрались на Дворцовой площади, произошли серьезные столкновения между армией и демонстрантами. По всему Берлину выросли баррикады. Армия уже была не в состоянии контролировать город.
18 марта 1848 года чуть ли не в полночь генерал фон Притвиц, которого его биограф характеризует как человека «сурового, решительного и замкнутого»52, прибыл во дворец и попросил у короля позволения отдать приказ об эвакуации города, с тем чтобы открыть по мятежникам артиллерийский огонь и принудить их к капитуляции. Дэвид Баркли так описал их полуночное рандеву:
...
«Смущенный монарх выслушал, поблагодарил Притвица и вернулся к письменному столу. Притвиц отметил то, с «каким удобством его величество уселись за стол, сняли сапоги, носки и натянули на ноги меховые гетры, собираясь, видимо, писать длиннющий документ». Тогда он составил, пожалуй, свой самый знаменитый документ – обращение «К моим дорогим берлинцам» ( «An Meine lieben Berliner» )»53.
К рассвету обращение было расклеено по всему городу. В нем король призывал граждан:
...
«Верните нам мир, уберите баррикады… и я даю вам государево слово, что улицы и площади будут очищены от войск, они останутся только в нескольких самых важных зданиях».
Приказ о выводе войск был отдан уже на следующий день перед полуднем. Король доверился революции54.
Для большинства солдат, для принца Вильгельма, брата короля, для кронпринца король Фридрих Вильгельм казался трусом, спасовавшим перед чернью. Роон, находившийся в Потсдаме, настроился на то, чтобы эмигрировать. Бисмарк, как обычно, схватился за шпагу. Через два дня, 20 марта, в Шёнхаузен заявилась делегация из Тангермюнде и потребовала водрузить на колокольне черно-красно-золотистый флаг Германской республики. Бисмарк вспоминал потом, как он тогда спросил своих крестьян: «Готовы ли они защищать себя?»:
...
«Они ответили горячо и единодушно Ja , и я посоветовал им выдворить горожан, что они незамедлительно и сделали при охотном участии женщин»55.
21 марта Бисмарк спешно отправился в Потсдам, желая выяснить: есть ли смысл в том, чтобы двинуть на Берлин вооруженных крестьян. Бисмарк повествует о своих впечатлениях в мемуарах, и они в основном совпадают с описаниями Галля, Энгельберга и Пфланце:
...
«Я спешился у резиденции моего друга Роона, который, будучи гувернером принца Фридриха Карла, занимал несколько комнат в замке, затем навестил в «Немецком доме» генерала фон Мёллендорфа, который все еще не отошел от грубого приема, оказанного ему повстанцами во время переговоров, и генерала фон Притвица, командующего в Берлине. Я описал им настроения сельчан, а они посвятили меня в некоторые детали того, что происходило утром 19-го. Рассказанное ими и последующая информация, полученная из Берлина, подкрепили мое убеждение в том, что король не свободен. Притвиц, будучи старше меня по возрасту и рассудительнее, спокойно сказал: “Не присылайте нам своих крестьян, они нам не нужны. У нас предостаточно солдат… Что мы можем сделать, если нам приказано играть роль побитых? Я не могу идти в наступление без приказа”»56.
Галль утверждает, что с этого момента Бисмарк решил «употребить все усилия для спасения традиционного монархо-аристократического порядка даже вопреки позиции нынешнего держателя короны»57. В определенном смысле у Бисмарка не было другого выбора. После того как в сентябре кайзер пригласил его на обед во дворце, свою дальнейшую карьеру и вхождение во власть Бисмарк связывал только с королевским двором. Если государя не вырвать из пут революции, то эта дорога для него закроется. Бисмарку казалось немыслимым, чтобы конституционное правительство предложило наилучший баланс между остатками абсолютизма и парламентаризмом. Неизбежный конфликт между монархом и парламентом предоставит Бисмарку нужную платформу для действий, надо лишь подождать.
Согласно свидетельству будущей королевы Августы, Бисмарк обратился к ней 23 марта 1848 года от имени ее деверя принца Карла Александра Прусского, младшего брата короля Фридриха Вильгельма IV и ее мужа принца Вильгельма Прусского. Он просил дать ему полномочия на то, чтобы «использовать имя ее мужа и имя ее юного сына в осуществлении контрреволюции». Бисмарк намеревался «отказаться от дарованных королем мер и подвергнуть сомнению и его право принимать их, и способность действовать рационально58. Августа писала кронпринцу, бежавшему в Англию:
...
«Я согласилась поговорить с герром фон Бисмарком-Шёнхаузеном, сказав ему, что он подал прекрасный пример истинной преданности и повиновения и любые действия, направленные против решений короля, противоречили бы его собственным убеждениям. Я побудила его дать честное слово, что ни твое имя, ни имя нашего сына не будут скомпрометированы подобными реакционными актами»59.
Бисмарк дал свою версию:
...
«В сложившихся обстоятельствах мне пришла в голову идея добиться иными путями приказа действовать, которого нельзя было ожидать от короля, оказавшегося несвободным, и я попытался получить аудиенцию у принца Прусского. Мне рекомендовали обратиться к принцессе, поскольку требовалось ее согласие. Я пришел к ней для того, чтобы выяснить местонахождение супруга, который, как я узнал позднее, пребывал на Павлиньем острове. Она приняла меня в комнате для прислуги на антресолях, сидя на деревянном стуле. Она отказала мне в информации, которую я запрашивал, заявив, в сильном возбуждении, что ее долг защищать права сына»60.
Читатель вправе предпочесть любой из этих вариантов, но надо не забывать о том, что Бисмарк имел привычку камуфлировать свои ошибки, и данный неуклюжий эпизод послужил одной из причин неприязненных и даже враждебных отношений между будущей королевой и ее будущим министром-президентом. Следует учитывать и то, что Бисмарк описывал встречу с Августой уже после своего падения, имея за плечами сорокалетний стаж ненависти к ней.
Ситуация тем временем обострялась. 25 марта Фридрих Вильгельм прибыл в Потсдам и выступил перед армейскими командующими и офицерами:
...
«Я приехал в Потсдам, чтобы дать мир гражданам города и доказать им, что во всех отношениях я свободный король, что и им, и гражданам Берлина не следует опасаться реакции и все тревожные слухи на этот счет совершенно безосновательны. Я никогда не чувствовал себя более свободным и в большей безопасности, чем под защитой моих граждан…»61
Бисмарк присутствовал на этой встрече и описал впоследствии в мемуарах горечь, которую испытал, слушая короля:
...
«После слов «я никогда не чувствовал себя более свободным и в большей безопасности, чем под защитой моих граждан» зал наполнился таким ропотом и лязгом сабель, выдернутых из ножен, какого еще не приходилось слышать ни одному королю Пруссии в окружении своих офицеров и, надеюсь, больше никогда не придется»62.
Бисмарку ничего не оставалось, кроме как вернуться в Шёнхаузен и пообщаться с юнкерами-соратниками. Через три дня он уже в более спокойных тонах писал брату Бернхарду, комментируя вести, поступающие из Парижа:
...
«До тех пор, пока в Париже у власти удерживается нынешнее правительство, войны не будет, и я сомневаюсь в том, что они ее хотят. Если оно пошатнется или даже рухнет под нажимом социалистов, что вполне возможно, то ни у этой власти, ни у ее преемника не будет денег; никто их не одолжит, и тогда должно произойти государственное банкротство или нечто подобное. Мотивы 1792 года, гильотины и республиканский фанатизм, которые могли бы подменить отсутствие денег, не присутствуют»63.
В этой трезвой, проницательной и абсолютно верной оценке Второй Французской республики впервые проявляется другой Бисмарк – дипломат и государственный деятель. Из далекого Бранденбурга он разглядел то, что отметил Токвиль, наблюдая за улицами Парижа: Французская революция 1848 года была плохой имитацией революции 1792 года, по выражению Токвиля, «низкосортной трагедией, сыгранной провинциальными актерами»64.
29 марта 1848 года король назначил Лудольфа Кампхаузена (1803–1890), купца, торговавшего зерном и бакалеей, банкира и инвестора в рейнских провинциях Пруссии, своим новым премьер-министром, а 2 апреля созвал сессию Соединенного ландтага. Кампхаузен стал первым представителем капитализма, получившим высокий государственный пост. Бисмарк как депутат Соединенного ландтага должен был срочно выехать из Шёнхаузена в Берлин. 2 апреля он писал Иоганне уже из Берлина: «Я спокоен как никогда прежде»65.
Одновременно были объявлены выборы в Национальное собрание Пруссии. Депутатов избирали не прямым голосованием. Сначала избиралась коллегия выборщиков, которые и голосовали за кандидатов в депутаты. В выборах могло участвовать все взрослое мужское население; исключение делалось лишь для тех, кто считался недееспособным или проживал в той же местности менее полугода. 19 апреля в письме брату Бисмарк сообщал:
...
«У меня практически нет или очень мало шансов быть избранным. Не знаю, радоваться мне или печалиться по этому поводу. Моя совесть требует, чтобы я участвовал в кампании со всей имеющейся у меня энергией. Если я не преуспею, то разлягусь в своем огромном кресле, испытывая удовлетворение от того, что мне удалось кое-что сделать, и проведу два, а то и шесть месяцев в условиях, гораздо более приятных, чем на ландтаге»66.
Выборы наэлектризовали новых избирателей, крестьян и ремесленников, и они переполняли залы собраний. В мгновение ока они позабыли о привитой веками покорности и послушании. К ним присоединилось немало радикалов из среднего класса, подливавших масла в огонь и желавших отвоевать и свое место под солнцем. Новый прусский кабинет, возглавлявшийся Давидом Ганземаном и Лудольфом Кампхаузеном, в своей политике сочетал принципы либеральной экономики и конституционности, но практически ничего не делал для улучшения жизни крестьянства и ремесленников, которые хотели видеть действительные перемены, а не выхолощенные схемы Адама Смита. Одновременно с депутатами нового прусского ландтага избирались и представители в так называемый германский предпарламент, общегерманскую конституционную ассамблею. Это тоже вызвало разлад между сторонниками нового порядка: между теми, кто хотел оставаться по преимуществу пруссаками, баварцами или саксонцами – мини-революции происходили во всех тридцати девяти немецких государствах – и теми, кто стремился, по Гегелю, «впрыгнуть» в новую, объединенную Германию.
Не так просто понять характер революции 1848 года. Собственно, происходила не одна революция, их было множество и самых разных, они имели место и в самих государствах, и в отношениях между государствами. Можно сказать, в Германии происходило тридцать девять революций – в таких больших королевствах, как Пруссия или Бавария, и таких карликовых государственных образованиях, как княжества Рёйсс старшей и младшей ветвей, одним из которых правил Генрих XX, а другим – Генрих LXII (и это не опечатка)67. В империи Габсбургов революций можно было насчитать почти столько же, сколько и национальностей: они возникали и в немецких, чешских, венгерских, итальянских, польских городах, и в некоторых сельских местностях, где сохранялось крепостничество ( robot). Попытки создать единое германское государство сразу же вызвали споры по поводу того, что же считать Германией. В империю Габсбургов входили и германские, и негерманские государства. Каждое отдельное королевство, герцогство, княжество имело собственную феодальную конституцию и своего короля, князя, герцога, графа, маркграфа, ландграфа или иного сюзерена. Немецкие националисты, мечтавшие о «великой Германии», считали историческими германскими землями, например, Богемию и Моравию, в которых большинство населения состояло не из немцев. Германское единое национальное государство должно было включать в себя такие «навеки соединенные» герцогства, как Шлезвиг и Гольштейн, сюзереном которых, хотя только Гольштейн входил в Германский союз, был датский король. Вздорили между собой сословия и регионы, предприниматели и рабочие, бунтовали ремесленники, сопротивлявшиеся внедрению квалифицированных профессий, и упертые либералы, требовавшие применять принципы свободного рынка и в закрытых корпорациях. Размывание тысячелетних прав на леса и поля задевало и интересы Бисмарка, и всего социального класса, столкнувшегося с угрозой лишиться даже таких мелких привилегий, как право на получение десятой доли сбора меда с каждого улья, имевшегося у крестьянина.
Свирепые схватки завязались по всей Европе, а националисты включились в борьбу за создание своих отдельных государств. Карл Альберт, король Пьемонта, следуя самопровозглашенному лозунгу l’Italia far da se(«Италии – быть»), отправил армию в Ломбардию, где радикалы-республиканцы восстали и против Пьемонта, и против имперских сил режима Габсбургов. Избежали волнений только две великие державы: на западе – Великобритания, уже имевшая и либерализм, и конституцию, и средний класс (хотя радикалы вроде преподобного Фредерика Мориса тоже в 1848 году ожидали со дня на день революцию), а на востоке – Россия, где не было ни того, ни другого, ни третьего.
Внезапно не стало цензуры, господствовавшей в продолжение двадцати пяти лет, и радикалы, консерваторы и либералы всех мастей дружно начали выступать с речами, выпускать листовки и издавать газеты. Калейдоскоп лиц, местностей, проблем, наследий, традиций, конфликтов и законодательных актов ставил в тупик современников и продолжает смущать историков, которым приходится сначала понять события, а уж потом их описывать.
Короли и князья поначалу запаниковали, а когда прошел первый шок, поняли, что у них все еще есть армии, пусть оскорбленные и униженные повстанцами, но по-прежнему сильные и чаще всего располагавшиеся, как в Пруссии, вне бунтующих столиц. Австрийские войска в Северной Италии начали восстанавливать контроль над Ломбардией и Венецией и 17 июня подавили восстание чехов в Праге. С 23 по 26 июня генерал Кавеньяк усмирил восстание рабочих в Париже, вписав в историю так называемые «июньские дни». 24 и 25 июля маршал Радецкий разгромил пьемонтскую армию Карла Альберта и восстановил австрийское господство в Северной Италии. Старый режим почувствовал себя увереннее.
В Пруссии консерваторы, собравшиеся вокруг братьев Герлах, начали внутреннюю контрреволюцию, создав ministre occulte, тайное теневое правительство, окопавшееся в королевском истеблишменте и получившее название «камарильи». Поскольку новые конституционные пертурбации никак не повлияли на право короля распоряжаться армией, то генерал Леопольд фон Герлах и его брат, старший судья Эрнст Людвиг фон Герлах стали главными вдохновителями и организаторами теневого кабинета, подключив к нему генерал-адъютантов короля и различных министров королевского двора. Ганс Иоахим Шёпс писал о Леопольде фон Герлахе:
...
«Пользуясь дружбой с Фридрихом Вильгельмом IV – их связывало глубокое духовное родство, – Герлах после 1848 года оказывал огромное влияние на политику Пруссии. Его часто посылали с дипломатическими миссиями. На ежедневных кофейных докладах к его советам и мнениям прислушивались больше, чем к сентенциям министра-президента… С другой стороны, поскольку люди в ближайшем окружении короля не стремились к власти – Герлах был слишком щепетилен в таких делах, – то камарилья отличалась полным отсутствием какой-либо организации»68.
Королевскому правительству, как, впрочем, и нынешним президентским кабинетам, была свойственна еще одна особенность: огромный потенциал обретения власти и влияния посредством личных отношений. Если вы имеете возможность видеться с королем каждый день и в особенности наедине, то вы уже обладаете властью вне зависимости от того, какой пост или место занимаете в иерархии. Леопольд фон Герлах пил кофе с королем каждый день. У него была власть.
В 1850 или 1851 году Леопольд фон Герлах стал президентом «Берлинского общества распространения христианства среди евреев», взявшись за исполнение тех же функций, которые обозначил его основатель генерал Иоб фон Вицлебен. Точная дата неизвестна из-за отсутствия докладов общества за эти годы69. Как и генерал Иоб фон Вицлебен, Леопольд фон Герлах сочетал занятия делами христианства с должностью генерал-адъютанта. Антисемитизм утверждался в высших эшелонах прусского общества, а заметное участие евреев в революции лишь способствовало этому. Фон дер Марвиц пророчески предупреждал в 1811 году: либерализм приведет к тому, что «наша древняя и любезная Бранденбург-Пруссия превратится в махровое еврейское государство»70.
21 июня Бисмарк сообщил брату о том, что уезжает в Потсдам «для политических интриг», а 3 июля уже писал Александру фон Белову-Гогендорфу:
...
«На прошлой неделе я был в Потсдаме, где встречался с лицами высокого и очень высокого положения, которые излагали свои позиции гораздо решительнее и яснее, чем можно было ожидать с учетом всего того, что произошло. Я также смог убедиться, получив возможность взглянуть на конфиденциальное письмо царя, в том, что война с Россией существует только в воображении до тех пор, пока не разразится гражданская война здесь и наш правитель не призовет русских на помощь. Обо всем остальном – в устном изложении»71.
В тот же день, 21 июня 1848 года, образовалось «Общество за короля и отечество», полулегальная ассоциация юнкеров-лендлордов, имевшая не более десяти – двадцати членов в каждой провинции. Они должны были вступать в другие организации, не ставя их в известность о существовании такого общества, оказывать влияние на местное население и докладывать в центральный комитет в Берлине о настроениях в целом по стране. Действовали как открытый, так и тайный комитеты. Последний возглавлял Людвиг фон Герлах72.
Камарилья понимала, что недостаточно ни открытой, при королевском дворе, ни тайной деятельности. Нужны и другие рычаги политического влияния, в том числе и собственная газета. Об этом шли разговоры и до 1848 года, но дальше разговоров дело не пошло. Теперь, в эру относительной демократии консерваторы особенно остро ощутили необходимость в печатном рупоре. Бернхард фон Бисмарк так описывал трудности, с которыми они столкнулись:
...
«Хотя финансовое положение и платежеспособность владельцев поместий были весьма зыбкими, и мои в особенности, мне удалось своим примером, устными и письменными убеждениями собрать деньги на поддержку консервативной прессы. Подписав гарантийное письмо и получив в кредит несколько тысяч талеров, я, мой брат и Клейст-Ретцов оплатили первоначальные расходы. Иначе газета закрылась бы, едва появившись»73.
1 июля 1848 года вышел в свет первый номер «Neue Preussische Zeitung»(«Новой прусской газеты»). Поскольку на заглавном листе был изображен железный крест, ее сразу же назвали «Kreuzzeitung»(«Крестовой газетой»). Бисмарк с самого начала принял живейшее участие в ее издании. Он писал для нее статьи и регулярно посылал редактору Герману Вагенеру свои комментарии. Мы располагаем одним из первых его откликов. В июле 1848 года Бисмарк, получив первый экземпляр газеты, отправил Вагенеру восторженный отзыв, выразив одновременно и полезное предложение:
...
«Недостаточно рекламных объявлений. В нашей сельской глухомани они просто необходимы. Женщины не могут без них существовать, и выживание газеты во многом зависит от рекламных поступлений. Новые издания могут помогать себе перепечаткой заметок из солидных газет и только лишь средствами внешнего оформления могут создавать впечатление важного источника информации… Надо заимствовать объявления о рождениях, смертях и свадьбах из «Шпенер-Фоссише», на мой взгляд, целиком или, при необходимости, без фразеологии. Только представьте себе, как много женщин читают в газетах только объявления. Если нет объявлений, то они запретят мужьям покупать газету»74.
В начале сентября Герлах пометил в дневнике: Бисмарк «смотрится почти как министр… очень деятельный и умный помощник для нашего штаба камарильи»75. Герлах возвышался над всем поколением молодых консерваторов вроде Вагенера, Клейста-Ретцова и Шеде и в силу непререкаемой авторитетности в сфере юстиции и судопроизводства, и благодаря исключительно чистой, свойственной только святым, христианской вере. Бисмарка никак нельзя было бы причислить к лику святых. Он не служил и референдарием в высшем провинциальном суде Герлаха и вряд ли разделял его идеи применения христианских принципов к государству76.
Осенью 1848 года Бисмарк особенно заинтересовался Эрнстом Людвигом фон Герлахом, помогавшим организовывать камарилью в качестве новой политической силы. Герлах вел ежемесячную колонку в «Кройццайтунг» под заголовком «Ревью», приобретшую большую популярность и ставшую главным рупором правых. Он нередко озадачивал своих читателей, написав, например, в октябре 1848 года: «Мы не должны противостоять революции только лишь репрессивными мерами в целях обеспечения безопасности государства, нам следует также руководствоваться и идеями справедливости»77. Поскольку брат Леопольд каждый день пил кофе с королем, Бисмарк разумно заключил, что Герлахи откроют ему дорогу во власть, и он был абсолютно прав.
12 июля германская конфедерация во Франкфурте, продолжавшая функционировать параллельно с революционным Германским национальным собранием, приняла решение, косвенным образом повлиявшее на дальнейшую карьеру Бисмарка. Она объявила не о «прекращении своего существования», а о «прекращении предыдущей деятельности»78. Когда революция закончилась, австрийцы настояли на ее реанимации, с тем чтобы утвердить свое господство в политической структуре Германии. Это означало, что при прусском согласии в бундестаге вновь должен появиться прусский представитель, которым и стал Бисмарк.
В июле на Прусском национальном собрании [15] разгорелись дебаты по поводу отмены всех поместных прав. В результате 24 июля сформировалась организация крупных лендлордов под длинным названием Verein zur Wahrung der Interessen des Grundbesitzes und zur Frderung des Wohlstands aller Klassen(«Ассоциация защиты интересов землевладения и содействия благосостоянию всех классов»). Хотя в ней доминировала сельская аристократия, 26 процентов лендлордов не были дворянами. Среди главных инициаторов фигурировали уже знакомые нам имена: Эрнст фон Бюлов-Куммеров, Ганс фон Клейст-Ретцов, Александр фон Белов и Отто фон Бисмарк. Первое ежегодное собрание ассоциации состоялось 18 августа, и на нем присутствовали от двухсот до трехсот человек, среди которых были и мелкие держатели земли, и крестьяне. Поскольку длинное название утомляло, организаторы сократили его до нескольких слов – Verein zum Schutz des Eigentums(«Ассоциация защиты собственности»), и журналисты тут же окрестили организацию «юнкерским парламентом». Хотя ему и было всего лишь тридцать четыре года, президентом избрали Ганса фон Клейста. Леопольд фон Герлах спустя несколько лет, 10 декабря 1855 года писал об ассоциации: «Она заложила основу и положила начало будущей мощной партии, спасшей страну»79. 22 августа 1848 года перед «юнкерским парламентом» выступил Людвиг фон Герлах, впервые дав христианское обоснование поместным правам:
...
«Собственность является и политической концепцией, и институтом, освященным Господом для сохранения Божьего закона и царствия Его закона, и собственность священна только лишь в единстве с обязанностями, налагаемыми ею. Лишь как средство удовлетворения своих прихотей она не священна, а порочна. Коммунизм правильно отвергает обладание собственностью без обязанностей. По этой причине мы не можем отречься от наших прав на то, чтобы оказывать покровительство (церкви и школам), иметь полицию (поместных констеблей) и заниматься правосудием (выступать в роли судей), поскольку все это не столько права, сколько обязанности»80.
Бисмарк без устали занимался делами ассоциации, проявляя кипучую энергию и политическое искусство. 25 августа он послал Герману Вагенеру собственную интерпретацию noblesse obligeГерлаха:
...
«Принадлежность к дворянству подразумевает бескорыстное служение стране. Для этого дворянин должен иметь состояние, за счет которого он мог бы существовать, иначе концепция останется пустым звуком. Следовательно, мы должны быть материалистами в отстаивании наших материальных прав»81.
Конечно, Герлах имел в виду нечто другое.
В том же революционном году, в дни бурной деятельности «юнкерского парламента», 21 августа 1848 года, у Бисмарка родился первенец, дочь Мария, и Ганс фон Клейст-Ретцов стал ее крестным отцом82. Впоследствии в семье появятся еще два ребенка, сыновья.
За пределами Берлина, где заседал «юнкерский парламент», международные и национальные силы тем временем начали обуздывать и сокрушать германские революции 1848–1849 годов. Через день после послания Бисмарка Герману Вагенеру, 26 августа 1848 года, прусское правительство, чья армия вела донкихотскую борьбу за освобождение герцогств Шлезвиг и Гольштейн, согласилось, уступая нажиму со стороны Британии и России, подписать с Данией перемирие без согласования с Германским национальным собранием, членом которого Пруссия теоретически являлась. Предательство национальных союзных интересов вскрыло очевидный факт: несостоятельность Франкфурта как столицы новой Германии. 16 сентября, в день ратификации перемирия Национальным собранием во Франкфурте, в городе поднялся мятеж, и толпа учинила расправу над двумя депутатами – Ауэрсвальдом и Лихновским. Порядок удалось восстановить лишь вводом в город прусской армии83.
Потеря престижа общегерманской ассамблеей отразилась и на Прусском национальном собрании. 11 сентября 1848 года ушло в отставку либеральное министерство Ауэрсвальда – Ганземана. Король заколебался. Может быть, ему вообще избавиться от либералов? Бисмарк помчался в Берлин. Монарх принял его и вроде даже собирался дать ему должность. Фридрих Вильгельм все-таки остановил свой выбор на шестидесятидевятилетнем генерале Адольфе фон Пфюле, до 18 марта 1848 года исполнявшем обязанности военного губернатора Берлина, назначив его министром-президентом Пруссии. Пфюль был другом детства поэта и прозаика Генриха фон Клейста, регулярно посещал еврейский салон Рахили Варнаген фон Энзе и пользовался репутацией человека со странностями. Хотя немолодой генерал и был истинным бранденбургским пруссаком-юнкером, он увлекался либерализмом. Пфюль пытался честно придерживаться мартовских договоренностей 1848 года, но, не сумев заручиться поддержкой короля в разрешении конфликта между короной и парламентом, занервничал и, понукаемый братьями Герлах, озлобился84. 23 сентября 1848 года Бисмарк писал Иоганне:
...
«Правительство либо распишется в своем бессилии, как и его предшественники, и уйдет, чего бы я не хотел, либо будет исполнять свои обязанности, и тогда, и в этом я ни на минуту не сомневаюсь, вечером в понедельник или во вторник прольется кровь. Я не думал, что демократы осмелятся принять бой, но все их поведение указывает на то, что они готовы к этому. Вновь появились поляки, франкфуртцы, бездельники, флибустьеры и прочий сброд. Они рассчитывают на то, что войска отступят, возможно, под воздействием речей горстки недовольных болтунов. Думаю, что они ошибаются. Я не вижу никаких причин для того, чтобы здесь оставаться и уповать на защиту Господа, на что я не имею права претендовать. Завтра я уберусь в более безопасное место»85.
Тем не менее Бисмарк остался в Берлине, хотя трудно сказать, ради чего и в каком качестве. Он разъезжал, встречался с разными людьми и, видимо, старался быть на виду для того, чтобы о нем не забыли. Похоже, Бисмарк серьезно ожидал, что ему дадут высокий пост, и, как оказалось, его ожидания не были напрасными. В Берлине камарилье наконец удалось привлечь короля на свою сторону.
В начале сентября 1848 года Леопольд фон Герлах предложил создать «военное ведомство во главе с генералом»: оно-де и покончит с революцией в Пруссии. 29 сентября 1848 года Людвиг говорил Леопольду: такое ведомство должно состоять из генерала графа Бранденбурга, члена королевской семьи, Отто фон Бисмарка, Ганса Гуго фон Клейста-Ретцова и принца Прусского в роли «генералиссимуса»86. В итоге к 6 октября 1848 года камарилья добилась назначения Бранденбурга министром-президентом Пруссии. Граф Фридрих Вильгельм фон Бранденбург (1792–1850) был одним из трех генералов, отвоевавших Берлин у революции. Он рос в доме министра королевского двора фон Массова и, очевидно, знал короля Фридриха Вильгельма IV с детства. У него было много добродетелей, но он не обладал ни малейшим политическим опытом, когда 2 ноября 1848 года Фридрих Вильгельм IV назначал его на место фон Пфюля87. Бисмарк вспоминал: