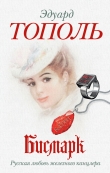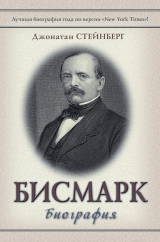
Текст книги "Бисмарк: Биография"
Автор книги: Джонатан Стейнберг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
6. Вхождение во власть
Положение, в котором оказался Бисмарк в 1859 году, его удручало. Хотя он и игнорировал своего непосредственного начальника министра-президента Отто фон Мантейфеля, барон относился к нему неплохо. Но теперь для Бисмарка не существовало ни короля, ни Мантейфеля. Один удалился из активной жизни по болезни, другой – в силу обостренного чувства долга. Считая необходимым предоставить регенту свободу действий, Мантейфель подал в отставку, и принц принял ее 6 ноября 1858 года. Мантейфель отказался от титула графа, уединившись в своем поместье1. После ухода министра-президента и министра иностранных дел поползли слухи о переводе Бисмарка в Санкт-Петербург, что, по его мнению, означало не что иное, как ссылку. Уже привыкнув к доступности прусских монархов, Бисмарк запросил у регента аудиенцию. Его доводы были простые и убедительные. Нет такого человека, который мог бы заменить его на этом посту. Он прослужил во Франкфурте восемь лет и знает в лицо всех, кто хоть чего-то стоит. Его преемник фон Узедом – сущий кретин с невыносимой женой, и весь кабинет «новой эры» не заслуживает малейшего уважения. Бисмарк вспоминал:
...
«Изложив свои соображения относительно значимости поста при федеральном сейме, я перешел к оценке общей ситуации и сказал: «У вашего королевского высочества во всем министерстве нет человека, наделенного государственным умом, сплошь одни бездари и ограниченные люди».
Регент: «Вы и Бонина считаете ограниченным человеком?»
Я: «Ни в коем случае. Но он не может содержать в порядке свой письменный стол, не говоря уж о министерстве. А Шлейниц – хороший придворный, но не государственный деятель».
Регент (с раздражением): «Случайно, не принимаете ли вы и меня за бездельника? Не стать ли мне самому и министром иностранных дел, и военным министром?»
Я извинился и сказал: “Сейчас самый способный провинциальный администратор не может управлять округом без умного секретаря, и ему приходится полагаться на его помощь. Прусская монархия нуждается в аналогичном взаимодействии, но на более высоком уровне. Без умных министров ваше королевское высочество не получит нужных результатов”»2.
Нам неизвестно, действительно ли говорил все это Бисмарк. Разговор происходил за тридцать пять лет до написания мемуаров. Делал ли он тогда заметки? Так или иначе, текст примечательный. Дерзкое охаивание кабинета и оскорбительный для регента тон высказываний предполагают: либо Бисмарк на самом деле мог позволить себе такую вольность, либо при прусском королевском дворе практиковалась терпимость к критике, абсолютно несвойственная другим монархиям. Никто не осмелился бы разговаривать в подобной манере с королевой Викторией или Наполеоном III.
Тем временем вопрос о переводе в Россию оставался открытым. В середине января 1859 года Бисмарк писал Иоганне о том, что его очень доброжелательно принял принц-регент и он обедал с Гансом (фон Клейстом-Ретцовом), Оскаром (фон Арнимом, зятем), Александром фон Беловым-Гогендорфом, Морицем фон Блакенбургом, Вагенером, графом Эберхардом цу Штольбергом и Зомницем. Он оставался в Берлине до 24 января и, вероятно, уговаривал регента сохранить за ним пост во Франкфурте3. Принц Вильгельм все же принял иное решение. 29 января 1859 года он назначил Бисмарка прусским послом при дворе царя Александра II4. Помрачневший Бисмарк вернулся во Франкфурт завершать дела и готовиться к отъезду.
Роон тоже пребывал в прескверном настроении. Он натолкнулся на враждебность со стороны нового военного министра Эдуарда фон Бонина, который был на десять лет старше и несравненно более опытным полевым командующим. У Эдуарда фон Бонина имелись собственные идеи насчет слияния регулярных войск и ландвера, и на него не произвел впечатления меморандум Роона. 9 января 1859 года Роон написал Анне: новый министр скорее всего положит его проект в долгий ящик5. На следующий день он обедал у принца-регента, после чего принцесса Августа попросила его задержаться и рассказать о проекте военной реформы и итогах встречи 22 декабря.
10 января Роон писал Анне:
...
«Она проявила живой интерес к моей работе и хотела меня подбодрить. Мне не следует принимать все так близко к сердцу. Столь важные дела требуют особой настойчивости и упорства… Когда я заметил, что принцу надо лишь отдать приказ, она стала его извинять. Принц перегружен проектами и предложениями, и его положение только усложнится, если те, кто представляет доклады, раздражаются или выражают недовольство. В любом случае все делается гораздо проще, если человек, выступающий с предложением, убежден в его полезности. И с этими словами она меня отпустила»6.
Мог ли Роон сохранять спокойствие духа, если назавтра министр фон Бонин прогнал его вместе с меморандумом? Роон сообщал рассерженно Анне:
...
«У него не было времени, чтобы заняться меморандумом, который он только что получил. Он его еще не читал и не имел возможности составить свое мнение. Он лепетал какую-то ерунду, как мальчишка»7.
Спустя два дня принц-регент созвал совещание кабинета для обсуждения проекта военной реформы. Роон был приглашен на заседание, когда оно завершалось, и собственными ушами слышал, как фон Бонин объявил его председателем комиссии, которая должна изучить осуществимость предложений по реформе. Казалось, Роон мог бы и порадоваться, но он был настроен скептически. Он был уверен, что фон Бонин намерен похоронить проект в бесконечных дискуссиях, поскольку «для этого и создаются такие комиссии»8.
В действительности дальнейшая судьба и Роона, и Бисмарка решалась совсем в другом месте. 29 января 1859 года был подписан франко-пьемонтский договор в основном на условиях, согласованных Наполеоном III и графом Кавуром, премьер-министром Пьемонта, в Пломбьере в 1858 году. Франция брала на себя обязательство в случае австро-пьемонтской войны в Италии, развязанной Австрией, помочь Пьемонту в вытеснении австрийцев из Италии и создании Северо-Итальянского королевства под эгидой Савойского дома. Через несколько дней, 4 февраля 1859 года, Наполеон обнародовал памфлет « L’Impereur Napolon III et l’Italie» («Император Наполеон III и Италия»), недвусмысленно указывавший на то, что племянник великого завоевателя намерен идти по стопам своего предшественника. Он тоже освободит Италию и поубавит мощь реакционной империи Габсбургов. Эти дерзкие замыслы действительно подорвали мир в самом центре Европы, а на волнах от этого взрыва, прокатившихся по континенту, вознеслись во власть Роон и Бисмарк, воспользовавшийся кризисом для объединения Германии.
Пока же Бисмарк готовился передать свой пост во Франкфурте Гвидо Узедому. Перед отъездом он был приглашен к обеду в богатый дом Майера Карла фон Ротшильда (1820–1886), главы банка Ротшильдов во Франкфурте, где, как писал Бисмарк Иоганне, его поразило «истинно еврейское пристрастие к тоннам серебра, золотых ложек и вилок»9. Этот обед имел свои последствия: по рекомендации Майера Карла Бисмарк назначил Герсона Блейхрёдера, берлинского банкира и корреспондента Ротшильдов, своим личным финансистом, поручив ему заниматься денежными делами, пока он будет находиться в Санкт-Петербурге10. Сотрудничество продолжалось до самой смерти Блейхрёдера в 1891 году и принесло Бисмарку немалые деньги. Нетрудно представить, как обогатился Блейхрёдер в роли «банкира Бисмарка», но об этом мы поговорим позже.
С самого начала в далеком Санкт-Петербурге Бисмарка ожидали трудности, в том числе и материальные. Узнав о том, что его предшественник барон Карл фон Вертер (1809–1882) продает мебель, Бисмарк писал 25 февраля: «Как же я буду жить в пустом доме?» У него оставался один выход – на время поселиться в отеле11. Как Бисмарк писал брату Бернхарду, переезд в Санкт-Петербург обещал обойтись ему очень дорого. Послу определили высокое жалованье – 33 тысячи талеров, позволявших «в нормальных условиях жить с комфортом», но Вертер платил за посольскую резиденцию (без мебели) 6400 талеров, в то время как Бисмарк во Франкфурте тратил 4500. Министерство иностранных дел выделяло на переезд 3000 талеров, но даже с учетом этой субсидии он терял десять тысяч талеров12.
6 марта 1859 года Бисмарк выехал из Франкфурта в Берлин, надеясь провести там несколько дней. Через десять дней он писал Иоганне:
...
«Я все еще торчу здесь и не знаю, чем заняться и как отвечать на вопросы о моем отбытии. Я назначил отъезд на субботу, но теперь жду письмо от принца к царю, которое мне поручено взять с собой и которое будет готово только на следующей неделе»13.
И все-таки время отъезда наступило:
...
«Все вышло так, как я и ожидал. Продержав меня шестнадцать дней, мне вдруг вчера сообщили, в пять часов, что я должен отъезжать, и как можно скорее, самое позднее сегодня же вечером. Этого я, конечно, не сделаю и отправлюсь завтра во второй половине дня»14.
Путешествие Бисмарка из Берлина в Санкт-Петербург может служить наглядной иллюстрацией контраста между нынешним временем и его эпохой. Хотя железные дороги давно уже не были новинкой и Бисмарк смог доехать поездом до Кёнигсберга, дальше он добирался на каретах, переезжая от одной почтовой станции к другой. В конце марта разразилась пурга, и ему приходилось выходить из кареты и идти, утопая в снегу. Прибыв наконец в Санкт-Петербург, Бисмарк в пространном послании сестре восторженно описал свое изматывающее странствие на лошадях, занявшее целую неделю, тогда как сейчас от этого города до Санкт-Петербурга можно долететь за час. Я позволю себе процитировать его письмо более подробно:
...
«Позавчера рано утром я наконец приехал сюда и остановился в отеле «Демидофф», отогрелся и просох. Но какая это была дорога! Едва мы отъехали от Кёнигсберга, восемь дней назад, как начался буран, и с этого момента я больше не видел голой земли. Уже возле Инстербурга наша почтовая колымага двигалась со скоростью одной мили в час. В Вирбаллене нам дали убогий рыдван, в котором я при моем росте не мог поместиться, и мне пришлось поменяться местами с Энгелем (лакеем. – Дж. С .) и всю дорогу проехать снаружи на переднем и открытом сиденье. Это была маленькая скамья с жесткой спинкой, и спать в этих условиях, даже если не считать мороза, доходившего по ночам до двенадцати градусов, было совершенно невозможно. После поезда я бодрствовал с пятницы до понедельника, три часа соснул в Ковно и два часа покемарил на софе на почтовой станции. Когда мы приехали, кожа у меня шелушилась. Так много времени у нас ушло на дорогу из-за снега. Несколько раз нам приходилось выбираться из кареты и идти на своих двоих: она застревала, несмотря на то что в упряжке было восемь лошадей. Дюна замерзла, но в полмили выше по течению мы нашли возможность переправиться на другой берег. По Вилие плыли льдины, Неман был свободен ото льда. Иногда нам не хватало лошадей: на всех почтовых станциях запрягали по восемь и даже десять коней вместо трех или четырех. У меня ни разу не было меньше шести лошадей, хотя карета и не была перегружена. Почтмейстер, ямщик и форейтор старались изо всех сил, но я не хотел, чтобы они загнали лошадей. Тяжелее всего преодолевались холмы, особенно спуски: я всегда боялся, что задние лошади наскочат на передних. Как бы то ни было, все позади, и теперь об этом интересно рассказывать»15.
Несмотря на первоначальное нежелание принимать новое назначение, Бисмарку понравилось в Петербурге, и его письма оттуда пронизаны душевным покоем, которого он не испытывал ни до поездки в Россию, ни после нее. Его пленили променады и бульвары Северной Венеции, великолепие дворцов, парков и садов, цветовая гамма города, удивительные белые ночи, и он увлеченно наблюдал за странными для немца обычаями и повадками русских людей. Письма из Петербурга отражают самый идеалистический период в жизни мятежного и амбициозного гения. Поскольку в России не было консульской службы, дел у представителя прусского короля оказалось предостаточно, о чем он и писал брату в мае 1859 года. Первейшая его обязанность заключалась в том, чтобы блюсти интересы 40 тысяч пруссаков, живших в Российской империи. «Один служит адвокатом, другой – полицейским, третий – уездным советником, четвертый разбирается с тяжбами. Очень часто я должен за день подписать сотню документов»16. Бисмарк нашел для себя и увлекательное интеллектуальное занятие – состязаться в дипломатии с Горчаковым, министром иностранных дел России, используя для этого любую возможность. 28 апреля он писал Иоганне:
...
«Сегодня я присутствовал на похоронах и погребении старого князя Гогенлоэ, с царем и церемониальным шествием. После того как затемненная церковь опустела, мы уселись на скамейку, покрытую черным бархатом с изображением черепов, и ударились в политику, не болтали, а обсуждали наши дела. Священник говорил что-то о бренности и тлене, а мы строили планы и замыслы, как будто нет никакой смерти»17.
Больше всего Бисмарка поразило то, что в России не забыли австрийского «предательства» в 1854–1855 годах:
...
«Трудно представить, как низко пали австрийцы в глазах русских. Самая паршивая собака не примет от них куска хлеба… ненависть к ним безгранична и превзошла все мои ожидания. Только здесь я поверил в возможность войны. Вся российская внешняя политика направлена на то, чтобы найти способ, как расквитаться с Австрией. Даже тихий и мягкий император извергает гнев и пламя, когда говорит об этом, а императрица, принцесса Дармштадтская, и вдовая императрица расстраиваются, когда заговаривают о разбитом сердце царя, любившего Франца Иосифа как сына»18.
Бисмарку польстило, когда в Петергоф его пригласила вдовствующая царица, императрица Александра Федоровна, вдова покойного царя Николая I, урожденная принцесса Шарлотта Прусская, сестра короля Фридриха Вильгельма IV. Приводим его повествование об этом визите, имевшем особое значение для души, всегда тянувшейся к монаршим особам:
...
«В ее отношении ко мне было что-то материнское. Я говорил с ней так, как будто знал ее с детства… Я мог слушать ее глубокий голос, чистосердечный смех и даже ворчание часами, все было так по-домашнему. Я пришел при галстуке и в визитке, как на официальный двухчасовой прием, но к концу нашего разговора она сказала, что у нее нет никакого желания прощаться со мной, а у меня, наверное, много дел. «Вовсе нет», – ответил я, а она сказала: «Что ж, тогда оставайтесь до моего отъезда завтра». Я принял приглашение с удовольствием, как приказание: здесь было так чудесно в отличие от Петербурга с его каменными стенами и булыжными мостовыми. Представьте себе Оливу и Сопот, соединенные в один огромный парк с дюжиной дворцов, террасами, фонтанами и прудами, тенистыми аллеями и лужайками, ведущими к озеру, голубое небо и жаркое солнце над морем деревьев, за которыми находится настоящее море с чайками и парусниками. Я давно не чувствовал себя так хорошо»19.
Не напоминает ли это сладостную встречу доброй матушки-королевы и сорокачетырехлетнего сына-посла? Такое искреннее выражение радости и прекрасного настроения не найти во всей обильной переписке Бисмарка, с которой мне довелось ознакомиться. Открыл ли он в императрице домашнюю, материнскую любовь? Известно немало случаев спонтанного возникновения чувств близости между представителями разных поколений, и перед нами – один из них. В начале июля он снова виделся с вдовствующей царицей и проводил ее на корабль, отходивший в Штеттин и увозивший ее на каникулы в Пруссию. «Меня словно заколдовали, когда мы сопровождали высочайшую особу в Петергоф на борт корабля, – писал Бисмарк Иоганне, – и я едва переборол искушение, без багажа и в униформе, отправиться вместе с ней»20. Если судить по переписке, то, похоже, царская семья питала особое расположение к блистательному прусскому послу. Бисмарк утверждал в письме своему коллеге, что он был единственным дипломатом, допущенным в семейство императора и имевшим «статус посла при семье»21.
В Европе же назревала война между Францией и Австрией. В апреле 1859 года австрийцы бездумно двинулись в ловушку, приготовленную для них Наполеоном III и Кавуром. 20 апреля принц-регент отдал приказ о мобилизации трех прусских армейских корпусов и всей регулярной кавалерии в преддверии всеобщей европейской войны22. 23 апреля Австрия направила ультиматум Пьемонту-Сардинии с требованием разоружиться, что правительство категорически отвергло 26 апреля23. На следующий день Франц Иосиф, выступая на совете, призвал к войне «во имя чести и долга»24. Насколько разумно вел себя император, можно судить по письму Одо Рассела к матери, леди Уильям, составленному еще в 1852 году:
...
«Маленького императора распирает отвага и упрямство! Он без ума от смотров и устраивает их, объявляя за четыре часа, каждую неделю, а то и по два раза на неделе – к негодованию и возмущению солдат и офицеров, особенно зимой. Его величество настояли на проведении смотра даже в сильный мороз – ему советовали не делать этого, но безрезультатно: смотр состоялся. Два кирасира упали с лошадей и сломали шеи! Камарилья скрыла этот факт, боясь испортить настроение его величеству. Во время смотра anstndiger Weisswaschwarenhandlungscommis (работник прачечной при пороховом складе), восхитившись зрелищем, проходил мимо курящего императора и забыл снять шляпу – его подвергли аресту и заточили в темницу, приговорив к двум годам schweren Kerker (строгого тюремного заключения). Это тоже вызвало недовольство»25.
Немудрено, что самонадеянный и самовластный монарх 29 апреля объявил войну Пьемонту, совершив акт агрессии, незамедлительно вызвавший подписание франко-пьемонтского договора об альянсе. Австрийцы имели опыт ведения такой войны в прошлом, успешно разгромив пьемонтское войско в 1848 году. Но теперь австрийскими силами в Северной Италии командовали не Радецкий и Виндишгрец. Новое военное командование действовало нерешительно, замедленно и к тому же попало под проливные дожди в долине реки По. Французская армия, хотя и уступала в численности, имела доступ к железным дорогам и оказалась в нужном месте раньше, чем ожидали австрийцы. Джузеппе Гарибальди организовал партизанский отряд «Альпийских охотников», нападавших на австрийские фланги. Наполеон III должен был действовать быстро: Австрия как ведущая германская держава могла мобилизовать Пруссию и весь союз германских государств. Он знал и то, что русские не придут на помощь Францу Иосифу и его правительству, которые предали их в 1854 году. 20 мая французская пехота и сардинская кавалерия нанесли поражение австрийской армии у Монтебелло, а через неделю «Альпийские охотники» Гарибальди сокрушили австрийцев под Сан-Фермо и освободили Комо. Затем последовали два крупных и кровопролитных сражения: 4 июня – у Мадженты и 21–24 июня – под Сольферино. В обеих битвах австрийские войска, которыми командовал сам император Франц Иосиф, были разгромлены франко-пьемонтской армией Наполеона III, но потери были настолько велики, что швейцарец Анри Дюнан решил создать международное общество «Красный Крест».
К тому времени началась революция в Венгрии. Император понимал, что подавить мятежных мадьяр ему не помогут ни русские, ни хорваты, и у него не оставалось иного выбора, кроме как договариваться о мире. 11 июля 1859 года он встретился с Наполеоном III в Виллафранке-ди-Вероне в Венето. Наполеон III тоже был в трудном положении: он уже не мог держать под контролем итальянские проблемы. Первоначально Франция планировала отобрать у Австрии и передать Пьемонту две северные итальянские провинции Ломбардию и Венецию, отошедшие к Австрии в 1815 году. Итогом сражений стало то, что франко-пьемонтский альянс получил Ломбардию, но Венеция осталась в распоряжении австрийцев26.
Кавур ушел с поста премьер-министра Пьемонта, протестуя против предательства Наполеона, но в самой Италии националисты вовсе не собирались позволять великим державам определять характер их славной революции. По договору, подписанному в Виллафранке, предусматривалось предоставить Наполеону III право великодушно возвратить австрийские вотчины – великое герцогство Тоскана и герцогства Парма и Модена – их законным сюзеренам. Однако Германский союз и Пруссия могли вмешаться и все испортить. Наполеон III должен был поспешать с войной.
Бисмарк с самого начала считал, что Пруссии следовало бы занимать нейтральную позицию в австро-французской войне. «Мы не настолько богаты, чтобы тратиться на войны, которые нам ничего не дают», – писал он брату27. 12 мая Бисмарк направил пространное послание новому министру иностранных дел графу Адольфу фон Шлейницу (1807–1885), доказывая, что союз всегда будет противиться Пруссии:
...
«После временных колебаний менталитет среднего государства возвращается в прежнее состояние с упорством магнитной стрелки, и эта тенденция является результатом не произвола отдельных личностей или обстоятельств, а характера федеральных отношений малых государств. В рамках существующих федеральных договоров мы не можем исправить это положение каким-либо удовлетворительным и долговременным образом… В наших отношениях с союзом я усматриваю немощь Пруссии, которую нам рано или поздно придется излечивать с помощью ferro et igni ».
Выражение «железом и огнем» предваряло более известное изречение «кровью и железом», которое он использовал в своем первом выступлении в роли министра-президента в сентябре 1862 года. Но смысловое содержание от этого не изменилось. Пруссия должна создавать себя «железом и огнем», она должна воспользоваться нынешним отчаянным положением Австрии для того, чтобы переконструировать союз, отправить войска к австрийской границе и припугнуть малые государства, пока идет Франко-австрийская война28.
14 июня 1859 года Мольтке созвал совещание всех командующих корпусами и начальников штабов для рассмотрения неожиданной и удивительной проблемы. Объявленная в Пруссии мобилизация провалилась. Бухольц отмечал:
...
«Ко времени перемирия между Францией и Австрией завершилась мобилизация двух третей прусской армии, но она была бесполезна. Что же случилось? Когда появился приказ о мобилизации, лишь половина корпусов располагала возможностями для ее проведения. В полной готовности был железнодорожный транспорт, по всей Германии вдоль трех основных железнодорожных линий были складированы все необходимые военные материалы – боеприпасы, продовольствие и другое военное имущество. Однако в первую очередь обслуживались гражданские нужды, войска продвигались к Рейну по-черепашьи… Мольтке был поражен»29.
Последовала полная реорганизация генерального штаба. Появился железнодорожный департамент и мобилизационное бюро.
Мольтке писал своему другу Пертесу:
...
«Нашему прусскому национальному чувству гордости наносится глубокая рана. Нами потрачено слишком много усилий, чтобы бездействовать, но мы ничего не можем сделать без Англии, поскольку рисков будет больше, чем вознаграждений. Перед нами ужасная дилемма. Она проистекает из нашей робости, колебаний и нерешительности»30.
И в этих словах много правды. Ни регент, ни его министр иностранных дел фон Шлейниц просто не знали, что делать. Бисмарк – с присущей ему вольностью – намечал такую политику, которая была направлена против Австрии и носила сугубо «германский» характер, ориентированный на альянс с немецким национальным движением, воодушевленным итальянским примером. Вильгельм, принц-регент, не мог ни поступиться своей приверженностью Габсбургам, ни воспользоваться благоприятным моментом для «сотворения» Германии.
Техника политического влияния Бисмарка, как мы это уже видели в предыдущей главе, сводилась к написанию критических посланий генерал-адъютанту короля Леопольду фон Герлаху, который мог передать их содержание монарху во время ежедневных встреч за чашкой кофе с пирожными. Бисмарк набирал политический вес, и министр-президент Мантейфель даже подумывал над тем, чтобы назначить его министром иностранных дел в 1856 году. Сейчас складывалась такая международная ситуация, которая полностью соответствовала наступательному стилю политики Бисмарка. Вновь воспламенилась «национальная» проблема, и ставки возросли. Бисмарк по-прежнему корпел над письмами, но, как он и сам признавал в мемуарах, послания стали «абсолютно бесполезными»: «Единственным результатом моих усилий было… зарождение сомнений в правильности моих докладов»31.
По случайному стечению обстоятельств Бисмарк в июле вернулся в Германию, на этот раз совершенно больным человеком – следствие неверного лечения русским доктором его поврежденного колена32. Он стремился на родину, и недуг послужил серьезным основанием. Отравление возбуждало в нем ярость, о чем Бисмарк писал из Берлина брату в августе 1859 года: «Я довел себя до бешенства, три дня не спал и почти ничего не ел»33. Позже в этом же году Бисмарк пытался поправить свое здоровье в поместье давнего юнкерского приятеля Александра фон Белова-Гогендорфа. Белов с тревогой отметил опасный и разрушительный характер приступов ярости Бисмарка. 7 декабря 1859 года он писал Морицу фон Бланкенбургу: Бисмарк одержим образами врагов и «экстремистскими мыслями и чувствами». Исцеление – очень простое и истинно христианское: «Возлюби врага своего». Это – самый верный путь к тому, чтобы снять «нарастающее напряжение в занемогшем теле, и наилучшее снадобье против дурных видений и мыслей ( Vorstellungen), которые могут довести его до могилы»34.
Это был здравый совет. Больная душа Бисмарка нуждалась в исцелении, и для его юнкерских друзей оно в любой момент могло быть получено покаянием, милостью и любовью Божьей. Но трагедия Бисмарка, да и Германии тоже, и заключалась в том, что он за всю жизнь так и не понял, что значит быть истинным христианином, не осознал значения такой добродетели, как смирение, и не увидел взаимосвязи между больным телом и больной душой.
Доктора в Берлине сказали Бисмарку о его «нарастающей ипохондрии», вызываемой тревогами по поводу берлинского образа жизни и расходов на регулярные обеденные застолья с участием по меньшей мере девяти человек, содержание тринадцати слуг и двух секретарей. Ему мерещилось, что его «обкрадывают на каждом шагу»35. Я думаю, что он впервые использовал слово «ипохондрия» в отношении собственной персоны в письме брату, а со временем оно замелькало и в книгах о нем. «Бездомность», отсутствие нормальной семейной жизни, лишь добавляла ему нервозности.Похоже, в это время ему действительно было безрадостно. В конце сентября Бисмарк писал сестре:
...
«Наговорившись до хрипоты с кустарями и государственными деятелями, я чуть не сошел с ума от раздражения, чувства голода и перегруженности… Левая нога все еще слабая, опухает, когда я хожу, нервы никуда не годятся после отравления йодом. Сплю я плохо, лежу пластом, озлобленный и ожесточенный, не знаю – почему»36.
Причины известны. Принц-регент отказался и от его советов, и от него самого. Не раз Бисмарк впадал в депрессию, когда его монарший хозяин выказывал неудовольствие или не уделял ему достаточного внимания. Обычно даже малейший знак внимания поднимал ему настроение. Так и случилось, когда он получил приглашение сопровождать царя, приехавшего в Польшу поохотиться в своих обширных польских угодьях. Бисмарк, сразу же воспрянув духом, писал Иоганне из Лазенковского дворца в Варшаве 19 октября:
...
«Весь день с его величеством царем Александром II… Могу сказать лишь, что чувствую себя превосходно. Завтрак с императором, затем аудиенция, столь же великодушная, как и в Петербурге. Визиты, обеды с его величеством, вечером – театр, по-настоящему хороший балет, ложи заполнены очаровательными женщинами. Я прекрасно высыпаюсь. Утром на столе меня ждет чай, я выпиваю его и отправляюсь по делам. Вышеупомянутый чай состоит не только из чая, а в него входят также кофе, шесть яиц, три вида мяса, разная выпечка и бутылка бордо… полный комфорт»37.
Признание их величествами и обильная еда творили чудеса с самочувствием Бисмарка.
23 и 24 октября в Бреслау проходили российско-прусские переговоры на уровне монархов. В них участвовал и Роон, приглашенный принцем-регентом и встретивший там Отто Бисмарка, «выразившего серьезные сомнения по поводу всего мероприятия»38. Возможно, он имел в виду военную реформу. В письме Роона жене Анне от 24 октября на этот счет нет ясных указаний, но в следующем послании, отправленном через несколько дней, он жалуется на то, что проект армейской реформы приносит ему только головную боль:
...
«Сколько зависти и превратного толкования исходит даже от таких людей, как Штейнмец, кого я искренне уважаю и ценю. Между нами произошла болезненно эмоциональная сцена. Мы расстались мирно, но чувствовал себя я скверно, и мне понадобилось немало времени для того, чтобы овладеть собой»39.
Роон действительно оказался в сложном положении. Ему поручили возглавить комиссию как заместителю военного министра, в которой он оказался самым младшим офицером – немаловажное обстоятельство в любой военной организации. Отставной генерал Генрих фон Брандт (1789–1868), один из выдающихся военных теоретиков и представителей предыдущего поколения умудренных полководцев, то есть сражавшихся в Наполеоновских войнах, отнесся к новой роли Роона с позиций человека, «все это уже видевшего». Он написал классический труд по тактике, который только что переиздали в 1859 году и перевели на несколько иностранных языков40. Его самым способным и преданным учеником был майор Альбрехт фон Штош (ему исполнился сорок один год), впоследствии, как и Шлейниц, ставший «врагом» Бисмарка. Ученик и учитель, его бывший командующий, вели активную и достаточно откровенную переписку, представляющую теперь большой исторический интерес. Генерал фон Брандт писал Штошу 19 октября 1859 года:
...
«Повсюду прежняя безалаберщина. Начали наконец открыто говорить о глупостях, которые вдруг вскрываются, и отсутствии информации об организации армии. Позвали Роона поразмыслить над проектом, с которым он выступил в Позене (Познани). Но ему предстоит решить трудную проблему. От него хотят, чтобы он залатал дыры там, где надо полностью разрушить старую систему. Да поможет ему Бог. Армия сейчас находится в состоянии линьки. Невероятные трудности ожидают того, кто решится перестроить армию так, чтобы она могла эффективно действовать»41.
Комиссия провела несколько трудных совещаний, в которых участвовали фельдмаршалы и полные генералы. В их числе был и старина «папа Врангель», фельдмаршал граф Фридрих фон Врангель: ему исполнилось семьдесят пять лет, но он не вышел в отставку, в отличие от более молодого коллеги фон Брандта. Именно фельдмаршал, судя по письму Роона, говорил ему после одного из совещаний, что он непременно должен стать военным министром. Роон писал Анне 4 ноября: