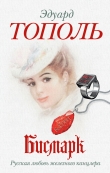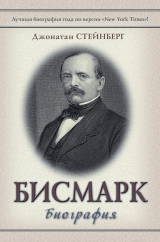
Текст книги "Бисмарк: Биография"
Автор книги: Джонатан Стейнберг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
У нас нет документальных свидетельств семейного монаршего разговора, но мы располагаем повествованием самого Бисмарка о дальнейшем развитии событий. Он, по своему обыкновению, не признался в недомыслии и даже не намекнул на то, что всего-навсего блефовал. Понимая, что ему необходимо незамедлительно встретиться с королем, Бисмарк предпринял неординарные действия: решил попасть на поезд до того, как он приедет в Берлин. Вот его рассказ, исполненный великолепным мастером пера:
...
«Мне не сразу удалось узнать у неразговорчивых кондукторов следовавшего по обычному расписанию поезда, в каком вагоне едет король; он сидел совершенно один в простом купе первого класса. Под влиянием свидания с супругой он был явно в подавленном настроении, и когда я попросил у него позволения изложить события, происшедшие в его отсутствие, он прервал меня словами: «Я предвижу совершенно ясно, чем все это кончится. На Оперной площади, под моими окнами, отрубят голову сперва вам, а несколько позже и мне». Я догадался (и впоследствии мне это подтвердили свидетели), что в течение восьмидневного пребывания в Бадене его обрабатывали вариациями на тему: Полиньяк, Страффорд, Людовик XVI. Когда он умолк, я отвечал коротко: « Et aprs, Sire ?» («А затем, государь?») «Что же, aprs нас не будет в живых», – возразил король. «Да, – продолжал я, – нас не будет в живых, но ведь мы все равно умрем рано или поздно; а разве может быть более достойная смерть? Сам я умру за дело моего короля, а ваше величество запечатлеете своею кровью ваши Божьей милостью королевские права… Ваше величество стоите перед необходимостью бороться, вы не можете капитулировать, вы должны воспротивиться насилию, хотя бы это и было связано с опасностью для жизни». Чем долее я говорил в этом духе, тем более оживлялся король, тем более входил он в роль офицера, борющегося с оружием в руках за королевскую власть и отечество» [40] 130.
Кризис миновал, Бисмарк остался на своем месте. Через два дня к нему пришел Курд фон Шлёцер, его бывший первый секретарь в прусском посольстве в Санкт-Петербурге. Шлёцер вначале конфликтовал с Бисмарком в Петербурге, но в конце концов сумел найти к нему подходы и наладить взаимопонимание. Молодой дипломат сразу же разобрался в особенностях натуры шефа, о чем и писал приятелю: «Он влюблен в политику. Все в нем бурлит и жаждет признания и статуса»131. Они вместе отужинали, и вечер получился праздничный. Шлёцер записал в дневнике:
...
«Мы выпили уйму шампанского, которое развязало его и без того не зажатый язык. Ему нравится всем пудрить мозги. Самолично или с помощью других лиц намеревается убедить короля согласиться на двухгодичную службу. Реакцию в палате господ он обрисовал в таких черных красках, что, по его словам, пэры озабочены новыми условиями, которые он собирается предложить им в случае необходимости. Джентльменам во второй палате он показался несгибаемым, но в следующий раз он проявит желание договариваться. Наконец, он намерен заставить германские кабинеты поверить в то, что королю трудно ограничить проявления либерализма Кавура в новом министре. Никто не может отрицать того, что пока на всех произвели впечатление его сила духа и блистательность. C’est un homme! [41] »132
В рассказе Шлёцера Бисмарк предстает отпетым прохвостом, исполняющим разные роли в разных сценах. Он нуждался в такой аудитории, состоящей из людей типа Шлёцера, Дизраэли и других умников и циников, кому он мог бы поведать правду, рассказать о том, как надул того или иного человека. Лживость и честность, доброта и мстительность, гигантская энергия и склонность к ипохондрии, обаяние и холодность, искренность и фальшивость – все эти противоречивые качества удивительным образом сочетались и постоянно менялись местами в поведении Бисмарка. Но одно свойство его натуры всегда оставалось неизменным. Любой человек, сказавший что-то не так или сделавший что-то не так, по мнению Бисмарка, тут же оказывался в опале. Умный и обаятельный Курт фон Шлёцер, опрометчиво назвавший его «пашой», был незамедлительно отправлен из Берлина секретарем в Рим (слава Богу, не в Сибирь). Как с грустью заметил Шлёцер: «“Тангейзер”, конец второго действия. Отто поет: “В Рим, ты грешник”» [42] 133.
7. «Я побил их всех! Всех!»
В июне 1862 года Отто фон Бисмарк на приеме в русской миссии в Лондоне рассказал Бенджамину Дизраэли, российскому послу барону Бруннову и австрийскому посланнику Фицтуму о том, что сделает, когда придет к власти. Спустя девять лет и почти в тот же день баронесса Хильдегард Гуго фон Шпитцемберг, жена вюртембергского министра, наблюдала в Берлине парад победы. За это время Бисмарк сделал гораздо больше, чем обещал ошеломленным слушателям в посольском салоне в Лондоне.
«Революцию», совершенную Бисмарком за девять лет, можно считать величайшим дипломатическим и политическим достижением, в сравнении с которым меркнут свершения любого лидера, жившего в предыдущие два столетия, в силу одного немаловажного обстоятельства. Он всего достиг, не командуя войсками, не опираясь на поддержку парламентского большинства и массовых движений, не имея опыта государственного управления и к тому же постоянно наталкиваясь на неприязнь, которую вызывали в обществе его имя и репутация. Перед нами яркий пример свершений политического гения особого типа, в котором прекрасно уживаются противоположные черты человеческой натуры: грубая, обезоруживающая искренность и циничное плутовство прощелыги. Его исключительная самоуверенность неизменно сопровождалась приступами ярости и ипохондрии, болезнями, ощущениями беспредметной тревоги и иррациональными поступками.
Бисмарк создал систему управления, основанную на подчинении своей воли других людей: успешно манипулировал королем Вильгельмом I, играя в королевской семье роль посредника между отцом и сыном, мужем и женой, тестем и невесткой. Такой тип доминирования Рассел назвал «демоническим». Бисмарк подмял под себя всех генералов, кроме Мольтке, с которым он поддерживал отношения «взаимного респекта». Он подорвал и разрушил власть суверенных германских князей, аннулировав несколько государств, в том числе и освященное веками королевство. Ему удавалось удерживать от вмешательства в гражданскую войну в Германии «фланговые» державы – царскую Россию, Францию и Великобританию, вынуждая их выбирать между двух зол: признать его лидерство или испытать позорную участь Наполеона III. Бисмарк прибегал к демократии, когда видел в этом необходимость, вел переговоры с революционерами, в том числе и с Лассалем, социалистом, который мог составить ему интеллектуальную конкуренцию. Он подчинил себе всех министров кабинета, относясь к ним с монаршим пренебрежением и очерняя репутацию, когда возникала потребность избавиться от того или иного человека. Бисмарк с легкостью обставлял все парламентские партии, включая и самые влиятельные, без колебаний предал Kreuzzeitungspartei– партию, группировавшуюся вокруг еженедельника «Кройццайтунг», которая привела его к власти. К 1870 году даже самые близкие друзья Роон, Мориц фон Бланкенбург и Ганс фон Клейст-Ретцов поняли, что они помогли прийти к власти «демону».
Уже в 1864 году Клеменс Теодор Пертес предупреждал Роона о беспринципности Бисмарка. Пертес возмущался тем, как газеты «Кройццайтунг» и «Норддойче альгемайне цайтунг» «насмехаются, глумятся и оглупляют князей и всех тех, кто – с полным основанием – считает их своими законными сюзеренами. Если «Кройццайтунг», уподобляясь революционерам, пренебрегает правосудием, поскольку ей не нравятся люди, которые его вершат, то «Норддойче альгемайне цайтунг» в серии статей, которые она начала печатать с 16 апреля явно с одобрения властей, провозглашает революционные принципы suffrage universel[43] »1.
Роон понимал, кого возвел на пост министра-президента, желая уберечь корону от посягательств на ее суверенность. 27 июля он отправил ответ своему другу. Это письмо я цитировал в первой главе, но оно заслуживает второго прочтения2:
...
«Это совершенно необыкновенный человек. Я могу ему помочь, оказать поддержку, поправить его там или здесь, если надо, но он незаменим. Да, он не занял бы это место без моего содействия, и это исторический факт, однако все равно он сам по себе незаурядная личность… Верно выстроить параллелограмм сил, имея только одну диагональ, и оценить природу и весомость сил действенных, чего в точности знать не дано никому, – на такое способен лишь исторический гений»3.
Первый гамбит Бисмарка – о нем он не раз говорил Роону и упоминал за шампанским Шлейницу – заключался в том, чтобы «убедить короля согласиться на двухлетний срок службы». Если он преодолеет этот барьер, то ему будет легче идти дальше. С чисто военной точки зрения особой необходимости в трехлетней службе не было, и комиссия из пятнадцати генералов (включая Мольтке) в апреле 1862 года согласилась, что можно служить и два с половиной, и даже два года4.
10 октября Роон представил компромиссное предложение, разрешающее тем, у кого есть средства, покупать освобождение от обязательства служить третий год. Выручка пойдет на привлечение добровольцев. План Роона предусматривал также, что численность армии должна составлять один процент населения, и устанавливал фиксированную сумму затрат на одного солдата5. Его законопроект должен был расколоть либералов по вопросу равенства призывников и в то же время ограничить амбиции парламента четкими рамками численности армии и расходов на ее содержание.
9 ноября 1862 года граф Адольф фон Клейст (1793–1866) писал с некоторой тревогой Гансу фон Клейсту-Ретцову, другу Бисмарка:
...
«Уже четыре дня обсуждаются слухи о каких-то договоренностях и уступках палате депутатов. Кто-то собирается пообещать, что обязательство трехлетней службы утратит силу через пять лет в обмен на согласие с остальной частью программы военной реорганизации… Хейдт будто бы готов к переговорам… Только вы можете воздействовать на Отто. Вы должны быть здесь, чтобы предотвратить опрометчивые решения, потом будет поздно»6.
Граф напрасно тревожился. Затея провалилась. Вильгельму I план не понравился, потому что нарушал принцип всеобщей воинской повинности, а Мантейфель, за которым всегда оставалось последнее слово в военных делах вследствие близости к королю, отверг его из-за того, что он ограничивал руководящую роль короны. Как Мантейфель выразился в письме Роону, «игру надо заканчивать»7. Даже ландтаг отклонил план большинством голосов: 150 против 17. Бисмарк, для которого все средства были хороши, понял, что обойти Мантейфеля сможет только в том случае, если будет проявлять еще больше жесткости и непримиримости, чем генерал. Он отозвал все компромиссные предложения, решив править «железным кулаком»8. Самое благодатное поле для такой деятельности предоставляла сфера государственной службы, которая понималась в Германии гораздо шире, чем в англоязычном мире: в нее входили судьи, асессоры, референдарии, университетские профессора, учителя грамматических школ, все служащие провинциальных администраций, государственных монополий и центральных государственных учреждений. Это была огромная, нередко либерально настроенная и по преимуществу чиновничья масса людей, которых теперь собрался приструнить Бисмарк. 23 ноября он писал принцу Генриху VII Рёйссу:
...
«У себя дома мы намечаем зауздать госслужащих всех категорий… Я буду проявлять покладистость в отношениях с палатами, но в сфере государственной службы намерен навести дисциплину любой ценой»9.
10 декабря 1862 года граф Фриц Эйленбург, министр внутренних дел, предписал всем государственным служащим Пруссии быть «поборниками конституционных прав короны, проявлять единство духа и воли, решимость и энергию… Престиж, которым наделяет вас ваше служебное положение, вы не должны использовать для содействия политическим движениям, противостоящим взглядам и воле правительства»10.
Должность, в которую вступил Бисмарк 23 сентября 1862 года, имела необычное наименование – министра-президента. Она появилась в марте 1849 года на волне смятений революции 1848 года и внезапно возникшей потребности в кабинете, способном иметь дело с законодателями11. Хельма Брунк в своем исследовании прусской государственности показывает, что даже в 1862 году еще не существовало четкой конституционной базы, которая бы определяла права и обязанности министров, да и всего кабинета. Не предусматривался такой орган исполнительной власти и конституцией 1850 года. Лишь в 1852 году предшественник Бисмарка Отто фон Мантейфель постановлением от 8 сентября утвердил первенство министра-президента над другими правительственными министрами. Запрет обращаться к королю напрямую и без уведомления министра-президента позволил Эрнсту Хуберу, автору многотомного труда об истории конституций, приравнять пост министра-президента к должности британского премьер-министра12. В то же время все министры оставались служащими короля, и он по-прежнему имел право наставлять их. В 1890 году император Вильгельм II в полной мере воспользовался этим правом, заставив Бисмарка подать в отставку, хотя тот и возражал, ссылаясь на то, что правительственное постановление 1852 года запрещает вмешательство монарха. 24 сентября 1862 года Бисмарк просто пришел в министерство и объяснил собравшимся обстоятельства своего назначения. Мы позволим себе процитировать запись из протокола:
...
«На собрании государственного министерства сегодня председательствовал государственный министр фон Бисмарк-Шёнхаузен, доложивший о переговорах, предшествовавших его назначению государственным министром, и выразивший также свои сожаления по поводу ухода двух государственных министров фон Бернсторфа и фон дер Хейдта»13.
Не кабинет выбрал Бисмарка на пост министра-президента, назначение министров оставалось прерогативой короля. И Бисмарк, обретая все большее могущество и влияние, никогда не пользовался правом определять состав правительства.
7 октября Бисмарк писал жене о том, что он с трудом привыкает к неудобствам жизни «в аквариуме» и «каждый день обедает у милейших Роонов»14. Можно предположить, что новый министр-президент каждый вечер без какой-либо охраны ходил пешком из своего офиса в апартаменты Роонов. Судя по описанию Пфланце, рабочая обстановка, в которой трудился министр-президент, была весьма скромная:
...
«В 1862 году он въехал в узкое двухэтажное здание на Вильгельмштрассе, 76, где размещалось министерство иностранных дел. Построенное в начале XVIII века как частное жилье, это было самое непритязательное сооружение на этой улице и снаружи и внутри. Бисмарк часто высмеивал его примитивность, но ничего не предпринимал для того, чтобы внести хоть какие-то усовершенствования. На первом этаже располагались офисы и кабинки советников и клерков министерства иностранных дел, а на втором этаже помещались приемные, кабинет министра и покои семьи Бисмарка. За домом находился огромный сад, заросший вековыми деревьями, в тени которых любил прогуливаться канцлер. Посетителей всегда поражала простота всей обстановки. У дверей не стоял привратник в форменном одеянии и с «повадками цербера». «Требовалось просто позвонить, как в домах обыкновенных смертных». В приемных не ходили вальяжно лакеи в расшитых золотом и серебром ливреях, как это было принято у дипломатов и министров. Бисмарк принимал посетителей в простеньком кабинете средних размеров, в котором почти не было мебели, кроме внушительного письменного стола из красного дерева, занимавшего значительную часть пространства. “Ни один провинциальный префект во Франции не согласился бы работать и жить в таких убогих условиях”»15.
Скромный и непритязательный образ жизни Бисмарки вели до конца своих дней. Гости поражались простоте и бесхитростности их домашней обстановки. Бисмарк никогда не стремился к показной роскоши и богатству. Всю жизнь ему досаждала нехватка денег, он постоянно тревожился о расходах и старался тратить на себя как можно меньше. Иоганна полностью разделяла его пуританские привычки. Гольштейн в мемуарах не очень почтительно написал: «Княгиня Бисмарк (Иоганна), хотя и выглядела всю жизнь как повариха, понятия не имела о кулинарии и совершенно не умела принимать и потчевать гостей»16.
Иммануэль Гегель, служивший в министерстве иностранных дел, так описывал свое первое впечатление о Бисмарке:
...
«Всем нам показалось, что он смотрит на нас с недоверием, подозревая, что мы куплены или подпали под чье-то влияние. Убедившись, что мы, сотрудники секретариата, честные люди и благонравные пруссаки, он стал относиться к нам более уважительно. Тем не менее мы оставались пешками, исполнявшими его волю. Ни о каких доброжелательных личных контактах и речи быть не могло… Когда бы я ни приходил к нему с докладом, я сжимал в комок все мои умственные силы, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Опасно было появляться перед ним в состоянии расслабленности или самоуспокоенности. Это могло кончиться тем, что тебя либо проигнорируют, либо раздавят»17.
Такое отношение к подчиненным с годами тоже не изменилось. Сам Бисмарк работал всегда на пределе и того же ожидал от сотрудников. Ни клерки, ни правительственные служащие не могли рассчитывать на благодарности или поощрения, и практически никто их и не удостоился. В 1884 году Лотар Бухер с горечью заметил: «Я служил под его руководством двадцать лет, и только один раз (во время конституционного конфликта) он отозвался положительно о том, что я написал (газетную статью), хотя у меня было немало и более удачных выступлений»18. Тем не менее, несмотря на холодность Бисмарка, ближайшие сотрудники его боготворили. Альбрехт фон Штош сообщал другу фон Норману после первого визита в министерство иностранных дел:
...
«Я прибыл между одиннадцатью и двенадцатью. Мне сказали, что он все еще спит. Он работал всю ночь до утра. Господа в министерстве иностранных дел говорят о своем шефе с таким благоговением, как верующие о пророке. Это кажется нелепым. Через час он меня принял. На нем был домашний халат, но он источал любезность и обаяние, когда узнал, от кого я пришел»19.
Неприветлив был Бисмарк и в отношениях с коллегами-министрами. В своих мемуарах он посвятил целую главу членам первого кабинета, и почти никто из них не избежал нелестной оценки. Условно положительного отзыва удостоился лишь граф Фриц Эйленбург (1815–1881), прослуживший с ним более четырнадцати лет:
...
«Эйленбург был ленив и склонен к удовольствиям, но отличался здравомыслием и решимостью, и если ему, как министру внутренних дел, пришлось бы идти на прорыв, необходимость защищаться и отвечать на удары заставила бы его активизироваться… Когда он был настроен на работу, из него получался способный коадъютор; он всегда вел себя как благовоспитанный джентльмен, хотя и не лишенный чувств зависти и обидчивости по отношению ко мне. Если от него требовалось прилагать усилия более обыкновенного длительные, напряженные и требующие самоотречения, то у него начиналось нервное расстройство»20.
Еще одной неудачной чертой характера Эйленбурга была его терпимость по отношению к евреям-либералам. Бисмарк писал Роону 1 марта 1863 года:
...
«Эйленбург не желает сжигать все мосты… Ной, Вольфсхайм, Якоби и другие такие же мерзавцы с крайней плотью или без оной предадут его и бросят в случае беды. Вы, я и Бодельшвинг по уши втянуты в это дело, и я не хочу терпеть фиаско из-за нашей немощи»21.
Все другие министры получили «неуды». Министр торговли Иценплиц (граф Генрих Фридрих Август фон Иценплиц [1799–1883]) – «непригоден… безынициативен»; министр земледелия фон Зельхов (Вернер Лудольф Эрдман фон Зельхов [1806–1884]), прослуживший членом кабинета десять лет, – «не соответствовал занимаемой должности»; министр по делам религии Генрих фон Мюлер (1813–1874) – «подпал под влияние энергичной, умной и, когда надо, обаятельной жены»; министр юстиции граф Леопольд цур Липпе-Бистерфельд-Вейссенфельд (1815–1889) – «своим непомерным высокомерием… оскорблял парламент и коллег»22. Бисмарк упускает тот факт, что он сам же и принес графа цур Липпе, самого реакционного (и это о чем-то говорит!) из членов «конфликтного» правительства в жертву либералам ландтага, когда в 1866 году решил развернуться на сто восемьдесят градусов и заключить с ними мир. Граф цур Липпе не мог простить такого предательства и до конца жизни с энтузиазмом исполнял роль яростного противника своего бывшего шефа. Министров, работавших с Бисмарком, вне зависимости от их способностей и пользы, с полным основанием можно было бы назвать коллаборационистами, к которым тоже подходит известная рекомендация «после использования выбросить».
Во внешних делах Бисмарк начал с австрийского посла графа Каройи, с которым 4 декабря 1862 года у него состоялся откровенный разговор. В мемуарах он написал:
...
«Я открыл свои карты графу Каройи, с которым у меня сложились добрые отношения. Я ему сказал: “Наши отношения должны стать лучше или хуже, чем сейчас. Я готов совместными усилиями их улучшать. Если этого не удастся сделать из-за вашего нежелания, то не рассчитывайте на то, что мы будем придерживаться дружеской фразеологии союзного сейма. Вам придется договариваться с нами, как с одной из великих держав Европы”»23.
Австрийский дипломат, безусловно, передал мнение Бисмарка в свое министерство иностранных дел, для которого, надо сказать, не была неожиданностью его тактика доброжелательных угроз.
14 января 1863 года открылась сессия нового ландтага, и либералы обвинили Бисмарка в антиконституционных методах правления. Он отвечал в своей обычной конфронтационной манере:
...
«Какие бы права вам ни давала конституция, вы их получите сполна; если вы хотите больше, то мы вам в этом откажем… Миссия прусской монархии не закончена. Она еще не готова к тому, чтобы превратиться в чисто декоративное украшение вашей конституционной конструкции или в мертвый винтик механизма парламентского режима»24.
Бисмарк заявил, что в случае конфликта между короной и парламентом – возможность такой ситуации не была учтена в конституции – остаточная привилегия власти сохраняется за королем. Соответственно, корона по-прежнему имеет право заниматься делами государства, собирать налоги и тратить деньги, если даже законодатели не одобряют ее решения. Этот парадокс, названный «теорией конституционной лазейки» или по-немецки Lckentheorie, Бисмарк с успехом использовал, предпринимая свои фактически антиконституционные действия.
Через неделю он взбудоражил «узкий совет» союзного сейма, заставив Узедома зачитать заявление, провозглашающее, что прусское правительство поддерживает идею «германского парламента»:
...
«Германская нация вправе иметь компетентный представительный орган, способный воздействовать на решение общих задач и избранный непосредственно народами конфедеративных государств в соответствии с численностью населения»25.
В данном случае Бисмарк впервые призвал на свою сторону «народ» в борьбе против суверенных германских князей – еще один пример того, как легко он поступался принципами ради достижения целей (такого сорта «гибкость» он не прощал своим оппонентам). Правители малых германских государств больше всего на свете боялись всеобщего избирательного права, поскольку оно лишало их легитимности. Если дать народу право голоса, то он вряд ли выступит за сохранение верховенства князей старшей линии Рёйссов или Шварцбург-Зондерхаузенов, к которым подданные относились в лучшем случае индифферентно, если не враждебно. Даже такие монолитные и сильные государства, как католическая Бавария и Саксонское королевство, не смогут противостоять стремлению немецкой нации к единству. Как мы заметили по переписке Бисмарка с Леопольдом фон Герлахом, Бисмарк понял, что «народ» вполне можно уговорить голосовать за короля, а не за обнаглевший средний класс или за напыщенных князьков.
Однако другой народ спровоцировал первый для Бисмарка международный кризис. 21 января 1863 года в российской Польше вспыхнуло восстание против русского господства. Бисмарк незамедлительно распорядился мобилизовать четыре армейских корпуса в прусской Польше, хотя поляки, верноподданные короля Пруссии, сохраняли спокойствие. Бисмарк, знавший русский менталитет и главных действующих лиц не понаслышке, понимал, что партия «реформаторов» при дворе поддерживает конституционные права поляков. Как он писал потом, «обыкновенный здравый смысл» подсказывал: надо помогать реакционерам и не допустить, чтобы «Российская империя попала в руки наших врагов, которых мы можем обнаружить в поляках, ополяченных русских и, вероятно, во французах»26. Австрийцы, как и пруссаки, владевшие значительной частью исторической Польши, вместе с британцами и французами подготовили предложения о новом конституционном устройстве для поляков. Бисмарк, всегда готовый насолить Австрии, без малейших колебаний выступил в поддержку сторонников применения военной силы и послал ко двору царя генерала фон Альвенслебена для организации совместных действий против польских повстанцев. 8 февраля Альвенслебен и царь подписали конвенцию, позволявшую войскам обеих держав переходить границы для преследования польских вооруженных отрядов. Превысил ли Альвенслебен свои полномочия, нам об этом неизвестно, для Бисмарка это ни имело никакого значения. Бисмарк впоследствии объяснял:
...
«Прусская позиция, воплощенная в военной конвенции, заключенной генералом Густавом фон Альвенслебеном в феврале 1863 года, имела скорее дипломатическое, а не военное значение. Она ставила задачу добиться победы в русском кабинете для тех, кто проводит прусскую, а не польскую политику, которую представляли Горчаков, великий князь Константин, Велепольский и другие влиятельные лица»27.
Впустую и западные державы требовали от прусского правительства не ратифицировать конвенцию: она так и не вступила в силу. Пфланце посчитал соглашение «редкой ошибкой в суждении» и «промахом» Бисмарка28, поскольку оно облегчило Наполеону III решение старой дилеммы – что для него важнее: историческая приверженность династии к независимости Польши или альянс с Россией? На мой взгляд, для Бисмарка это была мизерная плата за уверенность в том, что Россия останется в стороне во время последнего решающего столкновения Пруссии с Австрией. Поддержав реакционеров при царском дворе, он подкрепил репутацию Полиньяка нового образца.
Роберт Люциус фон Балльхаузен (1835–1914), впоследствии один из ближайших сотрудников Бисмарка, 27 января 1863 года присутствовал на дебатах в прусском ландтаге, откуда и вынес свое первое впечатление о новом министре-президенте:
...
«Он все еще носил штатскую одежду, густые усы имели светло-рыжеватый оттенок, как и редеющие волосы на голове. Высокая, широкоплечая фигура выглядела мощной и внушительной, что резко контрастировало с будничной манерой держаться и говорить. Он редко вынимал правую руку из кармана светлых брюк и своим видом напоминал задиру в дуэльных братствах Гейдельберга. Уже тогда у него выработалась привычка с кажущейся нерешительностью подбирать слова и находить самые нужные и сокрушительные выражения для оппонентов. Он показался мне «юнкером до мозга костей»: в нем сохранилась грубоватость студента-дуэлянта, особенно проявляющаяся в его доброжелательной манере говорить резкости возбужденным противникам. Он поднял бурю возмущения на сессии, заявив, что государство, если надо, проживет и без утвержденного бюджета. Граф Шверин-Путцар, лидер оппозиции, крестьянского вида добродушный и грузный увалень, обвинил Бисмарка в том, что он “интересы власти ставит выше законности и правосудия”»29.
В вызывающем поведении нового министра-президента на сессии ландтага не было ничего необычного. Точно так же он грубил, выступая в 1847 году на Соединенном ландтаге: сначала возмутил аудиторию, а потом вынул из кармана газету и начал ее читать, выказывая всем свое пренебрежение. «Конфликтная» исполнительная власть получила подходящего «конфликтного» министра-президента, отличавшегося к тому же особенно искусной наглостью. Вот как, например, он отстаивал конвенцию Альвенслебена, осужденную либералами по всей Европе:
...
«Предыдущий оратор (Генрих фон Зибель) заметил, что я сегодня выступаю в защиту своих взглядов менее уверенно. Мне очень жаль, если меня заподозрили в том, что я каким-то образом стал сомневаться в своих убеждениях. В связи с этим считаю необходимым сделать следующее заявление. Все четыре дня я болел и сегодня появился перед вами в нарушение воли доктора: я просто не мог отказать себе в удовольствии послушать вас ( смех )… Я уже давно обратил внимание на одну примечательную особенность прессы – постоянно использовать набившую оскомину фразу «как всем известно». Примерно так же поступает и предыдущий оратор, называя мнение Европы относительно конвенции единодушным. Мнение Европы не может быть единодушным о том, о чем она ничего не знает»30.
Друзьям стиль Бисмарка пришелся по душе. Людвиг фон Герлах писал Гансу фон Клейсту:
...
«Ведь наверху у нас еще не бывало такого человека? Бисмарк превзошел все мои ожидания. Я не мог и предвидеть в нем столь спокойной твердости и уверенности. Бисмарк – на века! (Написано по-английски.) Назло всему миру и загранице!»31
Оценку самим Бисмарком своих первых шести месяцев пребывания у власти мы нашли в его письме давнему другу по Гёттингенскому университету Джону Мотли. 1 апреля 1863 года, в день своего 48-летия, министр-президент писал Мотли:
...
«Никогда не думал, что в зрелые годы мне придется исполнять презренные функции парламентского министра. Когда я был послом, я тоже считался государственным служащим, но у меня сохранялось чувство, что я остаюсь джентльменом… В роли министра я чувствую себя илотом. Депутаты в целом не так уж и глупы, если так можно выразиться. По отдельности это очень умный и в основном образованный народ, закончивший, как правило, нормальный немецкий университет, но когда они собираются in corpore (вместе), то из них получается тупоголовая масса, хотя индивидуально каждый из них вовсе не глупый человек. (Дальше письмо составлено на английском языке. – Дж. С .) Эти мои чернильные усилия свидетельствуют о том, что когда я остаюсь один, то вспоминаю о тебе. Проходя мимо старого дома Ложье на Фридрихштрассе, я всегда поднимаю голову и смотрю на окна, в которых когда-то можно было увидеть пару красных туфель, задранных на стену джентльменом, сидевшим в позе янки с запрокинутой головой. Мне согревают душу воспоминания о «старых добрых временах», когда мы были всего лишь «проказливыми мальчишками». Бедняга «Флеш» (граф Герман Кейзерлинг) путешествует с дочерью. Не имею понятия, где он сейчас находится. Моя жена очень признательна за добрую память, а также и дети… Deine Hand sieht aus wie Krhenfsse ist aber sehr leserlich, meine auch? (Твои каракули написаны будто вороньей лапой, но разобрать можно. А мои?32)».