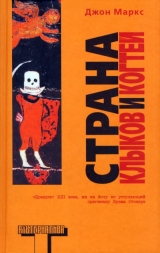
Текст книги "Страна клыков и когтей"
Автор книги: Джон Маркс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
Флеркис жил рядом с Гранд-Конкорс в Бронксе, и свои дни проводил, развозя на автобусе детишек из нью-йоркских школ по домам. Он никогда не входил ни в одну организацию, не связывался ни с «Пантерами», ни с радикалами. В те дни в Южном Бронксе было множество акупунктурщиков, любивших Хо Ши Мина, проповедников с пушкой в кармане, ветеранов Вьетнама, практиковавших буддизм – сплошь приятели Джулии, но отбросы общества для Флеркиса, который днем водил автобус, а по вечерам торговал оружием и взрывчаткой. У него было четверо детей от жены с Ямайки по имени Джейзи, и всех их надо было кормить. Джулия относилась к нему как к данности, кубику в конструкторе реальности, которого темные силы предпочитают избегать или игнорировать – это было одной из главных причин (в дополнение к ее умению монтировать кино), почему ее так ценили воротилы движения. «Пора брать дело в свои руки», – говорили ей, когда наступало время. Фамилия Флеркис была псевдонимом и, по всей очевидности, подделкой под афроамериканцев.
Но сбежав под палящее солнце в тот майский полдень, когда кондиционеры плевались с натуги и текли от ужаса, она не смогла найти никаких следов своего поставщика. Поспрашивала в округе. Несколько старушек вспомнили «африканского джентльмена» и его жену Дейзи, хотя фамилия Флеркис им ничего не говорила. Конечно, она была настоящей не более, чем ее собственная, то есть так называемый Флеркис напрасно искал бы так называемую Сьюзан Киттенплен.
День клонился к вечеру. Сыновья уже, наверное, вернулись домой. Мужу требуется ужин и общество. Нельзя вечно слоняться по Бронксу, преследуя фантом. Джулия сама понимала, насколько тщетны ее поиски. Ей нужно было приободриться, и Флеркис тут бы помог. Он напомнил бы ей о том времени, когда она шла на крайние меры, чтобы залечить жестокие раны. Деморализованная, Джулия вернулась на вокзал. В семь вечера температура на Гранд-Конкорс поднялась почти до девяноста пяти градусов по Фаренгейту. «Что за жалкая планета, – думала Джулия. – Убейте нас, и делу конец». Попрошайки распадались в жарком мареве. Шелест голосов накатывал и стихал шипением, клацаньем и лязгом шумного и умирающего дня. Урча, подкатил по рельсам поезд. Она моргнула. В последнее время, закрывая глаза, она видела страшные вещи, поэтому старалась не смыкать веки. Поезд втянулся на станцию, двери открылись, Джулия потерла глаза. Кто-то тронул ее за плечо.
– Сьюзан? – поинтересовался престарелый «африканский джентльмен».
22 МАЯ, 10:15
Скоро придет Торгу, поэтому необходимо успеть записать эти мысли.
Никак не могу стряхнуть ощущение, что это, возможно, мое последнее утро на белом свете. Глупость какая. Когда я был ребенком, у меня случались такие ложные предчувствия. Я рассказывал маме, а она винила учителя, что он растравливает мою природную мрачность книжками с несчастливым концом. Каким-то образом я это перерос. Позже, во Вьетнаме, я недолгое время дурачил себя, будто наделен даром предвидения и могу предсказать час и минуту собственной смерти. Я умел выискивать знаки, как одна моя незамужняя тетушка, и в голове вдруг вспыхивало озарение: я умру в кустах; я умру в пятницу; я никогда не увижу ту или эту женщину. Потом, как в детстве, игра в угадайку утратила свою власть. Но сейчас с удвоенной силой вернулась, поэтому спешу составить новый вариант последней воли и завещания.
Настоящее завещание, конечно, уже существует, все мое имущество (вино, книги и произведения искусства) отойдут бывшей жене и детям. Юрист по правам наследования – мой хороший друг, он составил вполне законный юридический документ, поэтому мне не надо бояться, что данный дневник как-то его аннулирует, разве что в психологическом плане. По материалам дневника у моей семьи наверняка сложится неоднозначное обо мне впечатление, которое останется с ними надолго, на некоторое время он их расстроит. У них зародится подозрение о надвигающемся маразме, и эта мысль терзает меня. Тело мое сдает, но разум крепок, и мне неприятна мысль о наследии, основанном на обмане и дезинформации. Проще было бы сжечь дневник целиком и упокоиться в молчании, но такой путь пошел бы вразрез принципами безукоризненной журналистской честности, которых я придерживался десятилетиями. Поэтому родным и близким придется немного пострадать. Но если быть честным, последний рассказ о моих мыслях перед встречей с этим психопатом (я решился все-таки на план Джулии Барнс) предназначен не для членов моей семьи. И не для массового зрителя, который последние сорок лет видел меня по телевидению, из них тридцать – в «Часе». Он – для горстки друзей и доверенных лиц, которые составляли мой круг общения в этом городе. И возможно, ради горстки других – городских снобов и сумасшедших, которые не слишком меня любили в силу моей профессии и которые уже не слишком высокого мнения обо мне, хотя я никогда не поддавался на их насмешки над телевидением, хорошо послужившим и мне, и аудитории. Читая эти строки, они получат все нужные средства, дабы прикончить мою репутацию, саму память о том, чего мне удалось достичь, и погрести их под грудой критиканского мусора. Но пусть только попробуют. Я плюю в коллективное лицо этой своры провинциалов большого города.
Вот что я хотел бы оставить для протокола. В конце лета и начале осени прошлого года ассистентка одного из моих продюсеров, мисс Эвангелина Харкер пропала в Румынии, в предгорьях восточных трансильванских Альп. У меня есть все основания полагать, что она была похищена, что над ней было совершено какое-то насилие международным преступником, известным как Йон Торгу. Торгу утверждает, что обладает засекреченной информацией о правительствах эпохи холодной войны и якобы спасается от наемных убийц, посланных спецслужбами стран бывшего Восточного блока. По словам Торгу, он лично имел доступ к химическому и/или биологическому и психологическому оружию, с каким я никогда не сталкивался и не слышал раньше. Торгу как будто питает вражду к нашей программе, суть которой я попытаюсь раскрыть ниже. Мы сочли Эвангелину Харкер умершей. К нашему удивлению и радости, она объявилась через полгода, хотя и не в состоянии рассказать о периоде своего исчезновения. Мои гипотезы о ее встрече с Торгу основаны на догадках, и не более того, но эти догадки ошеломляют. Приблизительно в момент ее исчезновения из Румынии пришла посылка с пленками неизвестного происхождения. Эти пленки не содержали почти никакой визуальной информации и прибыли без предварительного запроса или договоренности. Их сняла не группа нашей сети, и они не относились к какому-либо из запущенных в работу сюжетов «Часа». Ни один продюсер не заявил на них своих прав. Тем не менее по причинам, которых я не в состоянии понять, какой-то монтажер их оцифровал и тем самым внес этот непроверенный материал в банк видеоданных, которым пользуется весь офис. Посредством неизвестного мне процесса оцифрованный материал инфицировал всю монтажную и записывающую систему каким-то аудиовирусом. Пленки оказали странное побочное действие на тех, кто их просматривал, вызывая разлагающую летаргию, которая подобно болезни распространилась на монтажеров и еще нескольких сотрудников двадцатого этажа. Есть также основания полагать, что пленки порождают насилие. Я сам испытал несколько вспышек слепой ярости, одна из которых едва не привела к гибели моей собаки. Также до моего сведения дошло «самоубийство» при загадочных обстоятельствах одного сотрудника программы. Жених Эвангелины Харкер подвергся нападению, едва не приведшему к фатальному исходу. К моему стыду и раздражению, ни один врач не смог поставить диагноз этому коллективному заболеванию, и нашим чудесным, незаменимым людям пришлось самим защищаться от силы, не поддающейся пониманию. Я искренне полагаю, что эти мужчины и женщины подвергаются все усиливающемуся воздействию химического и/или биологического оружия, распространяемого посредством записей. По словам Джулии Барнс, на данный момент по меньшей мере десяток монтажеров не являются на работу.
Эти ничем не подкрепленные утверждения весьма зловещи, но есть и много худшие. В начале сего года, вскоре после отключения электричества из-за сильного снегопада, мой уважаемый коллега Эдвард Принц пришел ко мне с сообщением, что получил эксклюзивное интервью с тем самым Ионом Торгу. Тогда фамилия меня встревожила, но Принц заверил, что своим интервью раз и навсегда засадит румына за решетку. Вместо того чтобы вызвать полицию и сорвать коллеге важный сюжет, я игнорировал голос здравого смысла и ждал результатов. Интервью Принца с Торгу обернулось совсем не тем, что ожидал мой коллега. Принц стал практически узником в собственном кабинете, бредящим безумцем до мозга костей, и оба эти обстоятельства как-то связаны с Торгу, который теперь через омерзительного посредника потребовал встречи со мной. По этой причине я заново перечислил мои подозрения. Я не надеюсь остаться в здравом уме после этого разговора. Для протокола: я не связался с властями, поскольку не питаю надежды, что власти мне поверят. Будучи журналистом, я знаю разницу между обоснованной жалобой и недоказанной теорией заговора. В свете вышеизложенного я остаюсь при убеждении, что мы подвергаемся нападению и что наш враг намерен нас изничтожить и претворить в жизнь какой-то грандиозный план, суть которого мне в настоящий момент неведома. Так или иначе, я беру на себя полную ответственность за решение встретиться с этим человеком и за любые последствия, которые могут возникнуть. И да простит меня бог моих отцов, если я потерплю поражение в этих трудах. Никто больше ничего не предпримет.
Джулия возвращалась домой с мыслью приготовить запеченную курицу – любимое блюдо ее сыновей. К пяти она была уже дома, возилась на кухне.
Поставив в духовку противень, она спустилась в подвал, где с жутковатым возбуждением раскрыла стоявшую на бетонном полу картонную коробку. В молодости она любила бомбы. Сама себе в этом признавалась. Другие подростки любили бенгальские огни, но ее тянуло к серьезным вещам. В коробке в оливковой оберточной бумаге хранились шесть брусков пластида «Си-4», каждый длиной с фут. В мешке рядом с коробкой лежал набор из десяти самодельных запалов.
Флеркис свел ее со своим племянником, у которого оказался готовый к применению килограммовый комплект взрывчатки, невостребованный заказчиком из-за изменившихся в последнюю минуту планов. Комплект был приготовлен не специально под нее, что Джулии не нравилось, но придется обойтись и этим. В свое время она прошла через фазу увлечения этим видом взрывчатки. Все ветераны Вьетнама, кого она знала, просто обожали «Си-4» и использовали для всего на свете: от разогревания обеда, до выкорчевывания деревьев и взрыва шахт. Для акции, план которой наполовину сложился у нее в голове, она заложит один брусок, может, два, подожжет запал и убежит. Племяннику Флеркиса она про свои планы ничего не сказала, и ему это пришлось по душе. Старая добрая игра. Он ничего не гарантировал, но одарил ее полной надежды улыбкой. Джулия предложила полцены, а племяннику слишком хотелось, чтобы товар не залеживался дома. Возник вопрос хранения. Джулии не нравилось держать взрывчатку рядом со своими детьми, сквер напротив дома подходил больше, вот только там на нее мог наткнуться бездомный и украсть или подорваться. Ни один из ее экс-радикальных друзей помочь не мог. Старая сеть подполья давно уже перестала функционировать.
После странного разговора с Эвангелиной в коридоре говорить было больше нечего. Девчонку, очевидно, изнасиловал их общий враг, нанес страшную травму, которая теперь вынуждает ее к молчанию. Женщине в ее состоянии прятать взрывчатку недопустимо.
Придется отнести бруски в офис. Заранее натянув резиновые перчатки, Джулия погрузила все в продуктовую сумку. Надела свободную оранжевую футболку и легкие брюки – городская мамаша идет на сверхурочные. В последнюю минуту она оставила сумку в вестибюле, под бдительным оком консьержа и бегом вернулась проверить, как там курица, которой, как оказалось, еще полчаса стоять в духовке. Спустилась, перебросила сумку через плечо, опустила на нос солнечные очки, купленные году в семьдесят пятом и вышла под палящий зной умирающего дня.
Книга XIV
УРОК ИСТОРИИ
45
22 МАЯ, ПОЛНОЧЬ
Врачи приходили и ушли. Двери и окна на запоре. Я еще жив. Я слишком много выпил красного вина.
Нужно успокоиться и привести мысли в порядок. Я встретился с ним.
Час настал. Тяжелая тишина окутала двадцатый этаж. Пич я отпустил до вечера, а остальных ассистентов разослал с различными поручениями. Большинство продюсеров и корреспондентов еще не вернулись из заграницы. Остальных все более отпугивала атмосфера на этаже, и, предчувствуя дурные новости от сети, многие вообще не явились на работу. Откровенно говоря, я недооценил размах недуга. Я ожидал, что в офисах народу будет больше.
В пять минут двенадцатого дверь кабинета Принца скрипнула. Я услышал свист втягиваемого воздуха и уже решил, что мой старый друг наконец одумался. Но это был не Эдвард Принц. Порог переступил другой человек, самый странный из всех, кого мне доводилось видеть. Отчего он казался столь странным? Прежде чем перейти к этому вопросу, я должен недвусмысленно заявить, что глубочайшее уродство было наименьшим из его пренеприятных свойств. Уродство придавало ему человечности. Зубы у него были угольно-черные, мелкие, как камешки на вулканическом пляже (такой я однажды видел в Катании), и сидели они в явно распухших, серых как штукатурка деснах. Вообразите себе черный пляж, заваленный дохлой рыбой, – эффект будет приблизительно тот же. И голова у него словно вздулась. Да, гигантская голова сидела на крошечном теле. Но на голове у него не было ни жировых складок, ни припухлости, которые производили бы впечатление умильности. Она была массивной и словно росла из ствола, который затем сходил на нет. Глаза у Торгу были красные, ну и что с того? У меня они такие же. Его одежда меня озадачила: вышедший из моды белый летний костюм, короткий настолько, что из рукавов торчали манжеты темно-синей рубашки. И все в его туалете настолько не сочеталось друг с другом, что, казалось, было снято с какого-то трупа.
Когда он вошел в мой кабинет, на меня обрушилась глубочайшая печаль, столь тяжкая, что я едва не упал на колени. Я силюсь осознать природу этого воздействия, но описать могу в точности. Суть его очевидна. Торгу окружала аура из самых страшных моих сюжетов. Он вошел – как бы это сказать – в ореоле пыток и убийств, и эти миазмы казались столь осязаемыми, что протяни руку – и сможешь коснуться их, они окутывали его как дорогая шуба из живой кожи жертв допроса с пристрастием. И стоило ему открыть рот, я сразу понял, будет только хуже, и прервал его резким вопросом:
– Где Эдвард Принц? Что вы с ним сделали?
Я подался вперед, опираясь на стол, сомневаясь, выдержу ли то, что он собирается рассказать. Его передернуло, словно само его сердце споткнулось, и, облокотившись для поддержки о стену, он указал назад на дверь кабинета.
– Сами посмотрите.
Обеспокоенный, я поспешил встать с кресла и обойти гостя, вышел за свою дверь к двери соседа, но там остановился как вкопанный – меня ожидало зрелище столь кошмарное, что на его фоне даже Торгу приобретал толику рациональности. Принц был не мертв. Во всяком случае, не бездвижен… А жаль. Он был очень даже жив, но наг, он стоял на коленях на полу перед тремя видеомониторами на тележках и в диком возбуждении крутил и дергал переключатели. Изображений на экранах я не видел, в кабинете было совершенно темно, и я различал лишь случайные всполохи статики на голой спине Эдварда Принца. У него отросла борода. Морщинистая и обвислая кожа светилась оттенком экранов. Принц, по-видимому, не узнал меня, но заговорил:
– О Господи Иисусе, сволочь, предательство, грязная задница предательства вселенной нашего договора… взгляни на это… ради Бога… во имя Бога… посмотришь?
Последнее слово он произнес с особым нажимом. Это был не бред. Принц действительно хотел, чтобы я увидел изображения на видеомониторах, и хотя мне ничего на свете так не хотелось, как развернуться и уйти (я никогда не верил, что мы воистину сторожа братьям нашим), я сделал несколько шагов в темноту, дюйм за дюймом пробираясь вперед, остерегаясь броска или нападения человека, который, по всей очевидности, лишился рассудка. Наконец я достиг того места, откуда искоса смог увидеть один из трех мониторов. Принц водил по экранам пальцами, и я увидел то, что вызвало у него столь бесноватый бред. Больше я в его душевном недуге не сомневался. Эдвард Принц, мой соперник и друг до первой беды, потерялся в фантазиях и из них не вернется. На экране – стандартная сцена в «универсальном»: два стула (незанятых), под ними две бутылки минеральной воды, никаких видимых камер, факс из киноархива на заднем плане. Пленка шла без звука, или Принц его отключил, да я и не собирался просить прибавить громкость. Просто некоторое время смотрел. Наконец я задал Принцу вопрос:
– В чем дело, Эд? Что тут ужасного?
Его голова рывком повернулась ко мне, рот раззявился. У него тоже зубы почернели, как у Стимсона Биверса. Я поморщился, стараясь не думать о том, что подразумевает их изменившийся цвет.
– Что ужасного?! – взвизгнул он. – Там нет меня, ссохшаяся ты гадюка!
Я не понял, но мне хватило и этого, и я попятился, но в тот момент на экране возникло нечто, во что я и в настоящий момент отказываюсь верить. Я уговариваю себя, что это внушил мне сам Принц, что реальности ему придало жутковатое поведение Торгу, но сейчас я пытаюсь изложить все в точности так, как чувствовал и пережил. Короче говоря, на экране я увидел, как бутылка с водой поднялась с пола «универсального», взмыла в воздух, а потом снова опустилась. Кто-то отпил из бутылки. И этого человека объектив камеры не видел. Я думаю… нет, я знаю, что этим человеком был Эдвард Принц. Закрывая рукой глаза, я вылетел из комнаты. Не помню, как оказался в собственном кабинете, где Торгу уже расположился на диване.
– Жизнь есть разочарование, – пробормотал он. – И смерть не лучше.
Меня охватило мимолетное желание броситься на него с кулаками, но я утратил мужество. Я боялся, что он снова заговорит, а в моей слабости я не снес бы его голоса. Более того, он словно разрастался у меня на глазах, будто напитавшееся кровью растение. Не знаю почему, не могу объяснить этого впечатления, разве только это действительно происходило, разве только его последующее поведение требовало расширить физические пределы и без того огромного черепа.
– Что вы сделали?
– Я? Ничего. Он расстроен условиями соглашения, которое сам же и заключил.
Я стоял в пяти футах от него, и все равно его гнилостное дыхание ударило мне в нос. И все больше я ощущал и другой эффект его присутствия. Мне казалось (хотя и без видимых свидетельств тому факту), что в моем кабинете мы уже не одни. Если вам доводилось войти в комнату жарким ветреным днем, когда окна открыты и ваши бумаги летают на разыгравшемся сквозняке, то, возможно, вы поймете, что натолкнуло меня на эту мысль. Мы были на двадцатом этаже. Мое окно, двадцатифутовая плексигласовая панель, не открывалось. Ни ветер, ни дождь не могли сюда попасть, и тем не менее что-то проникло внутрь. А в центре этой воронки сидел на моем диване Торгу. Тут я заметил, что он принес с собой ведро, из которого торчала рукоять какого-то инструмента. Ведро стояло у него под ногами.
Спотыкаясь, я добрался до стола, схватился за его край, как будто он мог мне помочь.
– Какого соглашения?
– Я сказал, что он будет жить вечно, если изопьет крови, которая есть мой дар, но он совершенно иначе понимает бессмертие и вообразил, что все время будет видеть себя на экране. Я же не мог бы представить себе менее наставительную, менее бессмысленную разновидность бессмертия, поэтому не потрудился упомянуть о побочном эффекте.
Признаюсь, я начал понимать, что он имеет в виду, и поверил его объяснению. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу всю абсурдность, всю нелепость такого утверждения, но все равно записываю его ради журналистской точности.
– Побочный эффект, – повторил я его слова.
– Те из нас, кто собирает истории, не могут быть увидены ни одним устройством, известным человечеству.
Я больше не мог сносить, что он жив. В моем ящике справа есть нож для бумаг…
– Вы говорите про камеру?
– Никогда больше, – шепнул Торгу. – Для него с этим покончено. И для вас тоже. Вы вскоре начнете делать репортажи на гораздо более значимые темы. Сюжеты, весомее любого, за какой вы когда-либо брались. Вам известно, что Сталин велел расстрелять тринадцать тысяч собственных солдат в Сталинграде во время осады этого великого города? Вы сможете взять у них интервью. Полагаю, вы подойдете к этому ответственному заданию с большим достоинством, чем ваш коллега.
Ноги у меня задрожали. Признаюсь, я ему поверил. Мысль об этих интервью и впрямь меня привлекала. Я начал шарить в ящике. Нельзя, чтобы он снова открыл рот. Я сознавал, что если это случится, то грозит мне смертью. У меня же был нож для бумаги, стальной шип. Но я опоздал. Он заговорил. И от его слов руки у меня сковало онемение.
– Кстати, я перемолвился парой слов с вашей двоюродной бабушкой.
– С кем?
– С Эстер, господин фон Тротта. Я виделся с Эстер.
Нож для бумаги обратился в лед, обжег мне пальцы, и я уронил его на стол, опрокинув пластиковый стаканчик с кофе, который разлился по бумагам. Я выглянул в окно кабинета в поисках Пич, в поисках Боба Роджерса, кого угодно, кто бы подтвердил, что я не ослышался. Эстер, моя двоюродная бабушка Эстер, мертва уже больше шестидесяти лет, если быть точным, умерла в июле 1942 года, когда ее и четырех ее детей, включая новорожденного, казнил первый взвод Германского резервного батальона полиции № 101. Моя сестра получила архивы этого батальона от одного историка, старого друга семьи, и со жгучим изумлением мы читали рассказы из первых рук, от самих участников бойни. Разумеется, мы не знали наверняка, как встретила свою смерть Эстер. Ее имя ни разу не упоминалось. Но она и ее семья принадлежали к тем тысяче восьмистам евреям, которые жили в той деревне, и никто больше с тех пор не видел документа, где стояла бы ее подпись или значилось бы ее имя. Ее муж, мой двоюродный дед Иосиф погиб в концентрационном лагере Белжец. Больше мы ничего не знали.
Последовавшее затем явилось оскорблением здравому смыслу. Сейчас я в этом сознаюсь. Но в моем отчете не было бы честности, если бы я солгал. Человек, сидевший на диване в моем кабинете, начал заполнять пробелы в истории, и, готов поклясться на смертном одре, он говорил голосом женщины, которую я никогда не встречал.
Я попытался ему помешать.
– Вы подлец, – сквозь стиснутые зубы выдавил я.
– Дурно было бы не рассказать вам того, что поведала мне она…
– Закройте рот…
– Немой, – шептал он, – а ее, и вы единственный оставшийся в живых член ее семьи, с которым у нее когда-либо был шанс поговорить.
Руки повисли у меня как плети, пока я слушал это свидетельство, хотя, боюсь, мои чувства и мое уважение к умершим не позволят мне изложить хотя бы отрывки того, что извергалось из Торгу всепоглощающим монологом. Тут мой долг журналистской непредвзятости должен отойти на задний план. Скажу лишь, что это был аутентичный рассказ о гибели матери, каждый из детей которой умирал у нее на глазах. Большего я не скажу. Подобные истории не редкость. Они таятся в папках или мелькают на экране. Она умоляла оставить им жизнь по-немецки. По-немецки же молила о своей собственной. Ей позволили жить ровно столько, чтобы увидеть смертные муки старшей дочери. У кого-то кончились патроны. Об этом рассказывал голос, затронувший во мне две противоречивые ноты: с одной стороны, он жаждал моего приятия, с другой – увлеченный собственным ужасом, он совсем не обращал на меня внимания. Так вот что приносит это чудовище! Вот суть химической и биологической атаки – разновидность знания более опустошительная, нежели зариновая атака. Под конец моя бабушка поверила, что все это лишь дурной сон.
Не знаю, сколько времени прошло прежде, чем завершилось это кощунство. Самое худшее было в том, что я жаждал дальнейших повествований. Я хотел услышать. Хотел знать. Вероятно, Торгу ждал, что я паду к его ногам и начну молить о прощении. Верно, меня подташнивало, и я сознавал, что давление у меня поднялось, и снова проснулась мучительная боль в спине. Я умру в этом кабинете, как столько раз клялся, но не так, как воображал. Я скончаюсь от потрясения, услышав невыносимую историю моей собственной семьи. Пусть так. Но мой гнев исключал бессилие. Каким бы ни было мое состояние, кража смерти моей бабушки исполнила меня холодной решимости прикончить вора. Сжав рукоять ножа, я выжидал, когда он подойдет поближе.
– Есть и другие, – сказал он, вставая, – но вы услышите их после, услышите собственными ушами. Хвала небесам, передать эту информацию теперь уже не единственная моя работа. Мы изменим мир.
Неизвестно откуда взявшийся порыв горячего воздуха ударил мне в грудь. Бумаги разлетелись с моего стола, будто освобождая ему дорогу. Над бумажной бурей возвышалась его голова. Зрачки у него сужались, глаза превращались в сферы, излучавшие потоки обжигающей белизны. Невзирая на его бесконечную силу, он казался тяжелобольным, и я говорю не о том, что у монстров зачастую бывает болезненный вид. Нет, в Торгу было что-то лихорадочное, нестабильное, что я привык ассоциировать с людьми, которые либо отчаянно нуждаются в отдыхе, либо только что встали с одра тяжкой болезни. Ткань его костюма оказалась заляпана и запачкана бог знает в каких ужасных ритуалах и производила впечатление распада и летаргии, словно он уже не в состоянии был заботиться о себе. Его терзала чума, которую он вот-вот передаст остальному роду человеческому. Он обошел угол моего стола, гипнотизируя, держа в руках ведро с неким инструментом, и я вдруг понял, что это нож. Торгу был болен, но накачивал себя энергией жертв. И когда этот будущий исполин завис надо мной, я сообразил, что это я съеживаюсь от его приближения. До него оставалось уже не более шага, и тогда я вонзил нож ему в кадык. Но, невзирая на засевшую в трахее сталь, он заговорил опять:
– Уверен, вы с насилием на короткой ноге, – скрипел он. – А вот мне нужно собраться с духом. Не важно, сколько эпох миновало, но я к нему так и не привык.
Черные зубы маячили в пене серых десен. Губы раздвинула пустая ухмылка. Ужасная боль пронзила мою поясницу, и я рухнул в кресло. Он же легко вырвал нож из трахеи. Потоком хлынула кровь. Его собственный нож беспокойно звякал в ведре. Он сделал еще шаг вперед, занес нож для бумаг и пригвоздил им мое бедро к креслу.
Зажав мне рот рукой, он стал готовиться к ритуалу. Поставил ведро на пол. С трудом опустился передо мной на колени. За стенами здания солнце припекало Гудзон. Я знал, что здания сверкают. Я знал, что девушки ходят там в мини-юбках, что жужжат вертолеты дорожной полиции, что ворчат на реке баржи. Но в моем кабинете совершались последние приготовления к убийству.
Он взял меня за воротник.
– Треблинка, – забормотал он. – Воркута. Гоморра. Это слова бесконечного стиха. Медина. Масада. Балаклава. Познавая меня, познаете мою искренность – дар, переданный мне проклятием отца и не иссякший за столетия горя. Вы узнаете, как не потерплю я неуважения. Вы узнаете во мне заступника попранных мертвецов.
Он видел, что я хочу заговорить, и отнял руку от моего рта.
– Вы думаете, – просипел я, – что этому миру действительно нужен ваш чудовищный урок истории?
– Урок истории, – отозвался он. – Вы и впрямь видите мои намерения.
– Но это ложь.
– Названия не лгут. Они на ложь не способны.
Я нашел в себе силы противостоять ему моими собственными словами, пусть даже они были бессильны спасти меня самого:
– Глубинной памяти рода человеческого не требуются имена. Мы видели звезды до того, как узнали их названия. Мужчины касались женщин, а женщины – мужчин до того, как мы познали хотя бы один слог. Женщины рожали детей со стонами, много старше языка. Имена – как ваше ведро. В них лишь кровь.
Меня вот-вот вспорют как свинью, и близость позорно-жалкой смерти сделала меня дерзким. Я был исключительно доволен собой, неплохая вышла бы лекция, но радость быстро прошла. Боль в спине нахлынула снова. Дыхание Торгу действовало как удушающий газ. Он подчинил меня, выудив мои собственные воспоминания… Во Вьетнаме мы наткнулись на плантацию гевей, и трупы там были повсюду, вьетконговцы и солдаты южновьетнамской армии, трупы гнили там уже несколько дней. Они были как порубленные овощи, которые бросили на поле. Те лица мы не стали снимать. Я попросил операторов оставить их в покое – из уважения, но в моей памяти они сохранились, или же Торгу вызвал их в мой кабинет. Я терял силу. А фантомы в воздухе ее набирались. Торгу начал распевать две вещи разом: из его рта исходили два отдельных и совершенно различных голоса. Одним голосом он произносил названия мест, и я начал видеть эти слова: опаленные огнем они капали, сочились, а в них рождались картины самых разных зверств. Я не мог обороняться против Эстер, против вьетнамцев или того, другого поля в Алжире, против полосы смерти в Берлине. Сколько смертей я видел… Это меня почему-то удивило. Я даже не подозревал… И в то же время Торгу делал мне предложение. Он не перережет мне горло, обещал он. Он вскроет себе запястье, и я выпью его крови. Он желал, чтобы я заключил с ним союз. Глаза Торгу закрылись.
– Прошу в этом твоего благословения.
Схватив застрявший в моей ноге нож, я его вырвал. Торгу счел это отказом и ударил меня своим ножом по голове, чиркнув по уху. Я ударил его здоровой ногой, опрокинул на пол и из последних сил похромал к двери. А Торгу с воем бросился следом.
Я едва не наткнулся на Пич, которая уронила коробку с пиццей и завизжала. Торгу уже схватил меня за пиджак, когда, словно видение из сна, перед нами возникла Эвангелина Харкер. Я почувствовал, как пол уходит у меня из-под ног, услышал невнятные крики, которые вздымались и опадали. Потом – чернота.
Когда я очнулся, я был уже здесь, в своей собственной спальне. В больницу я поехать отказался. Сиделка старалась отобрать у меня бутылку, но я ее выгнал. Теперь надо поспать.
На мгновение я снова его увидела. Лицом к лицу. И он увидел меня.
– Эвангелина, – раздался у меня в голове его шепот.
Его состояние ухудшилось. Тело съежилось, голова раздулась, как клещ, слишком долго провисевший на спине собаки. Лишь несколько секунд, но мир словно остановился, и, заглянув в те глаза, я увидела в глубине их усталость, голод и страх. Ничего подобного раньше не было. Но такого нападения он не вынес. Он пронесся мимо меня, мимо вопящей Пич Карнэхен, и порывом яростного ветра за ним последовала его свита. Залитый собственной кровью, Остин добрался до ковра. Тут во мне проснулись приобретенные в Трансильвании инстинкты. Оторвав полосу от собственной футболки, я жгутом затянула ее на ноге Остина. Где-то далеко в коридорах стихал вой ярости. Я приказала Пич вызвать «скорую помощь». На мгновение, стоя на коленях над Остином, я заглянула в открытую дверь кабинета Эдварда Принца и мельком увидела нечто необъяснимое, тень, метавшуюся между тремя яркими экранами, но дверь захлопнулась до того, как я смогла что-то разглядеть. У меня не было времени на эту тайну. Остин потерял сознание. Торгу скрылся.





![Книга Вампир — граф Дракула [редакция 1912 г.] автора Брэм Стокер](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-vampir-graf-drakula-redakciya-1912-g.-69978.jpg)

