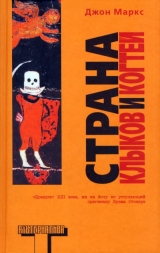
Текст книги "Страна клыков и когтей"
Автор книги: Джон Маркс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
18
Э., мы с Локайером вошли в кабинет Остина, где окно во всю стену, и Нью-Джерси за Гудзоном кажется таким близким. Со своего места в ближнем к двери углу я едва различал реку, а того, что раньше называлось Торговым центром, совсем не было видно. Поймешь ли ты, каково быть лысеющим, бледным, худым двадцатишестилетним гуманоидом в одном помещении с четырьмя вожаками, каждый из другого поколения? Как ребенку в музее восковых фигур. Тут был, разумеется, Локайер, безупречно облаченный в тряпки из бутиков. Как и Иэн, он хорошо одевается, уверен, ты это заметила. Держится он с размеренным спокойствием, небезразличен, но и не паникует. Он изящен, как кошка, в сравнении с Остином, который напоминает мне старую мудрую сову из детских книжек, вот почему я прозвал его Совой. Остин был одет в свою фирменную сорочку в розовую полоску и красный шелковый галстук под темно-синим пиджаком – вид очень спортивный. Из кармана пиджака выглядывал красный шелковый платок. Каждая морщинка на его лице представлялась заранее продуманной, словно он годами размышлял прежде, чем решить, каким складкам залечь на коже. Я бы сказал, у него лучшие морщины в мире телевидения, если, конечно, исключить Иствуда или даже Редфорда, ведь эти морщины отражают характер. Остин – общая сумма своих морщин: одна за Берлин в 1956 году, три – за Алжир в шестьдесят втором, пять – за Зимбабве в шестьдесят пятом и один бог знает, сколько за Вьетнам. Трансильвания, возможно, добавит еще парочку к общему шедевру.
Но я бы солгал, сказав, что придал большое значение тому, как держатся мои хозяева. Едва я вошел в комнату, мое внимание приковали два незнакомца – твой отец и возлюбленный (прошу прощения, жених). Сначала я, конечно, увидел твои черты в лице твоего отца, и у меня возникло странное чувство, будто если я заговорю с ним, ты меня услышишь. Если я скажу: «Вернись домой, Эвангелина!», его рот откроется, и раздастся твой смех, и твой голос произнесет: «Но я уже дома, Стимсон». После того первого впечатления реальность взяла свое. Он суров. Ты бы никогда так не сказала. Глаза у него мечут молнии, а нижняя челюсть выдается вперед, словно не потерпит сопротивления ни в этой жизни, ни в следующей. Нетрудно себе вообразить этот подбородок в гробу: там он будет подобен наковальне и никогда не разложится. В твоем отце нет ничего округлого и мягкого. От него не исходят флюиды милосердия или непринужденной дружелюбности. Он не курил и, казалось, счел личным оскорблением, что курит Остин. Он то и дело отряхивал плечи костюма от «Брук Бразерс», словно сигаретный пепел запачкал материю. Весь разговор он просидел, закинув ногу на ногу, а когда открывал рот, то смотрел на Остина в упор. Для него Локайер был (да простится мне любимое мое «соленое» выражение) не больше горошины перца на блошином дерьме.
И наконец, разумеется, твой жених. Что мне о нем сказать? Да, он великолепен. Ты, очевидно, любишь привлекающих взгляды мужчин. Разумеется, будучи невероятно успешным кондитером, он не мог не явиться в самом неофициальном и дорогом костюме в комнате. Это был ансамбль с футболкой от «Армани» и дорогущими слаксами. Но выглядел он помятым, будто спал в своих дорогих тряпках, будто не снимал их с твоего отъезда. Кажется, его зовут Роберт. Нас всех представили друг другу. А еще он напуганный, от природы напуганный. Или все дело просто в дурных новостях? Однажды ты как-то сказала, что они с Иэном большие друзья, что Иэн вас познакомил. Так что, возможно, у него двойной шок: друг мертв, невеста пропала. Он сидел почти в кататонической прострации, расставив ноги и устремив взгляд, как мне показалось, в одну-единственную морщинку на лице Остина, словно она – первая тропка на пути к тебе. Глаза у него покраснели от недосыпания или слез. Думаю, он побаивался твоего отца, и, наверное, ему мучительно было предстать такой развалиной перед будущим тестем.
Первым, обращаясь к Остину, заговорил твой отец:
– Мне нужны ответы.
– Разумеется.
– Если я получу нужные ответы, необходимость в дальнейших наших беседах отпадет. Я намерен взять это дело полностью под свой контроль. Более того, я настаиваю.
– Прекрасно. – Одну руку Остин упер себе в бок, в другой держал на весу сигарету. – Ни в коей мере не стану вас отговаривать.
– Хорошо. – Твой отец кивнул.
Тут показалось, что твой жених всплывет из недр дивана, чтобы внести свою лепту, но твой отец продолжил:
– Что именно она там делает?
Остин повернулся к своему продюсеру. Скрестив руки на груди, Локайер бросил на твоего отца умоляющий взгляд, на меня такой никогда не обращался. Отец на него не среагировал. Он не спускал глаз с Остина.
– Она условилась о встрече с неким Йоном Торгу. Мы хотели взять у него интервью.
– Почему?
– Он считается главой организованной преступности в Восточной Европе.
Твой отец продолжал буравить Остина взглядом.
– Вот как? Значит, вы послали мою дочь одну и без сопровождения искать этого человека?
Остин снова повернулся к Локайеру. Руки Локайера напряглись, обхватили тело, словно внутри у него закручивали болты и гайки.
– Такова стандартная практика.
Когда твой отец выстрелил в Остина следующим вопросом, его лицо побагровело.
– Могу я спросить, сколько вы платите моей дочери, чтобы она ездила в Европу искать главарей гангстеров?
И опять Остин повернулся к Локайеру, а Локайер без тени стыда – ко мне, словно я (наименее оплачиваемый из всего штата сотрудников) выписываю чеки.
Я был только рад услужить:
– Чуть меньше шестидесяти тысяч в год.
– Нет, конечно же, нет, – вмешался Остин с намеком на праведное возмущение.
На такое проявление недоверия Остина глаза Локайера расширились. Он поспешил меня поправить:
– Этот человек лишь ассистент по производству. Откуда ему знать? Полагаю, ближе к шестизначной цифре.
Но твой отец хорошо подготовился.
– Пятьдесят пять тысяч в год, сэр, – как и прежде, он не сводил глаз с Остина. – И за эту мизерную сумму вы послали мою дочь на возможную смерть в Румынию.
Откашлявшись, Остин затушил сигарету в кружке со снеговиком Фрости.
– Не так быстро. Мне бы хотелось сказать пару слов в нашу защиту. Мы все восхищаемся вашей дочерью, обожаем ее. Если сказанное вами правда, значит, ей чудовищно недоплачивают, и когда она вернется, мы исправим ситуацию, но пока давайте сосредоточимся на насущных проблемах. Согласны? – Остин бросил на Локайера взгляд, полный неприкрытого презрения. – Вам следует знать, мистер Харкер, что я в полной мере беру на себя ответственность за произошедшее. В случае необходимости мы сами поедем в Румынию. Скажу даже, что мой коллега, мистер Локайер, сегодня вечером вылетает в Бухарест? Верно, Билл?
Локайер кивнул, словно только на минуту заскочил в офис по пути в аэропорт, словно ложь Остина есть непререкаемая истина, и ввернул свое любимое словечко:
– Абсолютно.
Но твоего отца это не умилостивило.
– Где точно в последний раз появлялась моя дочь?
Остин проделал теперь уже механический поворот к Локайеру, который еще переваривал свои новые «планы». Отвечая, он каждое слово произносил почти с праведным возмущением:
– Гостиница в городе Брасов. Она оставила мне сообщение на голосовой почте из номера, в котором она поселилась, а затем выписалась почти сразу же. В гостинице она провела не больше часа. В сообщении говорилось, что довольно долгое время она будет занята переговорами. Она с кем-то встретилась, мы не знаем точно, с кем именно, возможно, с нашим гангстером или с одним из его людей. И они уехали вместе. С тех пор от нее никаких известий. Прошло уже две недели.
– Вы поощряли столь опрометчивое поведение?
Я видел, как по лицу Локайера разливается паника: во всем винят его.
– У нас не было шанса поговорить, но я бы посоветовал ей быть осторожнее.
– Мне нужны номера телефонов и факсов, – в ярости прервал его твой отец. – Названия каждого места, где она останавливалась или намеревалась остановиться.
Остин тоже сделал возмущенное лицо – словно из сочувствия. Локайер пообещал, что все достанет.
– Вам пришло в голову попросить кого-нибудь в гостинице передать ей личное сообщение?! – внезапно вскричал твой жених. Воцарилась гробовая тишина. Из глаз у него побежали слезы. – Я хочу сказать, электронная почта, телефоны… Господи. Надо выходить на конкретных людей. Вот что надо делать. Вы можете дать взятку? Пригрозить? Вы пригрозили этим сволочам, что в гроб их загоните?
– Всем, чем возможно, – с мягкой убежденностью отозвался Остин, хотя я и сомневался, что это ложь. – Все это мы перепробовали и даже больше.
– Сколько денег у нее было при себе? – пожелал знать твой отец.
Я знал.
– Около тысячи долларов мелкими купюрами плюс кредитная карточка.
– И обручальное кольцо, – вырвалось у жениха.
Твой отец уставился на своего будущего зятя.
– Будь я проклят. За него же могут убить.
В комнате все застыло, если не считать тиканья часов с кукушкой, подарок Остину от мэра какого-то немецкого города. За стеклянной стеной кабинета ассистенты подняли головы, словно напуганные выстрелом лани.
– Вы хотите сказать, она из-за меня погибла? – испуганным и молящим тоном спросил жених.
– Нет, мальчик. Я виню вот этих сукиных детей. Не сомневайтесь. Будьте уверены, на их головы я обрушу все то же, что обрушилось на нее.
– Ну же, ну же. – Остин помахал рукой с сигаретой, словно разгонял не только дым. – Нам такие разговоры ни к чему, мистер Харкер. Она – ассистент продюсера в программе «Час», одна из лучших. И я все еще всецело верю, что она не выходит на связь из-за конфиденциальных переговоров с Йоном Торгу и сейчас уламывает его принять участие в программе. Насколько я знаю вашу дочь, и если она хоть сколько-нибудь похожа на своего отца, она не остановится, пока не добьется своего.
– От нее нет вестей уже две недели, – отозвался жених. – Вы думаете, есть хотя бы тень надежды, что идут переговоры?
Остин убедительно кивнул.
– Я когда-то знал продюсера, который три месяца бодался с главарем афганских боевиков.
Твой отец встал.
– Как бы то ни было, я нанимаю команду очень серьезных ребят, чтобы они поехали в Румынию, и если они вывезут ее живой, я потребую, чтобы она нашла более выгодное место работы и такое, где не будет трусливых подонков. Черт побери, ребята, если девчонка таскает для вас каштаны из огня, хотя бы платите ей.
Тут у меня за спиной возникла на пороге монтажер Джулия Барнс. Она легонько тронула меня за плечо, и я поднял голову.
– Очень срочно, – шепнула она мне на ухо.
Но Остин уже ее заметил:
– В чем дело? – поинтересовался он.
Джулия наградила всех сочувственной улыбкой. Мне показалось, она в точности знает, что происходит в кабинете. Возможно, подслушивала. Насколько мне известно, подслушивать она умеет лучше всех в нашем офисе.
– Звонил Клод Миггисон, – сказала она. – Ему сообщили, что из Румынии прибыл кейс с пленками.
Ужас и облегчение воцарились в комнате. С минуту никто не смел заговорить. Твой жених вскочил с дивана.
Джулия поняла нашу озабоченность.
– Вероятно, они от Эвангелины, так? Никто больше сейчас в Румынии не снимает.
– Но это же бессмыслица, – возразил Локайер и быстро обернулся, словно оправдывался перед Остином и перед остальными. – Она поехала без съемочной группы. – Он снова резко развернулся посмотреть на Джулию. – Кто снимал?
– На посылке только одна фамилия – Олестру. Возможно, это старший оператор в группе «А», но раньше мы ни с кем по фамилии Олестру не работали. Я проверила по платежным ведомостям.
Локайер побелел как смерть.
– Так зовут нашего информатора в Румынии.
Кулак твоего отца бухнул о стол Остина.
– Да наведите же у себя порядок, наконец!
– Совершенно верно. – Остин повернулся к Локайеру. – Ты уволен.
Локайер уставился ему за плечо на реку, рот у него раззявился, будто он случайно прошел через стеклянное окно Остина и только сейчас осознал свою ошибку. И действительно, он только что шагнул в свободное падение безработицы.
– Твои услуги больше не требуются. – Остин глядел в пол. – К сожалению.
Встреча завершилась.
19
Э., меня только что стошнило в раковину в мужском туалете. Остин видел, но мне наплевать. Нет смысла затягивать эту шараду. Ты не ведешь конфиденциальные переговоры, нет, ты просто не можешь ответить. Посылка из Румынии подтверждает худшие мои страхи. Сам я не смог посмотреть пленки, но Джулия говорит, на них нет ничего. Она сказала, кто-то отснял на десяти пленках одинокий стул в пустой комнате. Только вообрази себе! Пять часов кошмарного стула. Микрофон записал смутные шепотки. Миггисон полагает, это лишь помехи, но не уверен, был ли в съемочной группе инженер по звуку. Освещение неплохое, значит, кто-то свое дело знает, но свет падает на деревянный стул в пространстве, которое ничего нам не говорит. Он может стоять где угодно. На меня накатывает отупение, Э. Если есть на свете небеса, я чувствую – ты там, с Иэном.
Стимсон, ты тут? Это я, Эвангелина.
Э., о боже! Где ты, черт побери? С тобой все в порядке?
У меня все хорошо. Я же оставила сообщение на голосовой почте. Переговоры прошли успешно. Вы мои пленки получили?
Да, получили, но такое впечатление, что произошла какая-то кошмарная накладка. Ну да не важно, главное, ты жива. Мы в штаны наложили от страха. Твой отец приходил. Локайера уволили. Скажи, где ты сейчас!
Пленки приняли, Стим?
Прошу прощения за мой французский, Э., но на хер пленки! Мне нужны координаты, номера телефонов, что угодно. Мы за тобой приедем.
Это пока подождет. Сейчас скажи мне кое-что. Мне очень нужно знать. Пленки крайне важны, и все должны их посмотреть прежде, чем мы начнем делать репортаж. Их приняли?
Да, Клод Миггсон за них расписался и внес их в журнал, а потом, насколько мне известно, отдал их на хранение Джулии Барнс. То есть он их принял. Но Джулия говорит, на пленках ничего нет. Понимаешь? Ничего, кроме стула. Дай мне хоть что-нибудь. Место назови. Скажи, что с тобой все в порядке.
У меня все хорошо, Стим. Пожалуйста, прости меня, что задержалась с ответом. Недели выдались напряженные. Пожалуйста, пойми, это были самые тяжелые переговоры, какие мне только приходилось вести для программы. Мы имеем дело с преступным гением, чьи требования исключительно запутаны, но он выразил желание рассказать нам свою историю прежде, чем сдастся американским властям. Правительство его собственной страны жаждет его смерти, и потому наш репортаж будет его страховкой против покушения. У него эксклюзивная информация по терроризму, организованной преступности в России и контрабанде ядерного оружия. По этой причине я еще довольно долгое время буду занята секретными переговорами. Я уже поделилась этими сведениями с начальством и тебе рассказываю только потому, что ты был таким милым и послал мне записку, где писал о своей привязанности, и мне хочется ответить тебе доверием. Никому не говори, что мы переписывались.
Ты отвечаешь мне взаимностью?
Да, но, возможно, не той, какой ты желаешь. У меня нет времени на чувства, но мне нужен друг и союзник в великом деле, за которое я взялась. Это будет сюжет, какого еще не снимали и не показывали, и по плечу он только сильнейшим и лучшим. Эта работа уже изменила меня, дорогой друг, и, уверена, изменит и тебя тоже, если ты согласишься на все, что я скажу. Ты мне верен? Вот о чем я спрашиваю себя. Вот на что я надеюсь. Твоя коллега
Эвангелина Харкер
Книга III
ЧТО НА ДУШЕ У КОРРЕСПОНДЕНТА
20
5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Худшее в ведении этого терапевтического дневника – ритуал задергивания занавесок. Всякий раз, когда меня тянет писать, нужно делать вид, что я лег подремать и задергивать занавески на окне во всю стену. От этого выглядишь таким чертовски старым… а поскольку я кажусь старым, то и чувствую себя старым, чувствую себя виноватым, а мне противно чувствовать себя виноватым в том, что мне велел делать очень дорогой врач с Парк-авеню. Да еще Пич подозревает, что за занавесками творится что-то мерзкое. Она считает, что я злоупотребляю перкоцетом [4]4
наркотический анальгетик.
[Закрыть] , и пытается ограничивать меня.
Следует с самого начала внести ясность: у меня масса возражений против этого дневника. Первое и главное – вас ввели в заблуждение. Никакого нервного срыва во время интервью у меня не было. Выражение «нервный срыв» крайне преувеличено. Просто я по непонятной причине потерял дар речи. Словно бы все тело онемело. Интервьюируемый занервничал, и когда, увидев, что ему не по себе, я встал, чтобы его успокоить, то споткнулся о шнур. Это и расценили как коллапс. Прошу принять во внимание мои объяснения. Коллапс подразумевает недееспособность, а она в свою очередь – манию. Я в здравом уме, и не важно, что думает моя компания. Мой босс, Боб Роджерс, подозревает, что администрация нашей телесети распускает эти мухи, чтобы подорвать авторитет «Часа». Ведь это от них информация просочилась в прессу.
Но я забегаю вперед. Во-первых, чтобы этот дневник был вам понятен, доктор Бантен, и чтобы вы могли точно установить, сказывается ли атмосфера в офисе «Часа» на моих умственных способностях, мне кажется, следует развеять несколько заблуждений относительно моей роли в программе. В частности, однажды вы спросили, не являюсь ли я самым могущественным человеком в мире новостей. Вопрос выдал глубочайшее невежество, которое, впрочем, понятно, учитывая непреходящий успех нашей программы. Как вы заметили, мы снесли полтора десятка голов, помогли попасть в Белый дом по меньшей мере одному президенту и внесли свой вклад в пару-тройку политических смертей. Я лично способствовал отмене нескольких смертных приговоров. Но видимость обманчива и не дает ясного представления о моей роли во всем этом. Более того, боюсь, что без соответствующего введения в запутанную и одновременно порочную дарвиновскую экосистему, в которой прошла большая часть моей профессиональной карьеры, вы будете склонны приписать мой предполагаемый «коллапс» расхожим представлениям о последствиях теракта 11 сентября, и диагноз, который уже маячит на горизонте, я категорически и всецело отвергну.
Как вам известно, я корреспондент. В печатных СМИ этот термин является синонимом репортера. В нашем бизнесе, в вещательном телевидении, словом «корреспондент» обозначают того, кто появляется на телеэкране. Я был одним из тех счастливчиков, кого свет камер омывал четыре с половиной десятилетия, с начала шестидесятых: десять лет как новостной корреспондент телесети, еще тридцать – как известное на всю страну лицо программы под названием «Час», которая, как вы однажды признались, ваша любимая на телевидении. Ради абсолютной ясности и на случай, если вы не знаете, у «Часа» самый высокий рейтинг на американском телевидении. Так было с тех пор, когда он первым установил формат журнала в том кошмарном 1968-м, когда убийства и покушения, расовые беспорядки, война и рок-музыка захлестнули время, обычно отводимое под новости. За последнее десятилетие или около того в «Часе» было пять постоянных корреспондентов, пять физиономий, известных миллионам зрителям. Самую дурную славу снискал Эдвард Принц, задрипанный охотник на политиков этой страны, которого, по вашим утверждениям, вы обожаете. Далее – ваш покорный слуга, затем – любимец всей страны, Сэм Дэмблс, наш мистер Крутой; Нина Варгтиммен, единственная дама, появлявшаяся в мини-юбке в шестидесятых (увы!); и самое недавнее пополнение – Скиппер Блэнт. Вопреки расхожему мнению, корреспонденты в «Часе» не властелины вселенной, полностью контролирующие свои судьбы, но и не просто марионетки, которых дергают за ниточки, впрочем, их нельзя считать самостоятельными полевыми журналистами, работающими на местах.
В подборе сюжетов каждый корреспондент полагается на отдел из восьми человек, который состоит из четырех команд по два продюсера в каждой. Я говорю про продюсеров, а вы, вероятно, понятия не имеете, что значит это слово в нашем контексте. Продюсер – это тот, кто превращает информацию в образы, разновидность журналиста, который почти все часы бодрствования занят потоком видеоряда. Без картинок и видеоряда на телевидении не бывает. Без иллюстраций слова дохнут, как кальмары на пляже, поэтому в «Часе» продюсерам платят, чтобы они были хорошими визуальщиками, а не журналистами. Для скрупулезной рутины у каждого продюсера есть подчиненный, называемый ассистентом продюсера: молодой коллега с меньшим опытом, который придумывает или подыскивает сюжеты, проталкивает их, а после выезжает на место событий, убедиться в журналистской достоверности и вещательном потенциале своей идеи. Как правило, заместители продюсера играют роль первого привратника нашей программы. Если они почуют неприятности, никого больше они не коснутся. (Отвлекаясь от темы, упомяну еще одну касту, не играющую особой роли в моем повествовании, она еще менее известна широкой публике. В своих трудах продюсеры полагаются на трудяг, которых мы именуем ассистентами по производству. Эти молодые профессионалы подбирают вспомогательный материал, старые пленки, отснятые предыдущими съемочными группами, зачастую других сетей, а после выбивают лицензии и разрешения на их использование. Это малооплачиваемая тяжелая и нудная работа, и в результате ассистенты по производству обычно едва сводят концы с концами. Зачастую это ведет к горечи и готовности шепнуть что-нибудь о нас прессе или кому-нибудь в администрации сети. В основном эти ассистенты очень молоды, поскольку молодые не сознают реальной ценности своего времени, и их желание быть частью такого бренда, как «Час», можно безжалостно эксплуатировать.)
Вышеизложенная информация должна послужить вам ключом к пониманию дальнейшего. Без него вам ни за что не понять, почему некие события на двадцатом этаже вынудили меня обратиться к вам, доктор Бантен. Мое собственное испытание пришло в облике трудов, в вере самому себе и в историях, которые мы рассказывали последние тридцать лет наперекор вздымающейся волне цинизма и безвкусицы.
Как мы делаем репортажи? Когда наши продюсеры и их съемочные группы отсняли достаточно, мы направляемся в монтажную. В «Часе» свой штат монтажеров, лучших в индустрии новостей, имеющих свой профсоюз мужчин и женщин, которые резали и склеивали пленки с незапамятных времен. Из-за разницы в оплате и, следовательно, в социальном статусе многие продюсеры считают монтажеров низшими существами. На их взгляд, от последних несет синими воротничками. Для меня они в сравнении с продюсерами, что ангелы в сравнении со смертными. И ангелов надо вымаливать. Корреспондентам приходится валяться в ногах у сварливого брюзги по имени Клод Миггисон, который распределяет время, и выпрашивать у него любимых монтажеров, а если те заняты, если с ними вознесся другой корреспондент, получать худших из лучших. Я готов признать, что не стану работать с кем попало. Вот насколько важно добиться расположения. Хорошего монтажера следует окружать заботой и похвалами, соблазнять вином и шоколадом под Рождество. Это утомительно и достойно презрения, но – правда. За монтажерами нужно ухаживать как за капризными женщинами, у которых каждый день на уме другое. А когда они упадут вам в объятия, подавлять, баловать, а иногда и резкой оплеухой ставить на место.
Но я отклонился от темы. Как-то вы спросили, как мы выпариваем из сотен часов отснятого материала те несколько минут, которые выйдут в эфир. Ответ прост. Монтажер совершает фокус, технический эквивалент старинному номеру с шарфом, когда фокусник показывает публике один красный шарф, машет своей палочкой – и хлоп, смотрите, из шляпы шарф появляется связанный с двадцатью другими. Каждую пленку или кассету из видеокамеры редактор заправляет в машину, которая переводит материал в цифровые файлы (как мы говорим, его оцифровывает), и когда все готово, отдельные пленки превращаются в единый шарф. Если мне будет позволена толика поэзии, в нашей системе этот заколдованный шарф картинок превращается в реку, которая в конечном итоге впадает в огромный океан образов, доступных нам на компьютерах, океан, охватывающий весь мир, океан, в котором мы купаемся, как счастливые полинезийцы.
В магические часы, когда идет монтаж, мы, полинезийцы, отбираем лучшее и выстраиваем его в двенадцатиминутный репортаж. Отдельные эпизоды мы накрепко увязываем веревками слов, которые называем сценарием. Но сценарий обманчив, иногда сбивает с толку, и тут я должен кое-что прояснить. В «Часе» всегда на первом месте были интервью. Мы не специализируемся на красивых крупных или панорамных кадрах, наплывах камеры, музыкальных интерлюдиях, на чрезмерных словоизлияниях или излишках вспомогательного материала. Кровь и плоть нашей программы – нутро людей, которых мы показываем. Когда ассистенты продюсеров отправляются подыскивать героев для интервью, я намертво им вбиваю в голову, что необходимо подыскивать замечательные «персонажи». Да, доктор Бантен, персонажи, совсем как в романе или новелле. Вот как я вижу свою работу: я хроникер мелких видеоновелл этой жизни. Вероятно, поэтому я все принимаю близко к сердцу. Вероятно, поэтому я в конечном итоге был вынужден искать вашей профессиональной помощи. Опираясь на труд продюсеров и монтажеров, я творю мои новеллки, подстригая, подверстывая, лакируя и полируя, пока не заиграет каждый кадр, урезая интервью до самых вкусных моментов человеческих безрассудств и эмоций, пока мы не будем готовы показать нашу работу истинным властелинам программы – моему боссу и его заместителям.
Вот вам и ответ на ваш абсурдный вопрос. Являюсь ли я самым могущественным человеком в мире новостей? Определенно нет, подчеркиваю, нет, если под властью вы подразумеваете возможность делать что пожелаете, когда пожелаете и не считаясь с расходами – лишь такой властью стоило бы обладать. Но эта честь принадлежит человеку по имени Боб Роджерс, основателю нашей программы и уже более тридцати лет ее директору. Лишь Боб Роджерс, опираясь на советы своих талантливых и ядовитых лейтенантов, утверждает или отвергает идеи репортажей и интервью задолго до того, как их снимет съемочная группа. Боб Роджерс отсматривает конечный продукт в смотровом зале и с вульгарностью чуть большей, чем у императора Древнего Рима (если не считать четырех-пяти сносных), или поднимает большой палец или его опускает. Грустно думать, сколько замечательных работ было зарублено из-за несварения желудка нашего директора, но должен признаться, что несказанное множество его капризы улучшили. Вывали случаи, когда лейтенанты Роджерса бились с ним в святая святых и одерживали победу, бывали гражданские войны, гибли карьеры, но из тех баталий выходили лучшие наши программы. Роджерс – наипротивнейшее существо, достойный баловень судьбы, но было бы низостью не признать, что моими скромными достижениями я обязан ему. Без Роджерса никого из нас тут бы не было, доктор. И тем не менее он безумен и коварен настолько, что вам в страшном сне не привидится.
И последнее перед тем, как я приму еще таблетку перкоцета от боли в спине и провалюсь в дрему. Роджерс, возможно, влиятелен, но не всемогущ. Тридцать лет он боролся с руководством телесети за контроль над этой маленькой передачей, у которой есть свои офисы на двадцатом этаже здания в центре Нью-Йорка, и которая отделена от основной корпорации, ведь остальные собраны в запутанном и кошмарном термитнике в нижнем конце Гудзон-стрит. Мы называем это место вещательным центром и постоянно чувствуем обращенное против нас оттуда злобное давление. Тридцать лет телесеть пыталась утащить Роджерса назад, в свою трясину, диктовать условия, даже отобрать «Час» и придать ему более молодежный характер, и столько же лет благодаря феноменальному рейтингу Роджерс умудрялся отражать нападки врага. Но, да будет вам известно, в значительной степени мой стресс проистекает из малоприятного ощущения, что мы понемногу проигрываем битву. Роджерсу за восемьдесят, и он не вечен. Старость подкрадывается ко мне, к Принцу, даже к Дэмблсу. И сеть видит, сеть знает. Когда пробьет час, она ударит без жалости, отмщение будет скорым и ужасным, и корпорация отберет все, что мы построили, чтобы отдать пещерным людям, дуракам, корыстолюбцам и развратникам.
Ну вот, теперь я официально депрессивен. Благодаря вам, доктор. Конец.
Тротта.
5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОЗЖЕ УТРОМ
Вот что гнетет меня сегодня утром: разговор с Эвангелиной Харкер перед ее отъездом в Румынию. Брал ли я хотя бы раз во Вьетнам оружие? Ей очень хотелось знать. Она сказала, что жених спросил ее, а она не знала, что ответить, но у меня возникло такое чувство, что тут кроется нечто большее. Она тревожилась из-за поездки. Она опасалась осложнений. Обычно я не люблю говорить о том времени, но она милая девочка, и я ответил на вопрос. Я сказал, что оружие при мне было лишь однажды. Это было в Кхе-Сане. Как-то раз мне посоветовали взять для самозащиты пистолет, и я послушался. Тот же человек сообщил, что некие элементы в контингенте США могут попытаться подстроить несчастный случай. Я так и не узнал правды, но пистолет до чертиков меня напугал. Не знаю почему, может, потому, что я был готов пустить его в ход. С тех пор я никогда не брал в руки оружия. Больше Эвангелина вопросов не задавала. Я спросил, тревожит ли ее что-нибудь конкретное, она ответила: «Нет».
Неприятная история. Пришлось расстаться с Локайером. Ничего другого мне не оставалось. Как шекспировский Шейлок, Харкер желал свой фунт мяса. Но нам нужны перемены, даже наименее экипированным. Локайер начинал на радио и может туда вернуться. А мне свежая кровь не помешает.
Перерыв на завтрак. В столовой пахнет беконным жиром, и, надо признать, я полюбил эту вонь, позорное удовольствие, которое с годами только растет. Я всегда был из евреев-свиноедов, хотя раз за разом пытался отказаться от бекона и вообще ем не всякую свинину. Несмотря на манящий аромат, я, например, не стану есть столовский бекон. Валяясь на жестяных сковородках, он сам против себя наилучший аргумент. Я заказываю отбивную из ресторана «Оттоманелли». Но для мамы не имело бы значения. Свинина есть свинина. Она бы из себя вышла.
Ха, ведь это поистине терапевтический дневник! Я уже упомянул маму и свинину. Если быть честным, столовая – единственное место на этаже, где мне неподдельно комфортно. Никакой чепухи там нет. Все хотят одного и того же. Пропитания.
В столовой сталкиваюсь с Роджерсом. Хотя я тридцать лет в его команде, все равно ощущаю давление его авторитета – впрочем, теперь это скорее привычка, чем страх. Что уж теперь-то он может мне сделать?
– Слышал?
– Что именно?
Боб укоризненно качает головой.





![Книга Вампир — граф Дракула [редакция 1912 г.] автора Брэм Стокер](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-vampir-graf-drakula-redakciya-1912-g.-69978.jpg)

