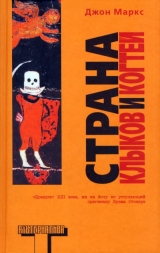
Текст книги "Страна клыков и когтей"
Автор книги: Джон Маркс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– Собираются устроить расследование в связи с исчезновением этой Харкер. Сеть требует.
– Ерунда. Это не их дело.
Боб согласно кивает, но он еще не закончил:
– Что бы они ни заявляли, верить им становится все труднее. Но ты говорил, что вроде тоже что-то слышал и что это чепуха?
Никакие слухи до меня не доходили, и это до чертиков меня напугало. Боб за свой банан не заплатил и пошел за мной во тьму коридора.
Двадцатый этаж всегда был чересчур затененным, и я вечно об этом вспоминаю после Дня Труда, когда золотые выходные отошли в прошлое, и осталось лишь примириться с потерей. Какими же счастливыми, помнится, мы были со Сью всего полтора месяца назад, когда наступил перерыв. И французское лето лежало передо мной свежее, как одна шлюха, которую я знал в шестьдесят восьмом в Праге. Но шлюха была чьей-то осведомительницей, а корреспондент «Ассошиэйтед Пресс», с которым я позже познакомился в Алжире, сказал, что она переехала в Советский Союз и родила шестерых детей от инженера из Восточной Германии. Она была красавицей. Уверен, не настоящей шлюхой. Все те люди мертвы, канули в Лету, а ведь я так хорошо их помню. Ее звали Сикстина, и она была убежденной коммунисткой.
Из воспоминаний меня вырвал голос Боба:
– Я о Румынии с тобой, черт побери, говорю.
– У меня овсянка остыла.
Он пожал плечами. Я пожал плечами. Он всегда пожимает плечами. Пожимает плечами и улыбается столько, сколько я его знаю – почти полвека, – так он посылает сигнал угрозы.
– Вот что я тебе скажу. У меня каждый год одно и то же чувство: надо было свалить еще год назад. Вот такие происшествия напоминают мне, что и помимо новостей есть жизнь.
Взглядом я пытаюсь сказать, что сейчас мы пересекли грань, завели совершенно бессмысленный и пустой разговор, что мне пора возвращаться в кабинет, где у меня есть дела поважнее, чем вдыхать новую жизнь в старую ложь. Никто по своей воле из «Часа» не уходит. И от затишья тоже не отказывается. Затишье – само слово как бальзам на сердце. Никто больше в журналистике его не употребляет. Шесть недель отпуска посреди лета, шесть недель безделья, сладкой меланхолии, шесть недель делаешь вид, будто ты кто-то другой, что-то другое, нежели призрак, который каждое воскресенье сидит перед камерой и со скрытой угрозой улыбается двадцати миллионам телезрителей. Мы, как маленькая европейская страна, застрявшая на одном этаже одного здания в Манхэттене, и самость наша основана на ином восприятии времени. И мы обречены. Сказав про двадцать миллионов, я преувеличил. Рейтинги давно уже не так высоки, скорее пятнадцать миллионов или меньше, вернее будет сказать шесть. Вся наша сеть умирает, но мы – ее последний вздох, и еще способны иногда отхватить приличный рейтинг.
Пять недель назад я сидел под зеленой шпалерой на винограднике в Камарге и ел rillettes d'oie [5]5
гусиный паштет (фр.).
[Закрыть] на куске теплого хлеба с хрустящей коронкой. А сейчас я снова в аду. Дойдя до кабинета, я рухнул в кресло, но Боб остался стоять у двери: одна рука в кармане, другая тычет в меня бананом, который, как я знал, никогда не попадет ему в рот.
– Мне пора волноваться? Вот о чем я хотел спросить.
Ну что ему сказать? Удача всегда была тайным гением этой программы, Боб, и на данный момент она от нас отвернулась. Но вслух я этого не произнес.
– Я обращался к юристам, – снова начал он. – И Ритцмен говорит, что вину могут возложить на программу. Какую вину? В чем? Ты-то хоть знаешь, что он имел в виду? Потому что я ни черта тут не понимаю.
Пришлось ответить. Иначе он ни за что не уйдет.
– А мне откуда знать, Боб? Эта хреновая ситуация, я даже не знаю наверняка, чем нам это грозит, но виновны? Юристы жиреют на страхах, и ты это знаешь. А пока давай не будем забывать, что пропал человек.
Такой призыв к порядочности его возмутил.
– Это же ты ее туда послал, скотина.
– Можно мне теперь позавтракать?
В последний раз пожав плечами, он отступил. Звонил и звонил телефон. Пич крикнула, чтобы я взял трубку. Не могу ее винить. В такой ситуации она не хочет быть на передовой линии обороны, но ведь не мне за такое платят, а ей. Лучше подождать. Лучше собраться с духом.
Даб Харкер, отец Эвангелины, похоже, хочет кусок моей шкуры, но поостерегся бы он… Не в обиду девчонке, но ее папаша ужасный позер. Разыгрывает из себя Джона Уэйна, но никакой он не Уэйн: Уэйна я знал, и никакого утомительного самодовольства или развязности в нем не было. Джентльмен до мозга костей, разве что когда напивался, заводил про коммунизм и утверждал, что Сталин приказывал его убить, а когда человек в такое верит, над ним не посмеешься, иначе тебе самому мало не покажется – уж вы мне поверьте. Я никогда над ним не смеялся, но пил с ним не раз. Может, Сталин и правда приказывал его убить. Уэйн говорил, что полиция Лос-Анджелеса расстроила покушение и дала бы ему прикончить красных, но он решил, что Дж. Эдгар и так хорошо справляется, и не стал вмешиваться. Даже в суд не подал. У Уэйна был класс, даже если он был не в себе.
А Даб Харкер – подделка под Уэйна. Даб – нефтяник, который вырастил красавицу-дочь? Не вешайте мне лапшу на уши, имя ненастоящее. Скорее всего его зовут Теренс или Перси, или даже Себастиан, но он с таким именем жить не смог, не вынес насмешек, а я, уж поверьте, знаю, как это бывает: попробуйте быть Остином Тротта лет в десять, примерьте на себя, прикиньте, как быстро Тротту можно превратить в рвоту (скажу – секунд за пять). Поэтому он выбрал имя Даб, или, скорее, так его прозвали работяги с нефтяных полей, и кличка прилипла. Техасцы считают, что они во всем мире свои. В жизни не встречал техасца, который не считал бы себя вправе везде расхаживать по-хозяйски, вот и этот явился ко мне без приглашения, в этом он в дочь пошел. Но сейчас ты, черт побери, не с тем евреем связался. Ты имеешь дело с потомком габсбургских евреев, получивших дворянство в годы угасания императора Франца Иосифа – еще не было более крепкой, злой породы, чем эти евреи из черты оседлости у границы с Россией, где они пережили казаков, чуму и поляков. К чертям Джона Уэйна. Я тебе так врежу, Харкер! Выставлю посмешищем в твоем «Далласком нефтяном клубе», выставлю тебя неудачником, позером, мошенником, каким ты и являешься. Вот уж точно Даб Харкер. Но ты вырастил отличную дочку. Это было непросто, но ты справился, а потому назовем это техасским перемирием. Перерывом на овсянку.
– И тебе следует знать еще кое-что.
Опять Боб. Не прошло и пяти минут, как вернулся. Меня начинает подташнивать от овсянки. Снова вернулась боль в спине.
– Не хотелось говорить при всех в столовой.
– Что еще?
– Вся эта румынская ситуация кажется мне подозрительной.
– О Господи Боже…
Боб закрывает за спиной дверь.
– Что, если сеть все сварганила, лишь бы использовать ситуацию против меня?
Эти кошмарные глупости я уже слышал.
– Что сварганила? Похищение и возможное убийство собственной служащей?
– Ставки очень высоки, Остин.
– Да нет, ты, верно, шутишь.
– На сей раз не знаю.
Он пожимает плечами. Он и не собирался острить. Молния пронзает мне поясницу. Бомбы разносят деревни по обе стороны позвоночника. Пора лечь. У Пич есть перкоцет.
– Может, я выжил из ума? Да нет, черт побери, знаю, что выжил. Но слишком уж странные, на мой взгляд, совпадения. Как раз когда наш рейтинг падает, как раз когда сеть заговаривает о том, что зрители программы стареют, исчезает девчонка. Конечно, я сомневаюсь, что все так увязано, но слишком уж удобно получается, и будь я проклят, если они ее против меня не используют.
Нужно опустить жалюзи, осторожно лечь на диван и провалиться в забытье. Пожалуйста, Пич, принеси перкоцет. До Боба наконец доходит:
– Господи, да ты в худшем состоянии, чем я.
– Поясница.
– Поговорим позже.
Действительно пора вздремнуть, оправдать задергивание занавесок. Боль прокатывается по спине, как Гитлер по Франции. Ваш терапевтический дневник, Бантен, облегчения не приносит.
6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК, 10:15
На мне счастливый габардиновый костюм. Может, сегодня услышу хорошие новости. Пришел поздно, словно бы в тумане, и тут же назойливая записка. Джулия Барнс хочет поговорить. Срочно. Мой девиз – всегда выкрой время для монтажера, но какая у нее, черт побери, срочность? Я хотя бы раз просил монтажера о встрече? Не нужно ей договариваться о приеме. Могла бы просто прийти. Но лучше бы не приходую. Она работала с Эвангелиной над сюжетом о клоуне с родео. Может, у нее есть какая-то догадка, зацепка. Хочу ли я слушать? Ночью почти не спал. Пора принять перкоцет. Выручай, счастливый костюм!
6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК, 16:00
Судьба Габсбургов наконец меня настигла. Мудрый предок, ты повернулся спиной к тому миру, нужна мудрость, а неудача, как ты всегда говорил. Рак костей тебя все-таки прикончил, но не нацисты. Рак костей, осложнение рака простаты, но ты прожил долгую жизнь и спас нас от истории, уехав из империи Габсбургов в двенадцатом году. Еще два года, и тебя призвали бы в армию, и наша история закончилась бы, как и у остальных Троттов – пулей между ушей, а не в этом комфортабельном орлином гнезде на двадцатом этаже, на воздушных потоках Америки, которой плевать, которая не знает ничего о мире, откуда ты сбежал, о мире, уничтоженном худшим бедствием двадцатого века. А теперь все эти несчастья гранатными разрывами путешествуют вверх-вниз по моей пояснице. Чем старше становится еврей, тем больше ему страдать.
Джулия Барнс точно призрак возникла в дверях моего кабинета незадолго до ленча. Постучала.
– Я не вовремя?
Я жестом предложил ей садиться. Она закрыла за собой дверь – неразумная показуха. Теперь все заинтересуются. В нашем маленьком мирке шепоток закрываемой двери звучит разрывами канонады. Люди вокруг навострят уши.
– В чем дело, дружок?
– Я вам когда-нибудь говорила, что мои родители венгры?
Должен признать, такое начало неотложного разговора меня заинтриговало.
– Моя девичья фамилия Телеки.
– Звучит благородно!
Она отвернулась, волосы упали ей на лоб, и она рассмеялась.
– К тому же в Ютике, ни больше ни меньше.
Я понятия не имел о ее родне, но когда Джулия про нее сказала, увидел в ее взгляде прославленный венгерский пессимизм.
– Ваша родня, насколько я знаю, тоже из тех краев.
– Верно. Польские евреи из Галиции. Подданные Габсбургов. – Достав сигарету, я забросил ноги на стол. – Не Телеки, конечно, но один из моих предков ставил перед фамилией «фон». Так тебя генеалогия сегодня беспокоит?
– Пожалуйста, не считайте меня сумасшедшей, – прокашлявшись, она понизила голос, хотя закрыла перед этим дверь. – Ремшнейдер оцифровал пленки из Румынии.
Похоже, это не моя проблема. Она что, пытается подсидеть Ремшнейдера? И в своей мелкой интрижке за чужое место хочет заручиться моим содействием? Тогда она обратилась не по адресу.
– И что с того?
Оперев локоть о стол, она опустила голову, словно шептала через решетку в тюремной стене.
– Нет никакого румынского интервью. Для румынского интервью нет даже бюджета. А без раскладки по бюджету нет и монтажера. Так почему же он оцифровывает?
Я не сумел понять, как это меня касается, если не считать смутной связи с прочими румынскими проблемами, но все равно испытал укол нервозности, будто по неведомым причинам эта информация очень важна.
– Ты уверена, что нет информации по бюджету? Должна быть.
Тут она, кажется, взяла себя в руки: села на стуле прямее и говорить стала чуть громче. В моем тоне она, очевидно, уловила сомнение, а большего мне и не требовалось.
– Я не дура, Остин. Я совершенно уверена. Нет никакого бюджета. Но дело вообще не в этом.
– А почему ты так встревожена, можно спросить?
Она залилась краской, и мне стало ее жалко. Она неделю не спала из-за того ролика с клоуном на родео, ей нужно пойти домой и отдохнуть. По моему опыту, в нашем деле бессонница – самое верное средство загубить карьеру.
Джулия словно бы собиралась с мыслями. Она талантливый монтажер и хороший человек, но и у нее есть свои пунктики. Например, она первой бросается обвинять ближних в сексизме. Я себя сексистом не считаю, хотя в прошлом меня в нем обвиняли, и без острой необходимости мне не хочется подставляться. Но ее странный пыл просто наталкивал на подозрения. Я порылся в бумагах на столе, ища пепельницу, а Джулии давая минуту передышки.
– Вот почему это важно. – Она вздохнула. – Те пленки прибыли из Румынии, хотя мы их не ждали. Наш ассистент продюсера пропала в Румынии. Насколько нам известно, она, возможно, мертва. Ладно. Это мы знаем. И вдруг Миггисон отдает мне пленки на хранение, а потом я узнаю, что их ни с того ни с сего забрали из моей монтажной и передали другому монтажеру, который не вправе их трогать, и этот монтажер их оцифровывает, словно они нужны нам для материала, хотя, как нам обоим известно, никакого сюжета не будет, и ничего на этих пленках все равно использовать нельзя. Поэтому еще раз спрашиваю: зачем, черт побери, он их оцифровывает? Почему мы не отдаем их прямо в полицию?
Что-то разумное в ее словах было, хотя логика попыток увязать две разнородные проблемы хромала. Насколько все мы знали, эти пленки могла снять какая-то другая группа нашей сети – для «Вечерних новостей» или «Восхода», и к нам они попали по ошибке. Я понятия не имел, с чего это другой монтажер пожелал их оцифровывать, но едва ли тут есть нечто зловещее.
– Если ты говоришь, что между Эвангелиной Харкер и этими пленками есть какая-то связь, мне бы очень хотелось видеть доказательства.
Тут она почти снисходительно качнула головой, голосу нее стал еще чуточку громче:
– А как быть с фамилией? Олестру? Разве Локайер не сказал, что именно так звали человека, на которого собиралась выйти Эвангелина. Или это не считается? Или я сошла с ума?
Настроение у меня начало портиться, а это вредно для давления. Сбросив ноги со стола, я сел прямо. Фамилия меня встревожит, но ведь сама по себе она не являлась доказательством.
– Еще что-нибудь, милочка? – С моей точки зрения, разговор был закончен.
Она отодвинула бумаги у меня на столе.
– Вы не слушаете меня, Остин. Пленки прибыли из Трансильвании.
Я уставился на нее с неприкрытым изумлением. А ведь это одна из умнейших монтажеров у нас на этаже. Это восходящая звезда или была ею до сего момента. А после, поняв, что происходит, я расхохотался. Она меня поддела.
– О Боже! – Слезы покатились у меня по щекам. – Господи Иисусе!
Слава богу, она тоже рассмеялась. Мы смеялись и смеялись. Мы всхлипывали. Она хлопнула ладонью по столу. На нас напали видеовампиры. Я позвал в офис Пич, и моя секретарша тоже покатилась со смеху. Так хорошо я себя целую вечность не чувствовал. Смех – величайшая форма свободы. Своеобразно, конечно, но счастливый костюм себя оправдал. А к тому времени, когда Джулия ушла, в ее взгляд вернулась венгерская тьма, и мне не хотелось знать почему.
Книга IV
«УЭЗЕР АНДЕГРАУНД» [6]6
Радикальная левая организация, в конце 70-х собиравшаяся посредством ряда терактов и разжигания беспорядков свергнуть правительство США.
[Закрыть]
21
Сама не зная как, Джулия Барнс попала из одного залитого ярким светом кабинета в другой такой же, из разговора с одним корреспондентом в разговор с другим корреспондентом, думая при этом, что ее очередной продюсер, наверное, уже вернулась в монтажную и ждет, и ее нисколько не интересуют проблемы с Харкер, разве что как сплетня, как полезная информация о невзгодах другой команды. За сплетню она получит поблажку, но небольшую. Неудачно и то, что с этим продюсером она раньше не работала, но ходят слухи о ее вспыльчивости и ужасных привычках в работе. Но от корреспондентов просто так не сбегают. Если они хотят поговорить, с ними приходится разговаривать.
Эд Принц, бывший уже не одно десятилетие коллегой Остина, машет ей заходить, а после жестом указывает закрыть дверь. Джулия неохотно подчиняется.
Принц качает головой, словно их разговор уже начался. Она ему вторит, думая, что лучше поддерживать видимость, будто они заодно, не произнося ни слова, ничего не выдавая. Он смеется, она смеется тоже. Его смех стихает, он предлагает ей сесть.
– Только посмотри на себя, – говорит он.
Она качает головой, выдавливает смешок, но его это уже не убеждает.
– Что тут смешного, милочка?
– Так. Наверное, общий идиотизм ситуации.
– Какой ситуации?
В его голос закрадываются подленькие нотки. Она отказывается подыгрывать.
– Да бросьте, Эд.
– Нечего увиливать. Никто здесь мне ничего не рассказывает. Для всех вас я как сбрендивший дядюшка.
«Ты еще более сумасшедший, чем пресловутый дядюшка», – вносит свою лепту внутренний голос Джулии.
– Меня продюсер ждет, Эд. Время поджимает.
– Лгунья.
Принц и Тротта такие разные. Несколько минут назад она пыталась уговорить второго признать грозящую всем опасность, которую она сама едва может назвать, а он отнесся к ней с безразличной снисходительностью. В отличие от большинства людей Тротта не производит впечатления зависимого человека, а если такое в нем и есть, то оно скрыто за убийственной иронией. А вот Принц, несмотря на то, что известен на всю страну, так и не нашел в себе почву для превосходства, без которого не воспитаешь истинную снисходительность. Он, как кинозвезды из старых фильмов «Метро Голден Майер», которые никогда не чураются фотографов, свои любовные истории выставляют напоказ, жаждут внимания и не стыдятся этого. Снедаемый этой жаждой, Принц считает, что его недооценивают, недоинформируют, недообхаживают, и вечно пытается получить недостающее, стремясь снискать расположение даже тех, кто вообще никакого веса не имеет. Джулия его за это любит, но и жалеет. Как можно подняться так высоко и все равно так хотеть, чтобы тебя любили? В отличие от Тротты, разыгрывающего беспутного щеголя минувших дней, не боящегося надеть аскотский галстук или вставить платок в карман пиджака, Принц брал славу на абордаж в извечном темно-синем деловом костюме банкира с Уолл-стрит. Он не курил, не пил и ел, не ища ни вкуса, ни вдохновения. Он сам звонил героям своих интервью и представлялся: «Эд Принц, репортер из „Часа“». Своим загаром он обязан месяцам на теннисных кортах Кейп-Кода, где влачил недели затишья, которое было для него жалким прозябанием без интервью. Все эти труды, казалось, должны были создать впечатление надежности, но на деле рядом с Принцем всегда ощущался зыбучий песок. В любой момент его могло засосать, и кто тогда подаст ему руку?
Только не она.
– Почему вы меня спрашиваете, Эд?
– Потому что знаю, что ты скажешь.
– Эвангелина Харкер пропала.
– Что еще? О чем ты разговаривала с полоумным старым пердуном?
Тротта моложе Принца по меньшей мере на десять лет.
– По личному делу.
– Ха!
Она решает подставить голову под топор. Лезвие все равно настигнет. Лучше уж смириться и покончить поскорее.
– Меня тревожит, что пленки из Румынии оцифровывают, когда мы ничего про них не знаем. Бюджета для интервью нет, сюжетной линии нет, но монтажер ни с того ни с сего взялся заносить отснятое в систему, которой пользуемся все мы.
Принц делает следующий шаг.
– И тебе кажется, что эти пленки имеют какое-то отношение к Харкер.
– Да, – кивает Джулия, – но у меня нет доказательств.
Принц тоже кивает. Гримасничает, словно она пыталась подсунуть ему особо глупую идею для репортажа. Берет телефонную трубку и щурится.
– И какого черта я утруждался?
Вскочив, она пулей вылетает из комнаты. Старым сволочам кажется, будто она их собственность. А вот и нет. Никому она не собственность. У нее есть жизнь помимо монтажной. Да, возможно, сейчас ее со всех сторон обложили, но у нее хотя бы что-то есть кроме работы.
Она на мгновение замирает, чтобы насладиться внезапной красотой пейзажа за окном. Над восточным берегом Гудзона пробился сквозь завесу облаков солнечный луч, свет заливает офисы на двадцатом этаже, льется в стеклянные стены роскошных приемных, омывает растения в кашпо, жалюзи, горы книг и бумаг и благодатью нисходит на ряды ассистентов по производству, которым редко выпадает сияние славы. Секретарь Остина Пич Карнэхен купается в серебряном огне. Когда Джулия была маленькой и ходила в католическую школу, она считала, что подобные природные фейерверки дело рук божьих. Теперь ей известен их истинный смысл. Они существуют для того, чтобы подчеркнуть безрадостные неизбежности бытия. Те, у кого офисы с окнами, могут наслаждаться солнцем. А те, у кого окон нет? Могут лизать обвислые задницы полубогов.
Как только она выходит из корреспондентского отдела, из света и в узкий проход, ведущий в главный коридор, смутное беспокойство возвращается. Свет вдруг меняется с тускло-белого на темно-голубой. Слева светится и гудит столовая, самое счастливое место на этаже. Но она уходит от ее комфорта, все дальше во тьму, прочь от корреспондентского отдела, и начинает формулировать план. Пришедшие из Румынии пленки напоминают ей электронные письма с вирусами. Такие она за милю видит: лживая завлекалочка про легкие деньги или похоть в заголовке так и молит, чтобы письмо открыли, лишь бы потом разнести систему в клочья. Она нюхом такое чует. Пленки нельзя пускать в общий банк данных, нельзя оцифровывать. Она положит этому конец, но сделает это не через администрацию сети, где у нее остались кое-какие друзья. Она сделает это по старинке, методами «Уэзер Андеграунд»: обманом, саботажем и, если потребуется, силой.





![Книга Вампир — граф Дракула [редакция 1912 г.] автора Брэм Стокер](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-vampir-graf-drakula-redakciya-1912-g.-69978.jpg)

