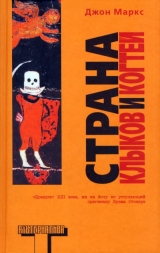
Текст книги "Страна клыков и когтей"
Автор книги: Джон Маркс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
22
У поворота к монтажным Джулия мешкает, оглядываясь на туалеты и лифты, на сдержанные приветствия у стойки охранников. Она уже прошла мимо Менарда Гриффита, их охранника, перебросилась с ним парой фраз, получила свою долю радости, словно поговорила с существом из другого, более доброго мира. Менард хороший, порядочный человек и всегда отпускает комплименты ее улыбке, которая уже давно дается ей не без труда. Но он далеко, в середине коридора, за туалетами и лифтами, а она тут, на пороге лишенных окон звукоизолированных монтажных. Всю жизнь ее обвиняли в паранойе. Она не обижалась. Вытянув шею, она принюхивается. «Я как животное, – думает она, – которое пробует воздух». И в запахе длинных дней и взаимозаменяемых ночей, затхлых духов и холодного пота она улавливает что-то еще. «Атмосфера тут изменилась, – думает она. – Все изменилось, весь этаж. Наверное, здесь витает призрак Иэна. Или еще кто-то умер. Может, Локайер, услышав, что уволен. Кто-то говорил, что он бегом выбежал из стеклянных дверей здания, весь в слезах и бормоча ругательства».
Она направляется к себе, где ее новый продюсер, наверное, уже недоумевает, куда она, черт побери, подевалась. Прагматизм Тротты заставляет ее злиться на себя саму. У нее дети подростки. У нее большая квартира в Манхэттене, и каждый день ей приходится пробиваться через пробки на машине, которой место на свалке. Она восемнадцать лет выдержала на этой работе, и нельзя разваливаться сейчас. Такое – для локайеров. Она крепче, злее, мудрее.
Приготовив извинения, Джулия распахивает дверь, и из темноты на нее бросается бледная тень в голубой военной форме, мертвенно-бледный солдат армии северян, при портупее и фуражке, из-под которой развеваются пряди светлых волос. Словно ожил документальный фильм. Джулии кажется, что она слышит звуки призрачных банджо. Не в силах двинуться с места, она испускает вопль, сердце у нее колотится, а призрак надвигается, вот-вот ее коснется. Руки поднимаются к ее горлу. Ее вопль служит сигналом тревоги. Из соседних монтажных выбегают люди. Кто-то включает лампу на столике у двери, и Джулия понимает истинное положение вещей. Солдат-северянин снимает фуражку, по плечам рассыпаются каштановые волосы, покачиваются серьги с искусственным жемчугом.
Это ее новый продюсер.
23
Несколько монтажеров с минуту пялятся на дверь в комнату, смотрят, как Джулия пытается скрыть ужас за нервическим смешком. Наконец продюсер их прогоняет. Закрыв дверь, она садится рядом с Джулией и представляется как Салли Бенчборн из команды Сэма Дэмблса.
– Здравствуй, Салли, – запинаясь, выдавливает Джулия. – Пусть мое поведение тебя не обманывает… я… я большая поклонница твоих сюжетов.
– Наверное, мне надо объяснить, – судя по всему, Салли еще более не по себе, чем Джулии. – У меня такое хобби. Ролевые игры по событиям Гражданской войны. В прошлые выходные я провела с моим взводом Двадцать Седьмого Добровольческого Массачусетского полка. Мы взяли форт Макалистер, и у меня не было времени переодеться. У меня и правда такой пугающий вид?
Джулия так не считает, ведь ее вопль поднялся с куда большей глубины. Из страха, который нарастает с тех самых пор, как из Румынии прибыли пленки. Сейчас он словно превратился в реальную, физическую болезнь. А Салли лишь выпустила его на волю, и Джулии стыдно, что она устроила такую сцену из-за костюма, особенно перед остальными монтажерами, которые станут безжалостно судачить у нее за спиной.
– Хорошенькое первое впечатление, а? – пытается усмехнуться Джулия.
Салли кладет фуражку на архивную стойку, рядом с пакетиком грецких орехов.
– Я разные реакции видела на мою форму, но истерику – впервые.
– Не-а. Истерика – это когда на пол падают, сворачиваются калачиком, а потом санитаров надо взывать. Ты уж мне поверь. В темноте я увидела форму, старую форму и просто…
– На самом деле она полное воссоздание реальной…
– Уж меня-то убеждать не надо.
– Мы сами платим за обмундирование. Не постыжусь сказать, что за этот ансамбль выложила добрых семьсот долларов.
У Джулии вырывается нервный смешок.
– Ансамбль. Хорошо звучит. Маноло Бланик, шарф от «Эрме», из бутика в Геттисберге. Симпатичный ансамбль.
Салли даже не улыбается. Это ведь был форт Макалистер – довольно далеко от Геттисберга.
Джулии приходит в голову, что Салли тоже, вероятно, страшно. Во всяком случае, ей не по себе. Может, она тоже чувствует странные движения воздуха, дурную вибрацию.
– А где ты достаешь обмундирование? – спрашивает Джулия, снова беря себя в руки.
Тряхнув волосами, Салли расстегивает ворот плаща.
– Заказываю через Интернет. Есть одна фирма, которая специализируется на одежде и экипировке времен Гражданской войны.
– И это все, кроме меня, знают?
– Теперь да.
Джулия пересаживается с диванчика на свое кресло, проверяет стикеры на стене. Повернувшись, берет орехи.
– Хочешь?
Салли отказывается и, словно предвосхищая логичный вопрос, объясняет, что ее всегда привлекало воссоздание событий Гражданской войны. Когда-то она даже подумывала снять документальный фильм о конкретном отряде. Из идеи ничего не вышло из-за недостатка финансирования, но Салли подсела и теперь играет ради удовольствия. В ее отряде собраны люди со всего северо-востока, в основном мужчины, и у каждого есть программа и оружие – винтовка «Энфилд» со штыком.
– Она у тебя с собой? – спрашивает Джулия.
С высокомерием сноба из клуба исторической рекреации Салли поджимает губы.
– В машине. Игра кончилась поздно ночью, поэтому мне пришлось переночевать в отеле в Атланте и прилететь утром. Я даже детей еще не видела.
– Покажешь как-нибудь?
– Что?
– Штык.
– Конечно. А сейчас давай о работе.
Они обсуждают материал – биографию английского киноактера, чьи фильмы Джулии не нравятся.
– Как тебе удалось получить на такое «добро»?
Салли поднимает брови.
– При таком отношении, думаю, мы с тобой проведем немало приятных часов.
– Нет, нет, я о том, что у нас его мало знают. Просто я изумлена, что Боб тебе это разрешил.
– Англичанин скорее всего получит премию Американской академии. Вот почему. И вообще, если у тебя есть сомнения, их лучше услышать сейчас.
Джулия чувствует, что проникается к Салли Бенчборн симпатией. Такая прямолинейность! Она как будто искренне собирается сделать шедевр из своей второсортной знаменитости, и после разговора Джулия решает, что если кто и сумеет этого добиться, так только Салли. Они обсуждают порядок действий: костяк интервью уже готов, скоро пришлют нарезку из фильмов. Будет еще одно интервью и уйма вспомогательного материала, который пойдет в перебивку с основным и который отсняли в английском городке Уитби, где у актера есть летний домик. К концу недели у Джулии будет достаточно метража и, если потребуется, оцифровывать она будет в сверхурочные. Потом воцаряется молчание.
В полумраке Салли Бенчборн всматривается в Джулию. В углу комнаты без звука бегут кадры кабельного телевидения.
– Знаешь, почему я встала с дивана, когда ты открыла дверь? – спрашивает Салли.
Джулия как раз поднесла к губам орех. Теперь она кладет его в рот.
– Я встала потому, что когда ты открыла дверь, у тебя был больной вид. Я подумала, ты вот-вот грохнешься в обморок.
Джулия глотает. Салли щурится и ждет.
– О боже, – говорит Джулия.
Она проверяет интерком возле двери, удостоверяясь, что он выключен, и никто их не подслушает. Продюсер закидывает ногу на ногу, вид у нее озадаченный. Внезапно воссоздание сражений Гражданской войны уже не кажется таким эксцентричным. Салли живет как хочет, и не считает нужным оправдываться, и тем располагает к себе. Как будто нет ничего логичнее, чем надеть форму былых времен, как будто нет удовольствия больше, чем заниматься хобби, в котором сочетаются история и мода, меткость и игры в кровавые побоища на уикенд.
Джулии по нутру эта самодостаточность. Она ей доверяет и потому рассказывает Салли все: про исчезновение Эвангелины Харкер, про появление пленок из Румынии, про то, как их оцифровывает Ремшнейдер, про безразличие Тротты.
По ходу рассказа лицо Салли багровеет.
– Где Ремшнейдер?
– А что?
– Я с ним переговорю. Он хороший парень, но иногда его надо приструнить.
Джулия поднимает руку: ей показалось, она услышала шум за дверью, но Салли не обращает на нее внимания.
– Над последним репортажем я работала с Подлизой. Он быстро все схватывает, но иногда ведет себя как подросток. На самом деле, его скорее следовало бы называть Чайником. Но он меня точно послушает.
Когда Джулия на днях спросила Ремшнейдера, каково было работать с Салли Бенчборн, он ответил: «Просто цирк», но это ничего не значит. Монтажеры и продюсеры всегда живут в любви-ненависти: вцепляются друг другу в глотку с почти биологической жаждой крови. Салли зовет его Подлизой, потому что, как она объяснила, он бесстыдно напрашивается на комплименты. А он называет ее клоуном. Издержки профессии. Может, Салли сумеет образумить Ремшнейдера.
Салли застегивает ворот муслиновой рубахи, накидывает «халат федералов» (по ее словам), который Джулия приняла за плащ, и надевает темно-синюю фуражку. А после следом за Джулией выходит в коридор, направляясь к монтажной Ремшнейдера, у которого помещение в предпоследнем коридоре, чуть большее и чуть лучшее, чем у Джулии.
Его дверь закрыта, и изнутри не доносится ни звука.
– Может, ушел на ленч, – гадает Салли.
– Свет горит.
– И верно. – Продюсер трижды стучит в дверь. – Подлиза!
Джулия прикладывает ухо к двери.
– Готова спорить, там кто-то шепчет.
Щеки у Салли раскраснелись.
– Хватит дурака валять, Ремшнейдер.
Джулия поворачивает ручку.
– Тут не заперто, Салли.
Салли, кажется, хочет одернуть Джулию, но сама поворачивает ручку и решительно шагает за порог, колышутся полы мундира. Джулия входит осторожнее. Долгое время обе женщины молчат. Трое сидят на стульях перед тремя экранами: двумя видеомониторами и двадцатитрехдюймовым телевизором. На каждом наушники, подключенные к монитору. На каждом мониторе – одна и та же картинка: деревянный стул в пустой комнате. Подававшийся в наушники звук неразличим для человеческого уха, но позднее Джулия подумает, что разобрала какой-то шепот, обрывки фраз, просочившихся в сухой кислород комнаты. Что потрясает ее, так это слезы. Трое мужчин, Ремшнейдер и двое других, всем за тридцать, а то и под сорок, все семейные, все шутники, любители джаза и рока, все профессионалы высшей пробы, сидят с кроваво-красными глазами, по щекам у них, оставляя дорожки, почти вмятины в коже, текут слезы, словно скатываются каплями кислоты. Рты мужчин раззявлены. Руки вцепились в наушники. «Будто кто-то вонзает им в мозг нож», – думает Джулия.
Книга V
ЭВАНГЕЛИНА НА ОБРЫВЕ [7]7
Фраза из фолк-баллады Эммилу Харрис о застывшей от горя на берегу Миссисипи женщине, которая смотрит, как ее возлюбленный гибнет вместе с тонущим судном.
[Закрыть]
24
Птицы перекликаются, как матросы в ночи. Я то и дело просыпаюсь и слышу их свары. Встав, я зажигаю свечу и пытаюсь вести эти заметки, как велела сестра Агата. Она сказала, это мой долг.
Когда я не сплю, мне страшно, а от птичьего гама страх переносить гораздо легче. Он дает мне толику покоя. Не знаю почему. Я никогда не любила ни птиц, ни людей, которые их держат. Птицы – нелепые, болтливые существа. Но я уверена, что эти – мне на пользу. Правда, на глаза они мне ни разу не попадались, и иногда у меня возникает подозрение, что их шум – всего лишь галлюцинация, что за хлопаньем крыльев и визгливыми криками прячется тяжкий груз в моих мыслях.
Странно. Я никогда не бывала в этой долине, но она мне знакома. Если бы сестры в здешнем монастыре говорили на моем языке, они были бы напуганы и изумлены моей осведомленностью. Например, я знаю, что в соседней долинке за горной грядой есть три братские могилы, и еще одна, большая, – здесь, под самой стеной монастыря. Соседней долины я в глаза не видела, но знаю, что одна из могил находится за заброшенным амбаром, выкрашенным поблекшей охрой, и что в ней тела двадцати трех человек: двенадцати мужчин, восьми женщин и троих детей, – все евреи из местечка под названием Сучава. Может, так называется то место, где я сейчас? Другая могила прячется глубоко в лесу, куда не ходит никто, кроме охотников, и в ней, переплетенные, как заросли ежевики, тела трех цыганок, каждая была изнасилована, изувечена и застрелена в затылок. Это старуха, ее дочь и племянница дочери. Умерли они сравнительно недавно, несколько десятилетий назад. И наконец, в третьей могиле, в самой старой, на большой глубине лежат кости девятнадцати турецких воинов. Они спрятаны под прудом, который существует не больше двух с половиной веков. Уверена, сестры об этом даже не подозревают и сочтут мое знание дьявольскими кознями, но оно пришло ко мне самым естественным путем. Так же как я знаю умом, что скопление туч предвещает снег, сердцем я чую, что каждый овражек прячет обломки костей невинноубиенных.
Одна птаха издает непохожий на других шум, словно зовет издалека. Это нежное создание не участвует в ссорах и поет с особым упорством. Она молит меня выйти в ночь, просит пересечь горы и вернуться туда, где я приняла свою ношу. Одна сестра советовала не слушать голоса, даже если они станут окликать меня по имени. Она говорила, мне следует оставаться внутри стен, пока моя ноша не спадет. Но я уверена, зовущая в ночи не таит зла. «Эвангелина», – выпевает она, словно подражая мелодии кантри-шлягера, в честь которого меня назвали родители. Мне так хочется откликнуться! Хочется пойти тропой знания, сияющей у меня перед глазами. Хочется бежать, разыскивая другие забытые души, похороненные в этой земле, словно бесчисленные сокровища.
Днем мои мысли застывают как лягушка на листе кувшинки и отдыхают. Я знаю солнечное местечко в стенах этого промозглого монастыря, и сестры позволяют мне сидеть там, завернувшись в одеяла из волчьих шкур, пока сами они заняты работой. Я сижу и смотрю в небо. Дни проходят в льдистом холоде, но по ночам в моей келье становится жарко. Одна из сестер приходит развести огонь в каменном очаге. Она приносит мне чай и черный хлеб. Никто тут не говорит по-английски, но по жестам видно, что для них я предмет жалости и заботы, а еще я вызываю у них ужас. Всякий раз, заглядывая в зеркало, я понимаю почему. Одни только мои глаза меня пугают. Я никогда в жизни не видела этой женщины.
Если верить календарю, скоро февраль. За ним придет ужасный март, а после – Пасха, с ее кровавым распятием. Несколько недель назад приезжал какой-то человек, и я дурно с ним обошлась, велела убираться. Еще приезжали полицейские, и я просила их не пускать в монастырь посторонних. Но тот человек возвращается, и они его впускают. Мне кажется, он считает меня важной персоной. Я не вправе грубить ему, но он говорит, что будет ждать под стенами до тех пор, пока я не буду готова назвать свое имя и где мой дом. Но что, скажите на милость, это значит?
«Дом» – из тех понятий, которые моя ноша обратила в загадки, хотя в памяти или на том месте, где ей полагалось быть, я различаю эхо тишины и покоя – наверное, вот что значит это слово. Посетителю я говорю, что совершенно здорова, но он делает записи и тем меня злит. Я говорю, что люблю ощущение снежинок на языке и запах горящего дерева на рассвете, люблю треск льда под тяжелым ботинком и глубину тени, которой не коснулся электрический свет, люблю ощущение кожи на коленке под моей рукой, вкус кукурузной каши за обедом и обещание глубокого сна, который никогда не приходит. Меня переполняет любовь, но не к людям, а к местам и предметам. Любовь затопляет меня. Она закралась в меня долгой памятью рода человеческого, и она меня изменила. Я люблю все то, что любят забытые, оскорбленные, униженные мертвецы.
Посетитель не в силах меня понять.
– Мне кажется, вы американка. Или, может, канадка? Вы потерялись. Вы не в себе, и вам нужно вернуться домой, где о вас позаботятся родные. Пожалуйста, помогите мне, и я помогу вам.
С ужасом он оглядывает мою маленькую келью. Он из какого-то правительства, а мы ненавидим правительства. Он хочет воспользоваться своими полномочиями и моей слабостью, чтобы все у меня отобрать. Интересно, что бы он сказал, если бы увидел, как по вечерам меня купают сестры? Сестра Агата приходит с еще одной сестрой и приносит железную бадью, полную теплой воды. Я смотрю в потолок, потому что не хочу больше видеть собственное тело. Но сестры снимают с меня одежду, трут меня тряпицей и губкой и плачут при виде его. Я не желаю знать, что видят они, но мне интересно, что сказал бы отец, что сделала бы мать, увидь они это. А мой возлюбленный? Он еще хочет, чтобы я вернулась? Я смотрю в потолок и лелею тайну, которую ни одна живая душа про меня не знает. Меня тянет попробовать человеческой крови.
Мой гость мне совершенно чужой. Он снимает комнату на ферме по соседству. Там есть куры и петух, и собака, которая никогда не лает. В серые предрассветные часы петух своим клекотом прогоняет раскричавшихся птиц. Посетитель приходит часто, пытается вызнать у меня сведения о моем возрасте или имени. Иногда он только сидит и пристально смотрит. Иногда кричит на меня или грозит устроить так, чтобы меня увезли отсюда силой.
Один разговор мне памятен особенно.
– У тебя еще одна неделя, – сказал он. – А после я поступлю, как предписывает закон. Я помещу тебя в румынскую психиатрическую клинику, где тебя будут лечить наши врачи. Еще раз тебя спрашиваю. Ты американка? Ты журналистка?
– Мне страшно за вас, – ответила я.
– Брось свои выходки.
– Какие выходки?
– Перестань делать вид, будто знаешь меня.
– Но ведь я вас знаю.
– Я просто государственный служащий и делаю то, что должен.
– Через год вас не станет.
Его лицо побагровело, он вышел из себя.
– Если захочу, могу устроить, чтобы тебя заперли, да так, что имени твоего никто не узнает.
– И о вас никто не вспомнит.
Вставая, он натянул пальто.
– Я знаю, кто ты, – сказал он, – но не могу этого доказать. А раз я не могу этого доказать, то буду держать рот на замке, не то меня самого призовут к ответу. Я шум поднимать не стану. Местные власти просто тебя спровадят. Подумай хорошенько. Здешние женщины хотят от тебя избавиться.
Он уходит.
Мне хочется ему угодить. Мне хочется, чтобы все были счастливы, как я. Мне хочется, чтобы все почувствовали любовь к бытию в моем сердце. Когда я так говорю, на лице посетителя возникает странное выражение, и мне это невыносимо. Губы у него раздвигаются, лицо увлажняется, и я вижу, как он постарел. Когда дело дойдет до смерти, он утратит свою индивидуальность, просто просочится в землю как нефть.
Я просыпаюсь под пение птиц и выглядываю из окна на ферму за оттаивающим полем, где спит мой посетитель. В этой долинке, вон там, в ложбине между моей келью и фермой еще одна братская могила, я недавно ее ощутила, и населяют ее, заполнив по края, жертвы великой войны давно забытой эпохи. Это казненные римлянами даки, и они перешептываются:
– Когда мы отправимся домой?
25
Сны о девушке с золотыми волосами начались три дня назад. Без сомнения, я уже когда-то ее видела. Я знаю ее имя, но не могу его произнести. Она подходит к моей двери, тихонько стучит и просит ее впустить. Я подчиняюсь, и, опустившись передо мной на колени, она целует мои ноги. Кто-то перерезал ей горло, поэтому целовать ей нелегко. Я спрашиваю, не одна ли она из тех, кто лежит в могиле за охровым амбаром, и тогда глаза у нее наполняются слезами, и она спрашивает, не шучу ли я над ней. Она все просит меня заглянуть в ящик с моими пожитками под кроватью, но я отказываюсь. Не хочу видеть, что там.
По утрам я рассказываю сестре Агате про сны. Она не понимает, но указывает на карандаш и бумагу. Хочет, чтобы я их записала. Настаивает. Я повинуюсь.
Однажды ночью, еще не заснув, я слышу тот же тихий стук в дверь, что и во сне. Последние угольки в очаге тлеют темно-красными пятнами пламени. Я не могу шевельнуться. Обычно никто не навещает меня после того, как разведен огонь, а сестра Агата уже о нем позаботилась. До рассвета мне положено оставаться одной.
Завернувшись в одеяла из шкур, я встаю. Каменные плиты на полу такие холодные, что обжигают мне ступни. Дверной засов словно кусает меня за пальцы, но я рывком его отодвигаю. Приотворив дверь, я вижу бледное лицо, знакомое, но совсем не то, какое ожидала. За дверью сестра Агата. Она хочет, чтобы я научила ее английскому языку, и намекала, что подумывает о другой для себя жизни. Мы часто пытаемся объясниться жестами, когда она разводит огонь в моем очаге. Думаю, она тоскует по дальним странам.
Сейчас она смотрит на меня с ужасом. Она указывает куда-то мимо часовни на ворота монастыря. Ей незачем что-либо говорить. Я и так знаю. Кто-то ждет меня у входа.
– Мой посетитель? – спрашиваю я.
Качнув головой, она еще долго всматривается в меня, ожидая, что я как-то объясню то, что она случайно увидела.
– Я надену ботинки, Агата. Я сама справлюсь. Возвращайся к себе.
– Не… – отвечает она.
Я беру ее за руку.
– Отправляйся в свою келью и запри дверь, Агата. Да?
С благодарным взглядом она подчиняется, а я надеваю толстые шерстяные носки и зимние ботинки, которые купил мне отец, и выхожу в ночь. В лицо мне ударяют принесенные ветром мелкие льдинки. Над черным ободом стен звезды горят белым, желтым и красным. Их столько, что я не могу отыскать те немногие, которые знаю. Все вспыхивает болезненным сиянием. Я различаю полосу Млечного Пути.
Вглядываясь в коридор с кельями, где скрылась Агата, я хочу надеяться, что она вняла моему совету. Я понятия не имею, в каком положении нахожусь, как в нем очутилась, кто в этом виноват, но, очевидно, произошло нечто ужасное. Сестры подозревают, какую роль я сыграла в бесконечном глубочайшем ужасе, и, невзирая на свою доброту, молятся о моем отъезде.
Ступая по мягкому снегу, я миную часовню. Я еще ни разу так далеко не заходила. Внешние стены часовни расписаны сотнями сцен из житий разных святых и апостолов, возвышения и падения царей Византии, удела человечества грядущих веков в раю и аду. Днем я читаю эти стены, как страницы книги.
Сердце у меня отчаянно бьется, и я прислоняюсь к задней стене часовни. Как только я заверну за угол, меня будет видно от ворот, и моего ночного гостя тоже, – думаю я, вознося собственную молитву. Здешние женщины проводят свои дни в непрерывной беседе с Господом. Наверное, и мне молитва поможет встретиться с тем, что меня ожидает. Какое-то воспоминание шевелится во мне, будто это мгновение напоминает мне какое-то другое, но нет, пустота…
Завернув за угол, я решительно иду к воротам, не поднимая глаз. Скрип снега под башмаками служит мне утешением. Он придает мне внушительности, точно я – колосс, в тишине дробящий льды.
Я не поднимаю глаз, пока не подхожу к самым воротам – каменной арке, высеченной много веков назад. За минувшие десятилетия проход под ней вытоптался, превратился в туннель, ведущий во внешний мир. С наступлением темноты сестры всегда опускают со стороны монастыря замысловатую чугунную решетку. Я заглядываю в озерцо тьмы, скопившейся меж стенами.
– Эй? – зову я.
Никто не отвечает.
Жаль, что я отпустила сестру Агату. Она помогла бы, показала мне гостя. Она зажгла бы фонарь из тех, что лязгают на ветру о внутренние стены туннеля.
Ветер налетает с холмов, и мне приходится преодолевать его порывы, чтобы добраться до запирающей туннель решетки. А там я всматриваюсь сквозь прутья в сумрак меж стенами монастыря и лесом. Мой гость исчез. Никто меня не ждет, но ночь прекрасна. Землю укрыл снег. С неба, кружась, падают первые предвестники надвигающейся метели, и когда я поднимаю взгляд, звезды словно начинают мерцать и стремительно падать вниз. Кто-то спускается к монастырю по склону холма. Сперва мне это кажется иллюзией, сотканной танцем снежинок на фоне ночи, но понемногу фигура увеличивается в размерах, становится яснее, обретает силуэт. Лицо и тело прячутся под накидкой из шкур, как у меня. Внезапно меня пронзает дурное предчувствие. Незнакомка одета как я, но это не я. Она сбрасывает с головы капюшон. Я сбрасываю свой. Снежинки ложатся ей на веки, заставляя их подняться. Открывшиеся глаза белые и сияющие, как снег. Под звездным светом рассыпаются светлые волосы, стянутые в хвост грязной желтой резинкой.
– Клемми, – шепчу я.
Вернувшись в келью, где поспешно набрасываю эти записки сестре Агате, я знаю, что со мной случилось. Я знаю, как сюда попала. И знание это горько.





![Книга Вампир — граф Дракула [редакция 1912 г.] автора Брэм Стокер](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-vampir-graf-drakula-redakciya-1912-g.-69978.jpg)

