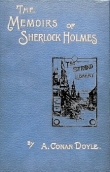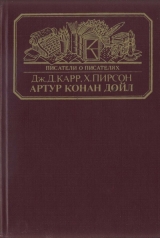
Текст книги "Артур Конан Дойл"
Автор книги: Джон Диксон Карр
Соавторы: Хескет Пирсон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Киплинг – невысокий, крепкий, косматый, усы торчат вперед, глаза сверкают из-за маленьких очочков – блюл свою личную неприкосновенность со страстностью, недоступной пониманию местных жителей. Он и его жена умели быть радушными. Они принимали гостя в своем знаменитом доме, построенном в форме Ноева ковчега, который Конан Дойл запечатлел на фотографии. Затем, увидев возможность потренироваться, Конан Дойл притащил целую сумку снаряжения для гольфа – к совершенному изумлению местных жителей, недоумевавших, как применять эти докторские инструменты.
Смело можно предположить, что Киплинг не питал симпатий к гольфу. Ни один истинный любитель не станет отзываться о гольфе в рассказе от первого лица так, как это сделал Киплинг в «Домашнем враче». Его гость, пусть и не великий игрок, дал ему несколько уроков на подернутой изморозью лужайке на виду у местных жителей. Киплинг читал недавно написанный «Гимн Макэндрю», где, как и во многих творениях этого мастера-ремесленника, романтика подается в образах, да и литературным стилем, хорошо отлаженной механики. Они расстались добрыми друзьями; и Конан Дойл сделал одно замечание, впоследствии повторенное и Хорнунгу:
«Бога ради, – попросил он, – оставим разговор о плеваках».
Он намеревался отплыть в Англию 8 декабря. И майор Понд, с глазами влажными от слез коммерческого восторга за стеклами очков, уговаривал его задержаться. «Не пообещай он своей больной жене провести Рождество дома, – печалился впоследствии майор Понд в печати, – он мог бы остаться еще на сезон и вернуться домой с приличным состоянием в долларах». И хотя майор не считал красноречие Конан Дойла таким уж цветистым, но «было что-то в нем такое, что очаровывало всякого, кто с ним встречался. Если бы он возвратился на сотню вечеров, я бы обеспечил ему больший заработок, чем любому англичанину».
Честный импресарио, он не мог бы сказать ничего лучше.
В Нью-Йорке, как раз накануне отъезда, Конан Дойл узнал о смерти Льюиса Стивенсона на Самоа. Хотя он никогда не встречался со Стивенсоном, известие это воспринял как личную утрату. Ведь Стивенсон, чьими книгами он восхищался, был в свою очередь его поклонником, и они долгое время переписывались. Теперь этот немощный рыцарь ушел из жизни; Туситала [20]20
Туситала – так самоанцы называли Стивенсона.
[Закрыть]не расскажет больше ни одной своей истории. Немощный, да, – немощный инвалид. Как Туи.
И вновь прозвучал свисток парохода. Кьюнардская [21]21
Кьюнард – крупная судоходная компания, обслуживающая линии между Великобританией и Сев. Америкой.
[Закрыть]«Этрурия» проплыла мимо статуи Свободы. После напряжения последнего времени он чувствовал себя теперь усталым и подавленным. Но вскоре, сначала еще в Лондоне, а там – и в Давосе, узнал он, что Туи становится все лучше. И в Альпах, на исходе года, он с новым рвением вернулся к подвигам героя – неиссякаемому источнику остроумия.
Словом, к подвигам бригадира Жерара.
ГЛАВА VIIIИЗГНАНИЕ:
СОЛДАТЫ БОНИ – И ДЕРВИШИ
Наш герой стоит рядом с императором Наполеоном и маршалом Ланном в кромешной тьме на балконе, глядящем на Дунай. На том берегу за разлившейся на добрую милю и вздувшейся грохочущими бурунами рекой горят огни австрийских бивуаков. Кто-то, невзирая на бурю и дождь, должен проникнуть туда и привести языка, чтобы понять, где находится корпус генерала Хиллера.
Даже нашего героя (музыканты, темп!) прошибает холодный пот. И даже Наполеон не может приказать – он лишь высказывает пожелание. Но наш герой преисполняется гордости и жажды славы. Он понимает, что из стопятидесятитысячной армии с двадцатью пятью тысячами императорской гвардии он один избран для дела, требующего столько же находчивости, сколько отваги. [22]22
Бони – прозвище Наполеона, распространенное в английской армии.
[Закрыть]
«„Я пойду, сир, – выкрикнул я без колебания. – Я пойду, и, если я погибну, Ваше высочество не оставит заботами мою матушку“. Император потянул меня за ухо в знак расположения».
Читателям простительно ошибиться, приписывая этот пассаж нашему галантному приятелю Этьену Жерару, полковнику конфланских гусар, кумиру женщин, лучшему клинку шести бригад легкой кавалерии – потешному и героическому в одно и то же время.
Но это не Жерар. И вообще не художественная проза. Эпизод почерпнут из подлинных мемуаров барона Марбо, который в описываемое им время был капитаном наполеоновской армии. Стоит еще упомянуть, что Марбо перебрался-таки на вражеский берег и привел не одного, а сразу трех пленных и что Наполеон снова потянул его за ухо и произвел в майоры. Это одно из самых невинных приключений в книге, которую, не подтверди современники их достоверности, впору было принять за романтические бредни. И если мы все-таки не можем поверить во все подвиги, которые Марбо, по его словам, совершил, одно знакомство с такой личностью все искупает.
По другую сторону Ла-Манша никогда не могли и не могут понять по сей день бравады и позерства в поступках, мыслях и речах многих из самых серьезных – после Наполеона – противников. Этим во многом объясняется впечатление от книги. Когда Конан Дойл избрал Марбо прообразом бригадира, особый комический эффект достигался тем, что ветреность француза контрастировала с тяжеловесным, неповоротливым английским языком.
Читая французские военные мемуары, Конан Дойл был поражен тем, что именно бахвальство их авторов «возрождало самый дух рыцарства. Лучшего рыцаря, чем Марбо, не сыскать».
В этом-то вся суть. Если рассматривать поступки бригадира Жерара, не принимая в расчет тона повествования, он представляется средневековым паладином не хуже какого-нибудь Дюгесклена. Но его наивное хвастовство, бесхитростность, твердая убежденность в том, что каждая женщина от него без ума, – вот что заставляет читателя покатываться со смеха. И все же он неизменно верен благородным влечениям сердца. Распушив бакенбарды и подкручивая усы на манер Маренго, он как живой сходит со страниц книги.
«Наполеон говорил, – как вы, разумеется, помните, – что у меня самое отважное сердце в его армии. Правда, он все испортил, добавив, что у меня и самая тупая голова. Но Бог с ним. Непорядочно поминать дурные минуты жизни великого человека».
Этих слов бригадира нет в опубликованных рассказах Конан Дойла, они сохранились лишь в записной книжке, одной из многих, заполненной приметами быта наполеоновского окружения: о Мюрате с саблей в ножнах и тростью в руках, о старых усачах, которые умудрялись носить в своих медвежьих шапках по две бутылки вина и опирались на свои мушкеты, как на костыли, когда уставали, о «бледном лице и холодной улыбке» Бонапарта. Встречаются в них и упоминания об одном ненаписанном (или, по крайней мере, неопубликованном) рассказе о Жозефине и шантаже.
«Целых три года, – пишет автор, – жил я среди книг наполеоновского времени, надеясь, что, впитывая и пропитываясь им, я смогу, в конце концов, написать стоящую книгу, дышащую очарованием той удивительной и восхитительной эпохи. Но мои амбиции оказались выше моих сил… И вот, венцом всех моих долгих и серьезных приготовлений стала одна маленькая книжица солдатских рассказов».
«Маленькая книжица» – в этой характеристике упрек себе, и упрек несправедливый. «Подвиги бригадира Жерара», а затем и «Приключения Жерара» – лучшее из написанного им о наполеоновской кампании. И фокус в том, что он смотрит на все глазами француза.
Бригадир – истинный француз, такой же, как, скажем, Марбо, или Куанье, или Журдо. Ни одного фальшивого жеста или слова. Все его ужимки, выводящие из себя его врагов и так веселящие читателей, – достоверны. Он выразитель жизненного духа великой армии, и из груди его неудержимо рвется боевой клич: «Vive l’Empéreur!» [23]23
Да здравствует император! ( фр.)
[Закрыть]А его соображения о характере английском не меньше говорят о его собственном характере. Этьен Жерар если кого и выставляет в смешном свете, то себя, и только себя, а вовсе не Францию или французов. Этим объясняется успех бригадира и Конан Дойла.
Первый рассказ – «Медаль бригадира Жерара» – был написан в 1894 году и прочитан автором перед благодарной американской публикой. А к весне 1895 года, когда он с семьей вновь поселился в Давосе, на сей раз в гранд-отеле «Бельведер», было уже почти готово семь рассказов.
Эта весна в Давосе выдалась ненастной. Под угрюмыми дождями опал снег на лыжнях, и всем нездоровилось. В мае, как можно понять по письмам матушке, он побывал в Англии, и это вновь изменило весь ход событий.
Он уже примирился с тем, что, по всей видимости, им придется до конца дней (или, смотря правде в глаза, до конца Туиных дней) мотаться по отелям Швейцарии или Египта. Он и принимал это как неизбежность, без лишних слов. Но вот, в Англии, повстречал он Гранта Аллена, тоже страдающего чахоткой, который поведал ему нечто весьма удивительное.
Грант Аллен, чье имя сейчас уже почти совершенно забыто, был в то время известным писателем, впервые привлекшим к себе внимание сенсационным романом «Игральная кость», а как раз в 1895 году много шума наделал своим откровенным подходом к проблемам пола его последний роман «Женщина, которая решилась». Конан Дойлу он был более известен своими научными работами с сильным агностическим оттенком. Совсем не обязательно, страстно доказывал Грант Аллен, больному туберкулезом жить за пределами Англии – сам он сумел приручить недуг, поселившись в Хайндхеде в Суррее.
Туи, которая не меньше мужа мечтала о возвращении, умоляла его разузнать все на месте. Он поспешил в Суррей и остался более чем доволен.
«Не только пример Гранта Аллена вселяет надежду, что эта местность подойдет для Туи, – писал он, – но и ее расположение на возвышенности, сухость, песчаная почва, еловые заросли и защищенность от всех холодных ветров создают условия, которые считаются наилучшими». Он продал дом в Норвуде. Стоит ли снова покупать готовый дом? Было решено строить свой собственный дом в Хайндхеде, и строить на широкую ногу.
Он начертил план будущего дома, любовно предусмотрев в нем обширную бильярдную, и передал все в руки своего старого приятеля Болла, архитектора из Саутси; тот утверждал, что строительство займет около года. Возвратившись в Давос, он, к радости «Стрэнда», закончил семь новых рассказов о бригадире и переделал «Письма Старка Манро».
Так много личного было вложено в «Письма», что теперь, вновь обратясь к ним, он подумал, что, возможно, это самое долговечное из его творений. Тут было все: его мечты и устремления, и страхи, и агностические (или, строго придерживаясь характеристики д-ра Манро, – деистические) взгляды. Была там и Туи под именем Винни Лафорс. Разбираясь в глубинах своего сердца, он должен был признать, что никогда не испытывал к Туи чувств, которые предполагает великая любовь. В Саутси он был слишком поглощен собственной влюбленностью. Но, конечно, он питал к Туи глубокую привязанность и нежность, что – так он тогда думал – лучше всякой любви.
Да и вообще эти мысли казались ему предательством, и он гнал их прочь.
Самое долговечное творение? Быть может. И все же он давно уже пришел к выводу, что если что и имеет значение, то только сюжет. Однажды в запале он заявил Роберту Барру, что всем профессиональным критикам он предпочел бы суд собратьев-писателей или школьников. Пусть, соглашался он, это несколько преувеличено: школьнику не предложишь «Роберта Элзмира», как какой-нибудь «Остров сокровищ». Еще памятен был прием, оказанный «Белому отряду». Но высказывание это весьма показательно для его образа мыслей.
«Первейшая задача романиста, – говорил он Дж. У. Доусону, – плести интригу. Если интриги нет, чего ради писать? Возможно, ему есть что сказать важного, но для этого существуют и иные формы». Ведь роман без интриги подобен спектаклю, где в разгар действия на авансцену выбегает автор и просит актеров подождать, пока он выскажется по ирландскому вопросу.
Затронув тему театральную, уместно поинтересоваться, что сталось с той четырехактной пьесой из времен регентства, которую он, предназначая ее Ирвингу и Эллен Терри, начал писать еще перед американским турне. В последнее время о ней ничего не слышно, ничего не слышно и о соавторстве Хорнунга. Но нам не придется прибегать к помощи Шерлока Холмса для разрешения этой загадки. Даже намек на возможность появления боксерских страстей на сцене привел бы в ужас Ирвинга, который как раз в тот год был удостоен рыцарского титула: впервые во все времена рыцарское звание было пожаловано актеру. И вот Конан Дойл, уже не в силах отказаться от боксерской темы, перелицевал пьесу в повесть с другим сюжетом. Летом и в начале осени он был занят «Родни Стоуном».
Если взглянуть на то, что сулили различные издательства – хотя и удивляясь выбору темы – за рукопись книги, можно получить представление о популярности автора. Но высшая похвала «Родни Стоуну» прозвучала из уст австралийского ветерана бокса, которому книгу читали вслух, когда он уже не вставал со своего смертного ложа.
Тем, кто прочел книгу, никогда не забыть сцену в трактире «Карета и кони», когда юный Джим вызвал на бой Джо Беркса. Берксу приходится туго, крики болельщиков все громче, но его юному противнику не хватает боксерского опыта, чтобы покончить с ним.
«Бей левой по поясу, парень! Потом правой в голову!»
На этой фразе старый австралийский профессионал из последних сил приподнялся на своем ложе с возгласом: «Теперь-то он его уделает! Видит Бог, он его уделает!» Это были его последние слова. Он покинул этот мир счастливым, воображая себя вновь на ринге.
Если рассказы о бригадире Жераре описывают французов при Наполеоне, то в «Родни Стоуне» Конан Дойл обратился к Англии того же исторического периода и, так же как и в «Мике Кларке», с убедительными подробностями описал ничем не примечательную деревушку.
Он закончил книгу как раз перед отъездом на зиму в Египет, куда отправился вместе с Туи и Лотти, оставив летнюю квартиру в Малохе.
Прежде чем тронуться в неспешный путь из Люцерна через Италию в Бриндизи, они добрый месяц провели в Ко и к концу года обосновались в отеле среди пустынь, в семи милях от Каира.
Жизнь тут могла бы стать совершенно идиллической – в пустынном ландшафте белело длинное здание отеля, за которым вплотную маячили силуэты пирамид, – а бильярда, тенниса и гольфа – сколько душе угодно, – если бы не ощущение непрочности, тленности бытия, раздражавшее его и не дававшее работать, разве что над переделкой для театра повести Джеймса Пейна. Да еще в довершение всего его сбросила норовистая лошадь, и он, упрямо не выпуская из рук уздечки, заработал удар копытом, который обошелся ему в пять швов над правым глазом. Но были и иные причины для беспокойства.
В Британской империи на исходе 1895 года было далеко не все благополучно. Отдаленные раскаты доносились с египетской границы и из Южной Африки, а в Английской Гвиане возник пограничный инцидент с Венесуэлой, грозивший еще до Рождества перерасти в открытое столкновение с Соединенными Штатами.
В Америке приобрел столь широкую популярность антианглийский ультиматум президента Кливленда (его одобрило 30 губернаторов штатов), что это вызвало гнев и недоумение англичан даже здесь, в отдаленном уголке Империи: за что они так ненавидят нас?
«Чтобы понять взгляды американцев на Великобританию, – писал Конан Дойл, – нужно почитать американские школьные учебники истории и отнестись к изложенному с той же абсолютной верой и патриотической предвзятостью, которых мы ждем от наших школьников в понимании наших отношений с Францией…
Американская история в том, что касается внешней политики, почти вся расчленяется на отдельные столкновения с Великобританией, в большинстве из которых, следует ныне сознаться, мы были совершенно не правы… Война 1812 года займет, возможно, не больше двух страниц из пятисот в английской истории, но для американской – это важнейший эпизод».
В наши дни справедливость этих слов мог бы подтвердить всякий американец, еще не забывший школьного курса истории. Да и не только в учебниках, но и в патриотических представлениях и декламациях выделялась фигура наглого офицера в красном мундире, а его всегда побеждал герой в голубом да кожаном. И редко кто из англичан, воспринимавших события 1776 и 1812 годов как давно забытые комариные укусы, понимал это. Конан Дойл понял.
«Можно ли после этого удивляться, что в отношении американцев к нам преобладают предвзятость и подозрительность – чувства, которые и мы не вполне изжили в себе в отношениях с французами?»
Венесуэльский инцидент, так его взволновавший, вскоре кое-как уладился, но он написал приведенные выше строки еще накануне того дня, 30 декабря 1895 года, когда он с Туи и Лотти взошел на борт маленького пароходика компании Кука, который должен был повезти их вверх по Нилу.
Колесный пароходик взбивал мутную, цвета кофе с молоком, воду реки; многие женщины вместе с Туи и Лотти – все в белых платьях и соломенных шляпах – сходили на берег, чтобы сфотографироваться на фоне развалин Мемфиса. Конан Дойл заявил, что Египет современный интересует его больше, чем древний; правда, Нил по мере продвижения очаровывал его все сильнее. «Заходящее солнце, – записал он в своем дневнике, – малиновым светом залило Ливийскую пустыню. Гладкое, словно ртутное, течение реки, и между малиновым небом и нами растянулись вереницей дикие утки. На арабской стороне царила синеватая мгла, пока над приземистыми холмами не высветился край луны».
Конечным пунктом их путешествия был отдаленный уголок цивилизации Вади-Хальфа, отстоящий на 800 миль от Каира. Конечно, увлекательно было лазать среди гробниц царей и гигантских камней в развалинах Фив. Дворцы, дворцы и снова дворцы! Но когда они миновали Асуан, он понял, что эти места были не просто таинственными и зловещими. Они представляли реальную опасность.
Дело в том, что путешественники вступили в регион постоянных набегов дервишей-махдистов. Жара навалилась тяжким покровом, и они то и дело высаживались на берег под такой немногочисленной охраной, что, казалось, она рассеется от одного дуновения ветра. В середине января 1896 года где-то между Короско и Вади-Хальфа они пристали к топкому берегу у маленькой деревушки, только что подвергшейся налету. Девяносто дервишей в красных тюрбанах на быстроногих верблюдах бесшумно перемахнули через высокие холмы на востоке, не потревожив тишины до той минуты, пока не заговорили их ружья. Они истребили половину жителей и растаяли вдали.
«Я видел одного несчастного старика, раненного в шею пулей ремингтона, – записал Конан Дойл в своем дневнике. – У них был дозорный на холмах, но я не вижу способа предотвратить нападение в этих прибрежных поселениях. Будь я генералом дервишей, я не задумываясь предпринял бы столь нетрудоемкое похищение туристской группы».
О том же думали и в «жуткой знойной западне» – гарнизоне Вади-Хальфа, состоящем из двух с половиной тысяч египетских и нубийских солдат, среди которых затерялось десятка два английских офицеров. А за этой пограничной крепостью простирался Египетский Судан.
Уже более десяти лет, как британские солдаты в Судане сменили свои традиционные красные камзолы на хаки. А в 1885 году правительство Гладстона отозвало все войска из этой части Судана. Над зловещим пространством желтого песка и темных скал реял черный флаг Халифа. Дервиши, воодушевленные последним рейдом, похвалялись тем, что им потребовалось всего лишь пять часов, чтобы обратить в бегство египетские верблюжьи войска. Британским офицерам в Вади-Хальфа это, конечно, не предвещало ничего хорошего.
«Мы, как собаки на цепи, – жаловался капитан Лейн под дикие крики и стук, которыми нубийский духовой оркестр сопровождал исполнение „Викария из Брея“. – Мы не можем охранять от набегов всю границу. Поэтому мы расставили небольшие посты, как приманку для дервишей».
«Да, – сухо отозвался наш заезжий писатель, – мне говорили. Скажите: вы были бы не против, если бы похитили одну из этих бессмысленных экскурсий? Это послужило бы оправданием для начала решительных действий?»
Капитан Лейн был шокирован. «О, я не то хотел сказать. А впрочем, – усмехнулся он, – мы нисколько не боимся вступить с ними в перепалку, о, нет!»
Два месяца спустя, когда экскурсанты уже вернулись в Каир, капитан Лейн получил полную возможность осуществить свои намерения. Генерал-майор Китченер получил приказ перейти границу и вновь захватить Египетский Судан.
Конан Дойл узнал об этом не сразу, потому что с полковником Льюисом отправился в Ливийскую пустыню осматривать коптский монастырь. Но известие это не застало его врасплох. По всему верхнему Нилу уже давно поговаривали о возможных действиях египетского правительства, а на самом деле – правительства британского, ибо Египет был «завуалированным протекторатом» Англии. Еще с тех самых пор, когда Артур гостил у тетушки Джейн и сержант-вербовщик чуть было не убедил его вступить в армию, мечтал он увидеть воочию настоящее сражение. И вот возможность представляется.
Надолго отлучиться он не мог. Туи должна была покинуть Египет до наступления в конце апреля сильной жары. Он телеграфировал в «Вестминстер газетт», прося позволения представлять их временно в качестве внештатного корреспондента. Он купил большой револьвер итальянского производства. Затем то поездом, то пароходом, то на верблюдах проделал он 800 миль к верховьям Нила. Сказать по чести, он не очень-то доверял этим животным с головой и глазами рептилии, и не без основания. Однако стоило приноровиться к их движениям – и можно было вполне сносно путешествовать. В Асуане ему было приказано вместе с другими военными корреспондентами присоединиться к идущим на фронт частям египетской кавалерии. Это ему показалось слишком банальным; да и кому понравится чихать в клубах кавалерийской пыли. Ночью при луне на своих верблюдах они улизнули, чтобы добраться до Вади-Хальфа самостоятельно. Остается только удивляться, как эти безумцы не были схвачены каким-нибудь отрядом дервишей. Лишь однажды пощекотал им нервы какой-то одинокий всадник. А добравшись до линии фронта, Конан Дойл увидел, что люди в хаки и красных фесках заняты лишь возней с верблюдами. И – ни единого выстрела. Генерал-майор Китченер, которому он был представлен, сказал ему за обедом, что эдак может продлиться еще месяц, а то и два (как оно и вышло). И Конан Дойл вернулся пароходом по реке.
В мае 1896 года он со всей семьей был уже в Англии. Здесь его опять ждало разочарование: строительство нового дома в Хайндхеде, уединенного прибежища в горах, поросших соснами, было едва начато. Такое здание, уверяли строители, отнимет много времени, нужно набраться терпения. Он временно снял другой дом. В «Грейвуд-Бичес», на радость семилетней Мэри и трехлетнему Кингсли, были лошади, свиньи, кролики, всякая домашняя птица, собаки и кошки.
Новые публикации «Подвигов бригадира Жерара» увеличивали его популярность. «Приятно сознавать, что стольким людям по сердцу бригадир, ведь и мне самому он тоже нравится». Но следующий замысел давался ему с трудом.
«Я мучительно тружусь над этой несчастной наполеоновской книженцией, – писал он в июле. (Речь идет о „Дядюшке Бернаке“, которого он начал писать еще в Египте и едва смог продвинуться до второй главы.) – Она далась мне труднее, чем любая из больших книг. Я, видимо, не нашел правильного ключа, но мне необходимо как-то с ней развязаться».
«Дядюшка Бернак» с самого начала не пришелся ко двору и так и ходил у него в пасынках. Хотя, на наш взгляд, он слишком сурово судил эту книгу, мы можем понять его чувства. По-видимому, тогда он чересчур надолго погрузился в эпоху Наполеона и регентства; он устал от нее, хотя и не признавался себе в этом. И «Дядюшка Бернак» получился фрагментарным, как будто писатель хотел развернуть широкую панораму, но вместо того заполнил ее лишь на треть фигурами Наполеона и его приближенных. О Бонапарте он в специальном предисловии сделал такое признание: «Я до сих пор не в силах решить, имел ли я дело с величайшим героем или с величайшим негодяем. Лишь за эпитет я могу поручиться».
Под его присмотром работы в новом доме и в саду вокруг него пошли проворнее. «Нас заботят самые разнообразные вопросы в связи с домом, в особенности вопрос об электрическом освещении». Это должна была быть самостоятельная силовая установка, невиданная в сельской местности. «У меня будет замечательное окно в холле, и я бы хотел вывесить несколько семейных гербов». В конце 1896 года он купил коня, которым гордился и которого назвал Бригадиром. И тогда же, в конце года, на основе своих египетских впечатлений он начал повесть «Трагедия в Короско».
Атмосфера верхнего Нила, с его зноем, жужжанием мух, черными как смоль скалами в пустыне, еще живо отзывалась в нем, когда он взялся писать повесть о маленькой туристской группе, разношерстной по национальному и религиозному составу, захваченной в плен дервишами на берегу при осмотре горы Абусир. Целью рассказа было выявить характер этих людей (семьи ирландских католиков, полковника-англичанина, пресвитерианки из Америки и агностика-француза) во дни мук, смертельной опасности и отчаяния.
Перебив негритянскую стражу, дервиши ведут узников через пустыню к Хартуму. Пока они терпят лишь физические страдания, но вот караван оказывается во власти фанатика эмира, который ставит перед пленниками выбор: принять магометанство или смерть.
И тут во всей полноте раскрывается человеческая природа. Католики готовы и рады пойти на смерть во имя веры. Американская девушка вовсе не желает умирать, но покорна воле своей решительной тетушки. Тощий английский полковник бурчит, что лучше покончить все счеты с жизнью здесь, чем быть проданным в рабство в Хартуме; на самом деле его волнует, что обращение в магометанство выглядит не слишком респектабельно. Француз-агностик кричит в исступлении, что готов исповедовать любую веру, но не под воздействием грубой силы. Страсти накаляются до предела во время скачки по пустыне, когда их похитители уходят от погони египетских верблюжьих частей. Наконец тянуть больше нет возможности – каждый должен сделать свой выбор.
«Трагедия в Короско» выполнена в напряженном приключенческом темпе, за которым почти невозможно разглядеть авторскую мысль. Как и в «Старке Манро», но еще сильнее, ощущается в повести присутствие некоего высшего предназначения, действующего во имя добра. Увы, это не для француза. И между строк мы читаем, что, бросая вызов дервишам, почти все пленники, за исключением католиков, руководствуются не столько верой, сколько людской гордыней.
Вот такими размышлениями был занят Конан Дойл, когда в январе следующего года они снова сменили место жительства, перебравшись в Мурленд, поближе к строящемуся дому, чтобы сподручней было наблюдать за ходом работы. Средоточием жизни и осью будущего дома, надеялся он, будет тот самый обеденный стол, что принадлежал его дедушке Джону Дойлу и за которым сиживали великие писатели, художники и государственные мужи отошедшей эпохи. Джон Дойл завещал стол дядюшке Дику. От Ричарда Дойла он перешел к тетушке Аннет, а по ее смерти – к любимому племяннику. С юных лет в этом столе – будто его полированная поверхность до сих пор хранит отражения Скотта, Кольриджа и Теккерея – видел он символ величия. И любопытно, что именно в это время мысли его постоянно возвращались к этому столу.
В жизни Артура Конан Дойла было три поворотных момента. И ни женитьба на Туи, ни ее болезнь таковыми не являются: это были события, безусловно, значительные, но не более. Первой поворотной точкой был разлад с Дойлами из-за неприятия католичества, когда 22-летним юношей затворил он за собой дверь на Кембридж-террас и вышел на собственный путь. Сейчас он приблизился ко второй поворотной точке своей жизни – он повстречался с мисс Джин Лекки.