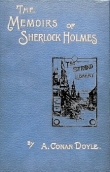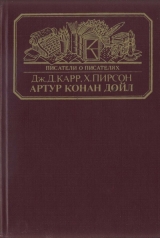
Текст книги "Артур Конан Дойл"
Автор книги: Джон Диксон Карр
Соавторы: Хескет Пирсон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
И вот между февралем и апрелем 1907 года все пять линий расследования стали сходиться в одной точке, и Конан Дойл получил возможность передать министерству подкрепленное свидетельскими показаниями досье следующего содержания:
В Уолсолле с 1890 по 1892 год учился мальчик по имени Питер Хадсон (имя это вымышленное, заимствованное из «морских» рассказов Конан Дойла); в тринадцать лет он был исключен из гимназии. Уже тогда Хадсон проявлял странные пристрастия. Он, например, любил подделывать письма, причем делал это весьма неуклюже. Особую страсть он питал к ножам. В железнодорожных вагонах по дороге в школу он поднимал подушки сидений и вспарывал обивку, выворачивая наружу конский волос.
Не однажды отцу Питера Хадсона приходилось платить штраф за то, что его сын срезал кожаные ремешки с вагонных окон. В Уолсолле учился мальчик по имени Фред Брукс, с которым Питер Хадсон не на шутку враждовал, так вот семья этого мальчика в 1892–95 годах была завалена анонимными письмами. После исключения Хадсона отдали в обучение к мяснику; там он получил возможность вволю поупражняться во владении ножом на тушах животных.
В конце декабря 1895 года он нанялся юнгой на корабль. Его судно вышло в море из Ливерпуля. В начале 1903 года он окончательно сошел на берег и все то время, пока совершались нападения на животных, жил в окрестностях Грейт-Уирли.
Следует отметить, что в 1902 году он на протяжении десяти месяцев служил на судне, перевозившем скот. Там он приобрел навыки обращения с животными – навыки совершенно необходимые, подчеркнул Конан Дойл, тому, кто желает быстро и бесшумно подкрасться к жертве. «Сравните этого человека, – писал он, – с подслеповатым интеллигентом Идалджи».
Однако служба Хадсона на перевозившем скот судне повлекла за собой еще одно следствие – решающую в нашем деле улику.
В июле 1903 года некая г-жа Эмили Смоллкинг навестила Питера Хадсона в его доме, стоящем на краю поля. Супруги Смоллкинг были давними друзьями семейства Хадсонов. В ту пору вся округа только и говорила, что об убийствах скота. Г-жа Смоллкинг упомянула об этом в разговоре с Питером Хадсоном, который впал вдруг в какой-то восторженно-доверительный тон. Он подошел к буфету, достал огромных размеров нож из тех, какими пользуются коновалы, и поднял его над головой.
«Глядите, – сказал он, – вот чем они убивают скотину».
Г-же Смоллкинг стало не по себе. «Убери это! – сказала она. И торопливо добавила: – А то я подумаю, не ты ли это делаешь».
Питер Хадсон спрятал нож на место. Впоследствии он попал в руки Конан Дойла. Не будем задаваться вопросом, как это произошло, лучше вернемся к досье для министерства внутренних дел.
«Во всех случаях увечения скота вплоть до 18 августа, – писал Конан Дойл, – раны носили необычный характер: это были узкие разрезы, рассекавшие кожу и мышцы, но не проникавшие во внутренности. Если использовать режущее орудие, оно непременно в каком-нибудь участке разреза войдет слишком глубоко и затронет острием или лезвием внутренности.
 Обратите внимание на то, как устроено лезвие этого инструмента: – нож заточен очень остро, и все же он производит лишь поверхностный надрез. Я утверждаю, что такой нож, похищенный Питером Хадсоном на судне, – единственный инструмент, с помощью которого можно было совершить все эти преступления».
Обратите внимание на то, как устроено лезвие этого инструмента: – нож заточен очень остро, и все же он производит лишь поверхностный надрез. Я утверждаю, что такой нож, похищенный Питером Хадсоном на судне, – единственный инструмент, с помощью которого можно было совершить все эти преступления».
Этаж за этажом воздвигал Конан Дойл систему доводов; он доказал, что Джон Хадсон, старший брат Питера, принимал участие в написании писем 1892–95 годов и что семья Идалджи давно уже была предметом ненависти обоих братьев. Некоторые наиболее веские и уничтожающие доводы мы привести здесь не можем, ибо они слишком явно укажут на личность Хадсона, но власти с ними ознакомились.
В ожидании отчета комитета по изучению дела Идалджи Конан Дойл все больше исполнялся уверенности, что справедливость восторжествует. Он был в этом убежден. Да и весь этот год складывался для него замечательно – год исполнения желаний: в сентябре он должен был обвенчаться с Джин Лекки.
«И мы, – писал он, – пригласим Идалджи на свадьбу».
В конце мая были обнародованы рекомендации комитета и решение министра внутренних дел. В правительственном заявлении, «представленном обеим палатам по указу Его Величества», излагались выводы комитета. На г-на Йелвертона, первого защитника Идалджи, они произвели ошеломляющее впечатление.
Джордж Идалджи, утверждали члены комитета, был ошибочно обвинен в нападении на домашних животных; они не могут согласиться с приговором присяжных. С другой стороны, они не видят оснований сомневаться в том, что Идалджи был автором анонимных писем. «Признавая его невиновным, нужно отметить, что он до некоторой степени сам виноват в своих неприятностях». Следовательно, он будет реабилитирован, но не получит никакой компенсации за трехлетнее пребывание в тюрьме, раз он сам навлек на себя беду.
Иными словами, опять компромисс с совестью.
Это уже чересчур. В палате общин на министра внутренних дел градом отравленных стрел посыпались едкие вопросы. Общество юристов, выражая мнение коллег Идалджи, немедленно восстановило его в списке юрисконсультов с правом юридической практики. «Дейли телеграф» объявила подписку на триста фунтов стерлингов в пользу Идалджи. А доведенный до крайности Конан Дойл потребовал объяснений у министерства внутренних дел.
– Вы что, считаете, – вопрошал он, – что Джордж Идалджи сумасшедший?
– Нет, на это не похоже.
– Может быть, когда-нибудь ранее возникали сомнения в его вменяемости?
– Никогда.
– Тогда как вы можете всерьез утверждать, что он послал мне семь злобных писем, угрожая расправой?
– Мы можем только посоветовать вам обратиться к отчету Комитета, страница шестая. «Эти письма, – говорится там, – имеют лишь весьма отдаленное отношение к вопросу о справедливости приговора, вынесенного Идалджи в 1909 году». Весьма сожалеем, но это все.
Нет, это было не все. Конан Дойл вновь ринулся в бой на страницах «Дейли телеграф» – сначала циклом статей под заголовком «Кто был автором писем?», а затем – с июня по август – собственными письмами в редакцию. «Я этого дела так не оставлю!» – писал он. Он раздобыл одному ему ведомыми способами аутентичные образцы почерка Питера и Джона Хадсонов. Эти образцы вместе с анонимными письмами он передал д-ру Линдсею Джонсону, лучшему в Европе специалисту по почеркам, которого в свое время пригласил мэтр Лабори, адвокат Дрейфуса. Исходя из очевидного сходства почерков, подтвержденного заключением д-ра Линдсея Джонсона, Конан Дойл доказал, что Питер Хадсон являлся основным автором анонимок, а Джон Хадсон – его сообщником.
С официальной точки зрения это ничего не значило. Представители властей дружно уверяли, что, поскольку против Питера Хадсона никогда не возбуждалось дело ни по обвинению в написании анонимных писем, ни в калечении домашнего скота, никакое дальнейшее расследование не представляется возможным. Остается только добавить, что неугомонный шутник еще в 1913 году, когда все давно уже позабыли об Идалджи, время от времени рассылал в центральных графствах письма, полные безумных угроз.
Но вот за звуками церковных гимнов, гулом органа и восторженными восклицаниями не стало слышно шума вокруг дела Идалджи. 18 сентября 1907 года, будто единым взмахом, развернулись красный ковер в отеле «Метрополь» и газетные заголовки:
«Бракосочетание сэра Артура Конан Дойла» («Лондон морнинг пост»). «Сэр Артур Конан Дойл женится на мисс Джин Лекки» («Нью-Йорк геральд»). «Сэр А. Конан Дойл женится» («Манчестер гардиан»). Среди газетных вырезок в архиве Конан Дойла мы находим отклики из отдаленных краев: «„Сыщик-виртуоз“ и его невеста» («Берлинер цайтунг»), «Шерлок Холмс все-таки женился» («Буэнос-Айрес стандарт»), «Женщина-сыщик» («Ля кроник», Брюссель). Последний заголовок кажется интригующим, пока мы не обратимся к еще более поразительному объяснению бельгийского репортера:
«Конан Дойл, английский писатель, создавший образ гениального сыщика Шерлока Холмса, недавно женился. По словам одного французского журналиста, юная поклонница детективного жанра была столь очарована необычайными приключениями короля сыщиков, что вступила в брак с его создателем».
Венчание совершалось в церкви св. Маргариты в Вестминстере. Чтобы избежать толпы зевак, о которых Конан Дойл не мог помыслить без отвращения, название храма не было объявлено в газетах. Приглашены были только близкие родственники и несколько друзей. И, когда у входа в церковь, в тихом солнечном уголке аббатства развернулся полосатый тент, – это привлекло лишь нескольких любопытных прохожих.
Первым появился жених, величаво выступавший в традиционном фраке и белом жилете, с веточкой гардении в петлице; по словам одного репортера, он являл собой «олицетворение счастья». Его сопровождал в качестве шафера крайне взволнованный Иннес. За ними шествовала мать жениха – седовласая, в платье из серой парчи, – а за нею шли гости. В два часа вышла из кареты, опираясь на руку отца, Джин Лекки в платье, отделанном белыми испанскими кружевами и расшитом по серебристому фону жемчугом.
Службу совершал Сирил Эйнджел, зять жениха. Пятилетний сын Сирила и Додо, одетый пажом, нес длинный шлейф невесты, когда та шла по проходу в сопровождении своих подруг, Лили Лоудер-Симондз и Лесли Роуз. В церкви было прохладно, благоухали охапки цветов и царило радостное возбуждение. Очевидец отметил, что жених отвечал на вопросы священника «звонким и взволнованным голосом, ответы невесты были едва слышны».
Венчание совершалось торжественно, голоса певчих гулко звучали в полупустом храме; на свадебном приеме в «Метрополе» все выглядело иначе. Под руку с Джин, следя, чтобы она не запуталась в длинном шлейфе, сэр Артур поднялся по застланной красным ковром лестнице туда, где в зале среди высоких пальм и белых цветов их ожидали 250 человек гостей.
Он рад был приветствовать и д-ра Хора с супругой, у которых он служил ассистентом более двадцати пяти лет назад, и Булнуа, товарища по странствиям в южных морях. Были там и Джеймс Барри, и Джером К. Джером, и Роберт Барр, который, как и встарь, ревел медведем над бокалом шампанского. Были и другие друзья: сэр Гилберт Паркер, Макс Пембертон, Фрэнк Баллен, сэр Джон Лангмен, не говоря уже об Арчи Лангмене, живом напоминании о бурской войне; был и сэр Роберт Крэнстон, который руководил его избирательной кампанией на выборах в Эдинбурге. Когда заиграл оркестр и были открыты три корзины с поздравительными телеграммами, Конан Дойла охватило чувство, будто он листает альбом из «добрых старых времен».
И еще одному гостю обрадовались все. Это был Джордж Идалджи, который преподнес в качестве свадебного подарка однотомные издания Шекспира и Теннисона. Запинаясь, пробормотал он поздравления и слова благодарности. Потом, за чаем, когда новобрачные прощались с гостями перед отъездом в свадебное путешествие по Европе, Идалджи начал было снова благодарить сэра Артура. Но тот ответил, что не заслуживает ничего сверх поздравлений по случаю свадьбы.
«Я очень счастлив. Я очень рад. Господь с вами», – сказал он.
В том же году, во многом благодаря делам Адольфа Бека и Джорджа Идалджи, был наконец учрежден апелляционный уголовный суд. Это событие совпало с другими знамениями нового века: Маркони соединил материки беспроволочным телеграфом, а Фарман почти час продержался в воздухе на своем биплане. Но, вспоминая дело Идалджи и ту роль, которую в нем сыграл Конан Дойл, мы не можем не задаться вопросом, ответ на который напрашивается сам:
«Кто же был истинным прототипом Шерлока Холмса?»
ГЛАВА XVIПАСТОРАЛЬ:
УИНДЛШЕМ С ТЕАТРАЛЬНЫМИ ИНТЕРМЕДИЯМИ
«Будучи единственным оставшимся в живых свидетелем похорон Эдгара Аллана По, – писал мистер Элден в феврале 1909 года, – и одним из немногих, видевших его при жизни, я крайне сожалею, что мой преклонный возраст и слабое здоровье не позволят мне присутствовать на юбилейном обеде, где Вы будете председательствовать.
Живя в то время в Балтиморе, моем родном городе, я часто видел мистера По; при некоторой моей юношеской сентиментальности я был очень увлечен им самим, помимо его литературного гения.
Необычно холодным и мрачным октябрьским днем я вышел из дому, и вдруг мое внимание привлекли приближающиеся похоронные дроги, за которыми тянулись два наемных экипажа, все это было весьма скромного вида. Когда я поравнялся с этой маленькой процессией, что-то побудило меня обратиться к вознице: „Кого это хоронят?“ К моему великому изумлению он ответил: „Мистера По, поэта“».
Такие штрихи из биографии вечно голодного, изможденного гения до глубины души трогали Конан Дойла, для которого По был одним из первых его литературных кумиров. Он всегда утверждал, что Эдгар Аллан По – величайший мастер рассказа всех времен и народов. И теперь, занимая место во главе стола на обеде в честь столетия со дня его рождения, он вновь заговорил об этом, отдавая ему дань как изобретателю детективного жанра.
Конан Дойлу недавно исполнилось пятьдесят. В волосы и усы вкрались легкие нити седины. Но полнота жизни и семейное счастье гнали прочь всякую мысль о старости. Колесо судьбы сделало полный оборот, вернув его к давно минувшим добрым временам. Эти семь лет, прошедшие со дня женитьбы в 1907 году, были, наверное, счастливейшими в его жизни, обращавшейся сейчас вокруг жены и нового дома Уиндлшем в Кроуборо, Суссекс.
Уиндлшем, стоявший в безлюдной открытой местности, простиравшейся от Кроуборо-Бикона до Суссекской возвышенности, был основательно переделан, увеличен и теперь мало походил на тот невзрачный деревенский дом, который он приобрел накануне свадьбы. Родители Джин уже много лет подряд проводили летние месяцы в Кроуборо, и он решил: дочь должна жить неподалеку. Этот пустынный уголок Суссекса, сто лет назад населенный лишь одними цыганами, контрабандистами и угольщиками – цыганские черты узнаются в жителях и по сей день, – освежал его воображение не хуже бриза с морского побережья.
Уиндлшем, с его пятью фронтонами, серыми стенами и белыми оконными рамами, с красной черепицей и красными же трубами, был виден издалека. Главный фасад, перед которым Джин разбила розарий, выходил на юго-запад. В правой части дома, если стоять к нему лицом, размещался его кабинет.
В передней комнате сидел секретарь, Альфред Вуд, человек плотного сложения, военной выправки, лет на шесть младше него. Это помещение отгораживалось от следующего малиновыми шторами. Ряд окон и балкон задней комнаты кабинета выходили на то, что некогда было Эшдаунским лесом, на красные вымпелы площадки для гольфа, а дальше, сколько хватало глаз, стелился багряно-желтый терновник, таявший в голубой дымке Суссекских холмов, убегающих к Проливу.
– Взгляните туда! – любил он говорить, подходя к окну и указывая вдаль. – Видите эту группу деревьев в четверти мили отсюда слева?
– Да, да. Что это?
– Это так называемый Кровавый Дол. Когда-то, во времена контрабандистов, там произошла жестокая стычка с таможенниками. – И он оглядывался на кожаные кресла, книжные полки, старый верный письменный стол, на поверхности которого лежала большая лупа, а во внутреннем ящике – небольшой пистолет. «Разве здесь не должно хорошо работаться?»
В первое время, однако, он работал мало. Чтобы доставить удовольствие Джин, он написал еще два холмсовских рассказа – «В Сиреневой Сторожке» и «Чертежи Брюса-Партингтона». И опять же в угоду Джин занялся он садоводством, да так рьяно, что ей приходилось напоминать, что он не землекоп, а садовник. Дом их был всегда полон гостей; два дня в неделю они совершали визиты или сами принимали в Лондоне.
Он так гордился ее обаянием – она любила одеваться в голубое, оттеняющее ее карие глаза и темно-золотистые волосы, – что даже самые тягучие приемы не угнетали его. А у Джин, при всей ее любви к музыке, животным и цветоводству, было в жизни лишь одно настоящее увлечение – ее безупречный супруг. Что бы Артур ни сказал или ни сделал – он всегда прав. Однажды, после обеда, за которым лорд Китченер не совсем учтиво обошелся с ее мужем, она, чисто по-женски негодуя, решилась писать Китченеру о том, как должен вести себя истинный джентльмен. А муж ее, посмеиваясь про себя, однако весьма польщенный, сделал вид, что ничего не замечает, и не стал ей мешать.
В Уиндлшеме главную роль в их быту стала играть непомерных размеров бильярдная, связанная со столькими воспоминаниями.
Бильярдной этой – во всю ширину дома с востока на запад, с окнами во всю стену по торцам, в которой, когда сворачивали ковры, могли танцевать сразу 150 пар, – Конан Дойл, перестраивая дом, отвел роль гостиной – средоточия всей жизни.
В одном ее конце, под сенью пальм, стояли рояль и арфа Джин. В другом конце, под лампой с зеленым абажуром, – его бильярдный стол. И рояль, и бильярд в этом огромном помещении терялись, как терялись обитые парчой кресла и разостланные по полу звериные шкуры. Над камином висел портрет Тома Стаффорда кисти Ван-Дейка, принадлежавший его деду Джону. Над другим камином, в алькове, не уступающем размерами иной комнате, висела оленья голова в обрамлении патронташей – трофей из Южной Африки. По стенам, обтянутым голубыми обоями, шел бордюр из оружия наполеоновских времен. И среди оружия висел его собственный портрет работы Сиднея Пейджета.
С наступлением сумерек, при свете газовых светильников, льющемся сквозь розовый шелк и стекло абажуров и отраженном в натертых до блеска полах, сколько голосов, сколько бесед слышали они с Джин в стенах этой самой бильярдной, где оживает для нас атмосфера довоенной эпохи.
Тут и сэр Эдвард Маршалл Холл, Великий Защитник, доказывающий, что д-р Криппен мог быть оправдан. И исследователь Арктики Стефанссон, развернувший на бильярде свои географические карты. В алькове сидит Редьярд Киплинг и, покуривая гаванскую сигару, рассказывает историю об убийстве «внушением» в Индии. И Уильям Дж. Бернс, американский детектив, объясняющий действие детектофона и осаждающий хозяина вопросами о Шерлоке Холмсе. У рояля Льюис Уоллер, романтический актер, непревзойденный Генрих V; когда он читает отрывки из своих ролей, его голос заставляет звенеть хрустальным звоном стеклянные с шелковой драпировкой абажуры.
Но для 1909 года это пока еще сцены из будущего. А обед в честь По, в марте того же года, происходил незадолго до рождения их первенца. И хоть отец не был новичком, его на сей раз «охватила такая тревога, что стыдно признаться». Ребенок, мальчик, появился на свет в день святого Патрика. Матушка была в восторге.
«Итак, – писала она, сразу переходя к делу, – как насчет имени? – Учитывая день появления на свет, почитая дедушку и семейные традиции, я склоняюсь к имени Патрик Перси Конан Дойл».
Но сами родители не испытывали склонности к этому имени, о чем и сообщили матушке. И спустя три дня тон матушкиного письма уже иной.
«Вы вольны поступать как вам угодно, – выражает матушка гордое безразличие. – Это, безусловно, ваше право». После недолгих пререканий матушка, мечтавшая, что все ее отпрыски будут носить «великое древнее имя» Перси Баллинтампль «в сочетании с Конанами, как в Саль-де-Шевалье на Монт-Сен-Мишель», смирилась с предложением назвать внука Денис в честь сэра Дениса Пака из рода Фоли.
Едва лишь Денис Перси Стюарт Конан Дойл был крещен, как его отец с новым пылом бросился на защиту угнетенных и беззащитных. Теперь это было «Преступление в Конго». А мишенью его был Леопольд Второй, король Бельгии.
На «Черном континенте», на несколько тысяч квадратных миль, простиралось Свободное государство Конго, по большей части покрытое непролазными джунглями, в 1885 году признанное международным соглашением. Управление им возлагалось на бельгийского короля, который был призван «способствовать моральному и материальному благополучию коренного населения».
Но старый сатир, король Леопольд, сочетавший веселый нрав с холодным цинизмом, понимал благосостояние туземцев по-своему. Конго сулило Соломоновы сокровища (слоновая кость и золото), стоило только кнутом и цепями, калеча и убивая, запрячь в работу черных. Долгие годы эти сокровища перетекали в его карманы. Он не обнародовал никаких отчетов. Кроме его ближайших советников, нескольких человек в Бельгии, никто не знал, как на самом деле управляется Конго. Но постепенно, из консульских донесений и протестов миссионеров, Европа уловила царящий в джунглях дух. То был дух насилия и смерти.
В 1903 году Британское правительство не из одних лишь гуманных побуждений, но и блюдя интересы свободной торговли, выступило с протестом. Росло возмущение и в Бельгии. Конан Дойл, впервые ознакомившись с подлинными фактами, просто отказывался верить. Картина зверств, изощренного надругательства и насилия даже в наш жестокий век заставляла содрогнуться.
«Я убежден, – писал он в предисловии к „Преступлению в Конго“, появившемуся в октябре 1909 года, – что причина безучастности общественного мнения к вопросу о Конго в том, что эта ужасающая история не доходит до людского сознания». И поэтому цель своей новой книги, где так же, как и в «Войне в Южной Африке…», каждое утверждение тщательно подкреплялось цифрами и фактами и которая не принесла ему ни пенни дохода, он видел в том, чтобы донести до людей правду о Конго.
«Я очень рад, – писал Уинстон Черчилль, тогдашний глава Министерства торговли в либеральном правительстве, – что Вы обратили свой взор на Конго. Я окажу Вам посильную помощь». Руку помощи протянул из Реддинга в Коннектикуте и умирающий Марк Твен.
Но… «Осторожно!» – предупреждало Министерство иностранных дел; сэр Эдвард Грей, его глава, считал, что эта шумиха вокруг Конго угрожает европейскому миру. Впрочем, запущенная Конан Дойлом кампания уже набрала ход, в то время как он сам оказался действующим лицом иной, несколько комической американской антрепризы.
4 июля в Рено должна была состояться встреча на звание чемпиона в тяжелом весе между Джимом Джефри и негритянским боксером Джеком Джонсоном, но расовая проблема мешала выбору рефери, и, если бы сэр Артур Конан Дойл соблаговолил выступить в этой роли, обе стороны были бы удовлетворены.
«Ей-богу, – говорил он, – подобного спортивного предложения мне еще не приходилось получать».
Он и сам еще не оставил занятий боксом, и каждую неделю в Уиндлшем приезжал его спарринг-партнер. Джин, хорошо его изучившая, была гораздо менее удивлена американским предложением, чем некоторые его друзья.
– Так ты собираешься ехать?
– Ехать? Разумеется, собираюсь! Это великая честь!
Вилли Хорнунг и даже Иннес пытались отговорить его, уверяя, что англичанин в роли судьи американского поединка с расовым подтекстом должен быть счастлив унести ноги живым. Тут-то и заключалась их тактическая ошибка. Ничто не могло бы так повлиять на его решение – он немедленно принял предложение. И если неделю спустя ему пришлось-таки с горечью отказаться, то лишь вняв голосу совести, преследовавшей его столь же неотступно, как и матушка.
«Дело Конго только начинается, – твердила совесть. – Ты не можешь бросить все в таком виде. Просто не имеешь права! К тому же нельзя забывать о театре».
Правда, тут, в театре, он нашел себе одно слабое утешение. Задолго до 4 июля, когда Джонсон на пятнадцатом раунде разделался с Джефри, тот, кто должен был быть рефери на их поединке, стоял на галерке театра «Аделфи» и следил за боем по ходу его собственного боксерского представления – пьесы «Дом Темперли».
1910 год прошел для него под знаком театра – то был год натянутых до предела нервов и едва ли не провала. Точнее говоря, началось это раньше, полгода тому назад, когда пьеса «Огни судьбы» (так называлась инсценировка «Трагедии в Короско» с изменениями в сюжете) была успешно поставлена в театре «Лирик».
Уже знакомый нам Льюис Уоллер играл в «Огнях судьбы» главную роль весьма юного полковника бенгальских улан. Уоллеру требовались роли блестящие – удачней всего выходил у него д’Артаньян и мосье Бокэр, он был кумиром женщин, выразителем мужественного начала, при этом подвижным и оживленным, как поющая юла; он даже мог играть в паре с актрисой (какой актер отважился бы на такое?) выше его ростом. И уже в 1906 году, когда он некоторое время руководил Имперским театром и выступал вместе с Лили Лангтри, Уоллер сыграл роль в «Бригадире Жераре».
Мы до сих пор не упоминали о «Бригадире Жераре», потому что это была далеко не лучшая пьеса Конан Дойла. Бригадиру нужны монологи, нужно, чтобы он был сам себе рассказчиком, чтобы сам себе создавал фон и бряцал оружием, то есть это была бы идеальная современная радиопостановка. Хотя автор изо всех сил пытался выжать комедию и своего хвастливого героя, почитательницы Уоллера были разочарованы и недовольны. Где берущая за душу торжественность? Где волоокий мосье Бокэр?
«Ты знаешь, – услышал Конан Дойл в фойе слова одной девушки, – были минуты, когда я едва могла удержаться от смеха». Что тут скажешь!
Но Уоллера в качестве полковника Эджертона из «Огней судьбы» выручала мелодраматичность и «нравоучительность» (как значилось в подзаголовке) пьесы. Успех, каким пользовалась постановка летом и осенью 1909 года, когда он делил расходы с Уоллером, укрепил давно зревшую в Конан Дойле уверенность, что он сможет покорить сцену, если, вопреки оценке менеджеров, возьмется поставить за свой счет «Дом Темперли».
«Дому Темперли», поначалу называвшемуся «Дни регентства», потребовалось семь актов и 43 персонажа, не говоря уже о статистах. Конечно, ни один менеджер не прикоснулся бы к столь разорительной постановке. Но это была его старинная мечта: спектакль, зрелище, панорама спортивной жизни Англии 1812 года, которая предстанет во всех точнейших подробностях и покажет, что в профессиональном боксе нет ничего низкого, если оградить его от мошенничества. А боксерский поединок на сцене театра!..
Он подписал весьма рискованный контракт об аренде театра сроком на шесть месяцев. И 27 декабря 1909 года, когда в Аделфи поднялся занавес, Конан Дойл находился в ложе, тщательно укрывшись за шторами и сжимая руку Джин.
В прессе уже пробежал легкий трепет перед предстоящим событием. «Уикли диспетч» послала в качестве театрального критика Фредди Уэлша, чемпиона Англии в легком весе, вызвав язвительное замечание «Вестминстер газетт», что впредь обозревателями пьес о бродягах будут, по всей видимости, профессиональные взломщики. В передних рядах можно было видеть Юджина Корри, рефери национального спортивного клуба, и лорда Эшера, председателя ассоциации территориальных войск Лондонского графства. Аделфи, традиционный дворец мелодрамы, был набит битком.
Зрители увидели, что «Дом Темперли» не был инсценировкой «Родни Стоуна», хотя и имел с ним много общего. Первый акт, разворачивающийся в величественном поместье Темперли, был вялым и высокопарным; в нем намечалась какая-то поверхностная любовная интрига, которой никто, включая автора, заинтригован не был. Конан Дойл, ерзая в ложе, нацарапал на программе: «Слишком анемично!». Но с первых же реплик второго действия пьеса пробудилась к жизни.
Теперь уже в партере аплодировали, а галерка ликовала. Невозможно было усидеть на месте, поддавшись азарту реалистической постановки. Ибо то, что происходило на сцене, было далеко не имитацией. Натаскивал актеров Фрэнк Биннисон, инструктор по боксу, а помогал ему сам автор, выступавший на репетициях поборником реализма.
Ничего подобного, признавала пресса на следующий день, на сцене не видывали. Там был еще эпизод военного сражения – естественно, с грохотом, разрывами снарядов и пороховым дымом. Ну да это – как впоследствии оценил его сам автор – был перебор, хотя и задевавший патриотические струнки публики. Когда в одиннадцать часов занавес наконец опустился, ликование уже охватило партер, а галерка – та была просто вне себя от восторга.
«Когда сэр Артур вышел на поклон, – писала на следующий день „Дейли ньюс“, – ему был оказан великолепный прием».
Итак, он добился своего. Он поставил на сцене боксерский поединок. Публике это пришлось по душе. Он был счастлив. И все же, продержавшись четыре месяца при все пустеющем зале, «Дом Темперли» сошел со сцены.
Клемент Скотт из «Джона Буля» был, видимо, единственным критиком, предрекшим такой конец. Другие обозреватели сулили спектаклю жизнь до Судного дня. Это была пьеса для мужчин. Но мужчины редко приходят в театр одни, без женщин, или же женщины ходят в театр сами. И хотя нельзя сказать, что в 1910 году женщины совершенно игнорировали боксерские соревнования («Лондон опинион» отмечает появление недавно вошедших в моду гофрированных пышных юбок на местах за полгинеи), но все же пьеса, не затрагивающая женских проблем, не может вызвать их сочувствия.
Можно либо развить крепкую любовную интригу, либо использовать беспроигрышный мотив девушки в опасности, но нельзя пренебрегать и тем и другим вместе. Конан Дойл, терпя еженедельные убытки и имея на руках столь катастрофически расточительный театр, использовал всевозможные приемы, чтобы спасти «Темперли». Когда матушка корила его за то, что он забывает ей писать, особенно теперь, когда Иннеса недавно произвели в майоры, он не имел смелости рассказать ей, что дела его очень плохи.
«Моя одноактная пьеса „Баночка икры“ (это было переложение одного из его лучших рассказов) идет на бис к „Темперли“, и весьма успешно. Дела в Лондоне обстоят из рук вон плохо, – писал он 21 апреля 1910 года, – но мы надеемся постепенно наверстать».
6 мая скончался король Эдуард. Для большинства его кончина явилась совершенной неожиданностью, мало кто даже знал, что он был серьезно болен. Вест-Энд погрузился в траур, людям было не до театра. А между тем, как мы теперь знаем из письма, о котором Конан Дойл и не подозревал, он уже давно мог уступить Аделфи под музыкальную комедию и тем самым избежать новых убытков. Но он был слишком упрям, он не мог признать поражения. Еще до апрельского письма матушке он увлекся другой пьесой, которую написал в одну неделю и тотчас же принялся за ее постановку.
«Черт подери! Они еще увидят!»
«Дом Темперли» закрыл свои двери незадолго до похорон короли Эдуарда. 4 июня, менее чем через месяц, Аделфи осветили огни новой премьеры. Это была «Пестрая лента».
«Пестрая лента» принесла больше, чем он потерял; и уверенно не сходя со сцены, имела еще до сентября две гастроли. Тут были Холмс и Уотсон: прежние божества вновь явили свою живительную силу.
Однако – в наши дни, когда мельчайшие подробности приключении Холмса приобрели такое значение, – надо предостеречь его приверженцев от чтения пьесы. «Пестрая лента». Они найдут Холмса и Уотсона в лучшей форме, но с ума сойдут, пытаясь привести в порядок хронологию.