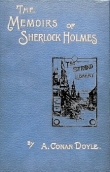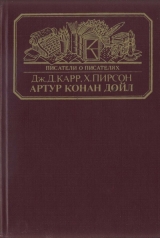
Текст книги "Артур Конан Дойл"
Автор книги: Джон Диксон Карр
Соавторы: Хескет Пирсон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
В хорошо знакомой нам обстановке на Бейкер-стрит появляется лучезарный Уотсон, только что обручившийся с Мэри Морстен из «Знака четырех». Холмс в халате обескуражил его.
– О Боже, Холмс! Я бы вас никогда не узнал.
– Дорогой Уотсон, когда вы станете меня узнавать, это будет начало конца. Мне придется коротать остаток дней, разводя птиц на какой-нибудь ферме.
И тут великий ум, пристально взглянув на Уотсона, догадывается, что тот недавно обручился и с кем.
– Но, Холмс, это удивительно! Леди зовут мисс Морстен, вы имели честь ее видеть и восхищаться. Но как вы узнали…
– По тем же признакам, мой дорогой Уотсон, которые убеждают меня в том, что вы виделись с этой леди сегодня утром.
Он снял с плеча Уотсона длинный волос, намотал его на палец и стал рассматривать в лупу: «Очаровательно, дружище! Нельзя не узнать этот тициановский оттенок».
(То есть, рыжий, как мы понимаем. Но у Мэри Морстен были белокурые волосы, и едва ли она вознамерилась бы их перекрасить. Так чьим же обществом наслаждался Уотсон на сей раз?)
В Аделфи носились беспокойные зловещие тени. Роль д-ра Райлотта (вместо Ройлотта) играл Лин Хардинг, который сказал однажды младшему коллеге, что актер, знающий свое дело, может держать зал в напряжении, декламируя таблицу умножения. Мисс Кристина Силвер играла Инид (а не Элен) Стонор, девушку, над которой нависла опасность. Х. А. Сейнтсбери был Шерлоком Холмсом, Клод Кинг – доктором Уотсоном.
Все работало на развязку в третьем акте, когда в тусклой спальне луч потайного фонаря выхватывает из темноты сползающую по шнуру от звонка змею. Змея же, первоначально настоящая, была подменена столь искусно выполненным чучелом, что оно могло, посредством натяжения невидимых нитей, двигаться с чудовищным натурализмом.
Холмс стегает шнур, и в следующее мгновение зал слышит из соседней комнаты вопль д-ра Райлотта, на которого набросилась уползшая змея. Звук тростниковой дудочки, все набиравший силу, резко обрывается. Слышны торопливые шаги в коридоре. Холмс распахивает дверь, проливая на темную сцену дорожку желтого света. И в этом освещенном проеме стоит д-р Райлотт: огромный, судорожно искривленный силуэт, змея обвивает его голову и шею.
С хриплым криком он делает два шага и падает. И тут, производя невиданный театральный эффект, змея медленно сползает с его головы и извивается на сцене, пока Уотсон не добивает ее своей тростью.
Уотсон (глядя на змею):Гадина мертва.
Холмс (глядя на Райлотта):Другая тоже.
(Оба бросаются, чтобы подхватить потерявшую сознание девушку.)
Холмс: Мисс Стонор, вам больше не угрожает опасность под этой крышей.
В конце сентября, когда «Пеструю ленту» запустили в Глоб-театре, Конан Дойл стал собираться домой, в Уиндлшем – ему требовался хотя бы краткий отдых. Весь этот год, среди всех театральных забот и волнений он искал поддержку в борьбе за реформы в Конго. Один из тех, у кого он нашел сочувствие, был Теодор Рузвельт, ныне экс-президент Рузвельт. Конан Дойл всегда симпатизировал ему и как государственному деятелю, и как спортсмену. Не было и более страстного читателя детективов, чем Теодор Рузвельт. В письме, отправленном в июле 1903 года из Ойстер-бей, мы читаем: «Президенту стало известно, что сэр Артур вскоре будет в нашей стране (информация была ошибочной), и желает узнать, когда и где его можно повидать по приезде».
Но они не встретились вплоть до мая 1910 года, когда Рузвельт побывал в Лондоне, завершив охотничий сезон в Африке. Это было на ланче, вскоре после похорон короля Эдуарда.
«Мне нравилосьбыть президентом», – говорил Рузвельт, обнажая в улыбке зубы и стукнув для убедительности по столу на слове «нравилось». Он поинтересовался, как себя чувствует Шерлок Холмс, и был рад узнать, что идут репетиции «Пестрой ленты».
Собирая пожитки в отеле «Метрополь», Конан Дойл не желал уже больше слышать ни слова о «Пестрой ленте» или какой-нибудь другой пьесе. Он сходил с театральных подмостков, как сообщил он в интервью, данном 18 сентября репортеру «Рефери».
– Я покидаю театральное поприще не потому, что театр меня не волнует, – сказал он. – Напротив, он волнует меня слишком сильно. Это так затягивает, что отвлекает мысли от более важных проблем жизни.
Не поймите меня превратно! Для тех, кто способен воспринимать важные проблемы жизни в драматургическом ключе, все это, возможно, и не так. Я же знаю свои пределы. – Он подумал об «Огнях судьбы», «нравоучительной пьесе», смысла которой, как это ни горько вспоминать, публика не разглядела или не захотела разглядеть. – И вот я дал зарок, что никогда не буду писать для сцены.
– Каковы ваши планы?
– О, я хочу провести зиму за чтением.
В Уиндлшеме, где вас встречал паж в ливрее, в точности как в спектакле «Пестрая лента», в эту осень было не много развлечений. Второй ребенок Джин, и опять мальчик, родился 19 ноября. Они назвали его Адриан Малкольм: в честь д-ра Малкольма Лекки, любимого брата Джин, а Адрианом просто потому, что ей это имя нравилось. В ту зиму Конан Дойл вновь углубился в Римскую историю и писал рассказы, которые впоследствии составили часть «Последней галеры».
Римская история была только одним из целого ряда занятий в эти уиндлшемские годы, давшие обильную пищу его пухлым записным книжкам. Его ум, всегда беспокойный, должен был над чем-то работать; он должен был разминаться; должен был занять себя, чтобы не застояться. Нумизматика, археология, ботаника, геология, древние языки: все это в свой черед увлекало его, и, говоря о чтении, он имел в виду не ленивое дочитывание.
В прошлый год, к примеру, он погрузился в филологию. Отдыхая в Корнуолле, он изучал древний корнуоллский язык и пришел к убеждению, что он родственен халдейскому. Корнуолл дал ему фон еще для одного рассказа, появившегося в этом году: «Дьяволова нога». И сверх всего этого широчайшая переписка.
Постоянную тему его уиндлшемской корреспонденции составляли просьбы о помощи в расследовании запутанных дел. Некогда они были обращены к Шерлоку Холмсу, но после дела Идалджи – что знаменательно – адресовались лично Конан Дойлу.
Например, когда на польского дворянина пали серьезные подозрения в убийстве, его родственники просили Конан Дойла назвать свою цену, предлагая выслать незаполненный чек, с тем, чтобы он приехал в Варшаву и разобрался в деле. Он отказался. Совсем иначе отнесся он к девушке по имени Джоан Пейнтер, сестре милосердия из Северо-Западного госпиталя в Хемпстеде, чьи отчаянные письма словно были взяты из его собственных рассказов.
«Я пишу Вам, – умоляла она, – потому что не могу представить себе никого иного, кто мог бы мне помочь. Я не в состоянии сама нанять детектива, потому что у меня нет денег, не могут и мои родственники по той же причине. Около пяти недель тому назад я повстречала человека, датчанина. Мы обручились, и, хотя я не хотела, чтобы он говорил об этом некоторое время, он настоял на поездке в Торки к моим родственникам…»
В некоторых деталях это походило на «Установление личности», хотя мотивы были различны. Молодой датчанин завалил ее подарками, уговорил оставить работу в госпитале и затем, когда все приготовления к свадьбе были сделаны, исчез, как мыльный пузырь.
Но у девушки не было денег, и он это прекрасно знал. Не было тут и соблазнения или попытки соблазнения. Мисс Пейнтер, не помня себя, пришла в Скотленд-Ярд, где решили, что ее жених попал в руки мошенников, но они не смогли его разыскать. Не смогла его разыскать и датская полиция. Если он исчез добровольно, если он не похищен и не убит, то чем объясняется его поведение? И где он находится?
«Пожалуйста, не сочтите это за наглость с моей стороны, – заканчивалось письмо мисс Пейнтер, – я очень несчастна и как раз сегодня утром подумала о Вас, пожалуйста, сделайте для меня все, что можете, и я буду Вам вечно благодарна».
Может ли рыцарь остаться равнодушным к такой мольбе? Ответ очевиден.
Так вот – он обнаружил этого человека. «Я смог, – писал Конан Дойл впоследствии, – методом дедукции и показать, куда он делся, и убедить, что он не стоит ее чувств». Об этом мы находим свидетельство в последнем из писем мисс Пейнтер.
«Я не знаю, как отблагодарить Вас за Вашу доброту. Как Вы говорили, я своеобразным путем избежала горшей участи, и мне не хочется даже думать, что было бы, не исчезни он в свое время. Я возвращаю письмо и, конечно, сразу сообщу Вам, если когда-либо услышу о нем хоть что-то».
Но как ему удалось распутать дело? Мы располагаем лишь одной стороной их переписки. Где в этих письмах отгадка, которая виделась ему так ясно? Биограф, рискнувший подставить свою голову под вполне справедливые упреки за сообщение весьма невразумительных сведений, вынужден сказать, что, судя по всему, нам отгадки не найти.
Конан Дойл как никогда увлекся криминалистикой. В октябре 1910 года он поехал в Лондон на суд над доктором Криппеном. В начале того же года в серии «Достопримечательные шотландские судебные разбирательства» была опубликована книга, посвященная загадочному делу, в которое ему теперь предстояло углубиться. Книга была замечательно издана Уильямом Рафхедом, одним из лучших писателей по криминологии. Она называлась «Суд над Оскаром Слейтером».
Пока же он сидел в Уиндлшеме в кабинете с красными шторами и писал свои римские рассказы и делал заметки в новой тетради. Среди этих заметок были и некоторые высказывания Теодора Рузвельта.
Во время похорон короля Эдуарда германский император, – фыркнул Рузвельт, – ревновал к маленькой белой собачке покойного короля, потому что она «завладела всеобщим вниманием». Конан Дойл же, всегда живо откликавшийся на проявления благородства, был тронут присутствием кайзера, несмотря на трения между Британией и Германией.
Он еще не чувствовал реальности германской угрозы. Общеизвестно, что на германских офицерских собраниях поднимался тост за «Der Tag» [31]31
Тот день (нем.).
[Закрыть]. Но, имея врага в лице Франции у своих западных границ, Россию – с востока, решится ли Германия ввязаться в войну с Британской империей? На что она может надеяться? Куда девался немецкий практический ум?
Семь месяцев спустя, совсем при иных обстоятельствах, ему пришлось переменить свои взгляды.
ГЛАВА XVIIФАНТАЗИЯ:
СПОРТ, БОРОДЫ И УБИЙСТВО
Все участники – то есть 50 англичан против 50 немцев – выстроили свои автомобили в одну шеренгу на гранд-параде в городе Гомбурге в Гессе-Нассау перед стартом так называемого пробега принца Генриха. Это была первая неделя июля 1911 года. Среди автомобилей можно было увидеть машину сэра Артура Конан Дойла «Лорейн-Дитрих» (двадцать лошадиных сил) с прикрепленной спереди подковой на счастье.
Принц Прусский Генрих, обходительный и бородатый, заявил, что затеял этот пробег как спортивный жест доброй воли в честь коронации Георга V. Каждый участник должен был управлять своей машиной. В каждой машине должен был быть в качестве наблюдателя армейский или морской офицер со стороны соперника. Стартовав в Гомбурге, они должны были пройти через Кельн и Мюнстер в Бремерхафен; затем снова стартовать в Саутгемптоне и, описав круг по Англии и Шотландии, финишировать в Лондоне.
«Не скорость важна, – писал Конан Дойл 5 мая, сообщая матушке, что собирается принять участие в пробеге, – а надежность машины и человека… Победительницей будет команда, которая идет лучше и теряет меньше штрафных очков. Я беру пассажиркой Джин. Это будет славная гонка».
«Призом, – передавали слова принца Генриха, – будет статуэтка юной девы из слоновой кости, на постаменте которой выгравировано: „МИР“. И кто бы ни победил: Кайзеровский ли автомобильный клуб или Королевский – приз, вне всякого сомнения, все равно останется символом дружбы и миролюбия».
Вне всякого сомнения – это было далеко не так, хотя и английская пресса, по соображениям дипломатическим, выражалась не менее лицемерно, чем принц Генрих. Сигнал к старту был дан 5 июля. В густых клубах пыли длинная процессия автомобилей выкатилась из Гомбурга – под номером 1 белый «Бенц» принца Генриха.
Четырьмя днями ранее германское правительство совершило весьма характерный шаг. Французы были в Марокко, но и у немцев были свои виды на эту страну. Германские торговые фирмы проявляли большой интерес к гавани Агадир на Атлантическом побережье Марокко. До июля Вильгельмштрассе вела игру вполне деликатно. Как вдруг к Агадиру были посланы канонерка «Пантера» и крейсер «Берлин» «отстоять и защитить германские интересы». И «все колокола Европы разом забили набат», как писал впоследствии м-р Черчилль.
До наших автомобилистов эти известия дошли, когда они уже гнались, пробиваясь сквозь облако пыли, за девой из слоновой кости по имени МИР. Страсти и без того уже накалились. Из уважения к принцу Генриху англичане в качестве наблюдателей выставили офицеров высшего чина, и им пришлось молчаливо смириться с тем, что их компаньонами с германской стороны были капитаны или лейтенанты. Можно представить себе чувства британского генерала, сосуществующего на равных с инодержавным младшим офицером. Но было и кое-что еще.
Конан Дойл за рулем своего ландолета, в открытом салоне которого сидела Джин, а рядом с ним кавалерийский офицер, испытывал какое-то тревожное беспокойство. Он говорил по-немецки, но все его попытки проявлять благодушие ни к чему не приводили. Эти юнцы, прусские вояки, предвкушали скорую войну, словно это дело решенное. И ко всему еще тяжеловесный немецкий юмор – смесь лукавства и наглости, – действовавший на англичан, как чесотка, – такова была атмосфера, сгустившаяся до осязаемости.
«Подойдет тебе один из этих островков?» – спросил немецкий флотский офицер, когда пароход «Великий Курфюрст», с машинами и их экипажами на борту, выходил в Северное море мимо Фризских островов. Вот образчик их веселой шутки.
Разница темпераментов, обостренная жарой и дорожными тяготами, проявилась после второго старта в Саутгемптоне. Лимингтон, Харрогит, Ньюкасл, Эдинбург – гости немало повидали в стране и повсюду не расставались со своими фотоаппаратами.
«Вообще, – упорствовал Конан Дойл, – эти немцы – хорошие парни». Он готов был простить многое человеку, который каждое утро оставлял букет цветов на месте, где сидела Джин. «Но…» Он не мог не добавить этого «но». Они были ему не по душе.
В конце июля в Лондоне в Королевском автомобильном обществе все участники пили за здоровье кайзера. Британская команда одержала победу, и принц Генрих вручил им деву из слоновой кости.
Тем временем по всей Европе нарастало напряжение, особенно остро в Англии и Франции. Германия отказывалась дать объяснение, что означает присутствие военных кораблей у Марокканского побережья. Британская администрация (либерал-империалисты и радикалы), казалось, раскололась необратимо. Но Дэвид Ллойд Джордж, канцлер казначейства, неожиданно объединил два крыла: выступая в Гилдхолле, он сообщил, что, если Германия развернет войну с Францией, ей придется воевать и с Англией.
Внешне же последняя встреча участников пробега в Брукленде протекала безоблачно и очень красочно. Автомобили с высокими панелями ветровых стекол отливали всеми цветами радуги, от зеленого до малинового. Принц Генрих, главнокомандующий германским флотом, корабли которого стояли в гавани Агадир, сказался непосвященным в международные дела. Немецкие офицеры приехали сюда, конечно же, исключительно из спортивного интереса. В «Автомобиле» за 26 июля появилась крупная фотография (опять же – «чистый спорт») с подписью: «Лейтенант Бир на своем моноплане Этриха пролетает над шеренгой автомобилей в Брукленде».
Конан Дойл уже тоже совершил в этом году свой первый полет на «аппарате тяжелее воздуха» в одном из платных рейсов в Хендон. И хотя он не мог представить себе серьезность обстановки в Уайтхолле, будущее представлялось ему в весьма мрачных красках. Вернувшись в Уиндлшем, проделав более двух тысяч миль, он написал Иннесу:
«Билли, наша машина не допустила ошибок и вела себя весьма надежно. В остальном ничего хорошего. Но я не стану тебя беспокоить в такое время».
Дело в том, что Иннес в августе женился на датчанке Кларе Швенсен из Копенгагена. Его брат с целой семейной делегацией поехал на свадебную церемонию в Данию. На свадебном приеме Иннес произнес памятную всем речь, убедившую его датских друзей, покатывавшихся со смеху, что перед ними наконец истинный англичанин. Смущенный всеми похвалами в свой адрес, Иннес вдруг вскочил из-за стола и произнес буквально следующее:
«Ну… То есть, как сказать! О Господи! Что же?»
И сел.
Его брат не мог без хохота повторить эти слова. Вообще, если позабыть о германской угрозе, насчет которой, впрочем, возможно, он и ошибается, в ту осень он был вполне счастлив, уйдя с головой в работу над новой повестью.
Вот уже шесть лет, с тех самых пор как был написан «Сэр Найджел», не принимался он за большую вещь. Да, ему хватило разочарований, которые его постигли с «Сэром Найджелом»! Новая вещь – это будет нечто в ином роде, нечто, отвечающее его настроению, нечто приключенческое, нечто, завораживающее читателя и его самого так, как это было когда-то. Первые мысли зашевелились в нем при виде игуанодона, доисторического монстра двадцати футов роста, чьи ископаемые отпечатки были найдены в Суссекской долине, вид на которую открывался из окон его кабинета. Эти ископаемые останки хранились теперь в его бильярдной.
И это осенью 1911 года заставило его обратиться к книге профессора Рея Ланкастера о вымерших животных. С иллюстраций в книге уставились на него саблезубые и безмозглые чудища. Предположим, в сумеречном свете из подернутой туманной дымкой долины, словно привидение, появляется стегозавр? Или лучше так: допустим, в некотором отдаленном уголке земли – скажем, высокое плато в джунглях с природой нетронутой и неприкасаемой – такие существа живут по сей день?
Что за находка для любителя приключений! Просто клад для зоолога! Обращаясь к годам учения в Эдинбургском университете, выудил он из памяти сэра Чарльза Уайвилла Томсона, зоолога, ходившего в экспедиции на судне «Челленджер». В Томсоне самом по себе было мало живописного. Но от него тянулась ниточка к образу профессора Резерфорда: коренастого геркулеса – грудь колесом и ассирийская борода, – внушительно шагающего по коридорам, а далеко впереди уже слышались раскаты его голоса…
Профессор Челленджер. И «Затерянный мир».
Если какой-нибудь бытописатель способен произнести эти имена, не испытав радостного трепета, можно сказать, что у него в груди ледышка. Челленджер! Эдуард Мелоун! Лорд Джон Рокстон! Профессор Саммерли! Пусть, пусть отмечают их восклицательные знаки; эти имена неразрывны, как имена мушкетеров, и, как мушкетеры, они нас пленяют. В детстве они для нас бессмертны и ничуть не тускнеют в зрелые годы.
Профессор Челленджер вырос из своего создателя, как Портос из Дюма, но значительно стремительней. Конан Дойл увлекся Дж. Э.Ч. более, чем кем-нибудь иным из своих созданий. Он мог подражать Челленджеру. Он мог, как мы сейчас увидим, налепить себе бороду и густые брови, как у Челленджера. И за объяснением не нужно ходить далеко. Ведь, не считая непомерного тщеславия Челленджера, он сделал его совершенно откровенной копией самого себя.
Как и Челленджер в «Затерянном мире» да и в последующих рассказах, он мог совершать поступки, которые запрещены в привычной нам общественной жизни. И уж если находил на него такой стих, он вполне мог укусить экономку за лодыжку, чтобы проверить, может ли хоть что-то на свете нарушить ее невозмутимость. Он мог бы схватить за штаны репортера и протащить его с полмили по дороге. Он мог бы произносить звонкие внушительные сентенции, скрывая за льстивым тоном изощренные издевательства, как ему всегда хотелось поступать в обращении с тупицами.
И, доведенный до предела, он был вполне способен проделать все это в реальной жизни. Вот что нам нравится в них обоих.
Что же касается «Затерянного мира», то автор был настолько переполнен им, что не мог помыслить ни о чем другом, кроме бронтозавров, человекообезьян да растительности дикого плато.
Каждый вечер в октябре и ноябре он читал Джин и ее подруге Лили Лоудер-Симондз, приехавшей погостить в Уиндлшем, то, что написал за день. Он устраивался в викинговском кресле, присланном в подарок из Дании, в белой нише своей бильярдной у жарко растопленного камина под чучелом головы оленя. И тогда вставали в воображении джунгли и продиралась через них неустрашимая четверка: лорд Джон Рокстон, этакий рыжий Дон Кихот, язвительный Саммерли, неизменно симпатичный Мелоун и во главе их – Челленджер в очень маленькой соломенной шляпе, вытягивающий носки при ходьбе, – и походка, и шляпа, к слову сказать, списаны с его создателя.
«Я думаю, – писал он Гринхофу Смиту, редактору „Стрэнда“, 11 декабря, когда повесть была закончена, – я думаю, это будет лучший сериал (оставив в стороне особую ценность Ш. Холмса) из всех, мною сделанных, особенно в сопровождении фальшивых фотографий, карт и планов».
Его затея доставляла ему все большее удовольствие.
«Я надеялся, – добавил он, – дать книге для мальчишек то, что Шерлок Холмс дал детективному рассказу. Я не уверен, что сорву лавры и тут, но все же надеюсь».
И не зря. Ибо вовсе не в «динозавромахии» секрет очарования «Затерянного мира». Челленджер и его друзья впитали в себя всю живость их создателя. Они не станут менее привлекательны, даже если всего-навсего отправятся на день в Маргейт. Правда, в Маргейте уж что-нибудь да произойдет. Об этом позаботится Челленджер. Но наше восприятие этих событий, радостное предвкушение того, как это будет происходить, свидетельствуют о том, что Челленджер – создание из плоти и крови – столь же неподвластен времени, как Микобер и Тони Уэллер.
В сочельник в Уиндлшеме устроили представление по старинному, забытому в Суссексе обычаю. Ряженые в своих чешуйчатых серебристых доспехах с обязательным драконом показывали в бильярдной рождественское действо. Свет розовой лампы освещал скачущие, гримасничающие фигуры. Джин и ее супруг подняли на руки детей, чтобы они могли все видеть. Впрочем, за всем этим он не позабыл об обещании, данном Гринхофу Смиту, и вскоре занялся фальсификацией фотографий.
«Что вы об этом думаете?» – спросил он не без гордости.
С необъятной черной бородой, с накладными бровями и в парике смотрел он с фотографии в обличье профессора Челленджера. Были и другие снимки, запечатлевшие его в кругу трех друзей, долженствующих представлять Рокстона, Саммерли и Мелоуна. Но фотография анфас крупным планом, где он в шелковой шляпе, должна была пойти в качестве иллюстрации в «Стрэнде».
«Нахмуренность весьма характерная, – писал он Гринхофу Смиту 9 февраля 1912 года. – „Хмурость Конанов“, как назвал это сэр Вальтер Скотт в одном из своих романов».
Гринхоф Смит забеспокоился. Он говорил, что при всей безобразности маски она недостаточно неузнаваема и может навлечь на журнал неприятности за фальсификацию. «Ладно, – согласился Конан Дойл спустя три дня. – Ни слова о фотографии проф. Ч. Я признаю свою дерзость. Хотя вообще-то это не я. Я лишь болванка, по которой лепился вымышленный образ. Но не выдавайте меня»
Ему самому так понравился этот маскарад, что он не мог не испробовать его на ком-нибудь. В тридцати с лишним милях отсюда, в Вест-Гринстед-парк, имении брата Вилли сэра Питта Хорнунга, жили Хорнунги с сыном Оскаром. Совершенно естественным показалось ему попробовать разыграть Вилли.
Тут-то и заварилась каша. Представившись дер герр доктором Васиздасом, это волосатое существо возникло на пороге. Оно утверждало, что оно есть друг герр доктор Конан Дойл, который нету дома, и не примет ли его герр Хорнунг?
Хорнунг, к счастью или к несчастью, был близорук. К тому же он уже привык к тому, что другом его шурина мог быть кто угодно: от последнего бродяги до премьер-министра. Он принял гостя очень радушно. Тот стал исторгать трескучие, длинные немецкие фразы, и несколько минут все ему сходило с рук. Наконец Хорнунг разъярился: указав гостю на дверь, он поклялся, что вовек ему этого не простит. Герр доктор, прикрывшись все той же шелковой шляпой и сотрясаясь от давившего его смеха, бесславно удалился.
Такова была одна сторона его жизни. Теперь, с наступлением 1912 года, заглянем на другую сторону.
Это был сплошной водоворот работы, споров и общественной деятельности. Ассоциация за реформы в Конго одержала победу при сменившем короля Леопольда и совершенно на него непохожем юном короле Альберте. Конан Дойл же, изменив свои взгляды, выступил в пользу гомруля для Ирландии.
В 1912 году он принял участие в работе Союза за реформы в бракоразводном законодательстве, выступив против церкви и палаты общин за смягчение британских устаревших правил разводов. В том же году он предоставил кров совету Британской ассоциации медиков, который провел в Уиндлшеме одну из своих ежегодных конференций. Он взял на себя – по настоянию лорда Нортклиффа, убеждавшего его, что он единственный в спорте лидер, которому это по силам – бремя объединения двух разобщенных группировок и сбора средств для лучшей подготовки британских атлетов к Олимпийским играм 1916 года. Здесь хватало и дипломатии, и сложностей, и обид; длилось это год и любого другого, менее упорного, давно заставило бы забросить все с отвращением. Помимо всего прочего, взялся он распутать одно загадочное убийство, чтобы вновь оправдать невиновного человека. И тут нам становится ясно, что имел в виду Роберт Льюис Стивенсон, когда говорил о «белом пере Конан Дойла».
Вот обстоятельства этого убийства трехлетней давности, словно вышедшие из грез Де Квинси.
Представим себе тихий переулок в Глазго; декабрьский вечер, семь часов, газовые фонари мерцают сквозь завесу дождя. Чуть ниже, по правую руку, как только свернешь с Квинз-кресчент, находился номер 15 по Квинз-террас.
Мисс Марион Гилкрист, богатая старая дама 83 лет, до роковых событий (1908) проживала там уже не первый год. Чтобы зайти к мисс Гилкрист, нужно было сначала пройти через первую, уличную, дверь, затем подняться на один пролет по лестнице к двери, непосредственно ведущей в ее квартиру и запираемой на два замка. Мисс Гилкрист хранила в не занятой ею спальне на виду или запрятанными среди одежды в шкафу драгоценности на три тысячи фунтов стерлингов. Она условилась с мистером Артуром Адамсом – ее соседом снизу, чья столовая приходилась под ее столовой, – что будет стучать в пол, если ей станет не по себе или потребуется помощь.
«Она никогда не боялась за себя, – свидетельствовал ее бывший слуга. – Но очень боялась, что взломают квартиру».
Вечером 21 декабря 1908 года старая леди находилась в своей квартире с единственной служанкой, девушкой 21 года по имени Элен Ламби. Итак, следите за событиями.
Дедовские часы в холле пробили семь. Элен Ламби выходит из дому по мелкому поручению. Дверь квартиры снабжена двумя патентными замками [32]32
Патентный замок предшествовал пружинному замку. Его можно было открыть изнутри. (Примеч. авт.)
[Закрыть]. Элен Ламби запирает дверь и берет с собой оба ключа. Свою хозяйку она оставила в столовой, душной комнате, увешанной большими картинами в золоченых рамах. Мисс Гилкрист, надев очки, читала за обеденным столом, сидя спиной к камину. Другой источник света – газовый светильник за экраном синего стекла – горел в холле. Здесь-то в какие-нибудь десять минут и совершилось убийство.
Соседи, мистер Артур Адамс со своими сестрами Лаурой и Ровеной, находились в это время в столовой, как раз под комнатой мисс Гилкрист. Они услышали глухой удар в потолок, а затем еще три отчетливых стука. Лаура Адамс обратила на это внимание брата.
«Говорила ли она, что вы должны подняться и посмотреть, не случилось ли чего?» – спрашивали у него впоследствии.
«Она сразу же послала меня наверх».
Мистер Адамс, музыкант, выбежал в такой спешке, что позабыл свои очки. На улице было холодно и все еще шел дождь. Наружная дверь квартиры мисс Гилкрист была приоткрыта. Он взбежал вверх по лестнице до внутренней двери и трижды сильно потянул шишечку звонка. Никакого ответа – словно все вымерли.
Но сквозь застекленные створки дверей м-р Адамс видел синий свет светильника в холле. А еще через несколько мгновений он различил неясный шум, как ему показалось, со стороны кухни, что заставило его предположить, что служанка дома.
«Было похоже, – говорил он, – будто кто-то колет дрова – не слишком сильные удары».
Тюк, и еще тюк! Несомненно, девушка, Элен Ламби, колет поленья для плиты и не собирается отвечать на бренчание звонка. М-р Адамс вернулся домой.
«Я рассказал сестрам, что в доме горит свет и я не думаю, чтобы там что-нибудь случилось; я решил, что это девушка. Сестра Лаура так не считала и послала меня назад».
И вновь в злополучной квартире разнеслось бренчание дверного звонка. Но на сей раз никакого иного звука уже не было слышно. Стоя в нерешительности на тускло освещенной площадке, вдыхая запах замшелого камня, он все еще держался за звонок, когда услышал снизу по лестнице шаги. Это была Элен Ламби, которая, выполнив поручение – купив газеты, – возвращалась домой. Он сказал ей, что случилось что-то серьезное и «трещат потолки» у них в квартире.
«А, – отозвалась беззаботно девушка, – это, верно, ролики». Она имела в виду блоки, на которых были натянуты бельевые веревки в кухне – они иногда срывались. Потом она отперла дверь, которая отделяла их от мисс Гилкрист. Что случилось затем, запечатлелось в мозгу м-ра Адамса как вереница сменявшихся в мгновение ока ярких вспышек.
Когда Элен Ламби проходила через холл к кухне, в холле со стороны пустующей спальни появился человек. М-р Адамс, без очков, лицо его рассмотрел весьма смутно, но одет он был «прилично, как джентльмен». Человек этот спокойно дошел до двери, а затем бросился вниз, как «наскипидаренный». Элен Ламби, явно не придавшая этому особого значения, заглянула в кухню, а затем вошла в пустующую спальню, где теперь горел свет. Многие драгоценности еще оставались на туалетном столике, хотя шкатулка с личными бумагами мисс Гилкрист вместе со всем ее содержимым валялась на полу.
Лишь тут м-р Адамс обрел дар речи.
«Где ваша хозяйка?»
Элен Адамс пошла в столовую и открыла дверь. По прошествии стольких лет он уже не мог восстановить интонацию ее речи, но смысл ее слов был таков: «Ах, скорее сюда!»
Старая дама, так страшившаяся грабителей, лежала у камина головой к решетке, рядом валялась вставная челюсть. Хотя на тело была наброшена служившая ковром звериная шкура, сразу бросалась в глаза кровь на камине и каминных принадлежностях и на ящике для угля. Лицо ее и вся голова были изуродованы до неузнаваемости нанесенными ей ранами, углубляться в описание которых не доставило бы удовольствия.