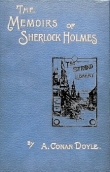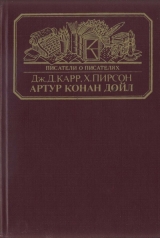
Текст книги "Артур Конан Дойл"
Автор книги: Джон Диксон Карр
Соавторы: Хескет Пирсон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
Теперь путь к полемике нам открыт, и прежде чем стихнут залпы первой мировой войны, мы должны сказать несколько слов о последнем периоде жизни Конан Дойла.
Ваш покорный слуга, автор этого жизнеописания, не приверженец спиритизма. И спиритизм вовсе не та область, в которой он чувствует себя настолько уверенным, чтобы высказывать свое мнение. Однако следует заметить, что религиозные взгляды автора не должны влиять на исполнение поставленной перед ним задачи. Он должен стремиться, насколько это в его силах, представить живой образ того, о ком взялся писать, и показать, что ондумал, что онговорил, во что онверил.
В силу этого автор не вправе делать какие-либо предположения о загробной жизни сверх того, что сказал об этом его герой. Но ему не возбраняется комментировать жизнь земную. И нам необходимо разобраться с бытующими в обществе неверными представлениями о Конан Дойле.
Часто и по сей день можно услышать о Конан Дойле как о человеке хорошем, но сбившемся с пути. Он-де пережил тяжелейшие утраты, лишившие его душевного равновесия и способности здраво мыслить, и как за целебное снадобье «ухватился» за спиритизм.
«Что бы сказал на это Шерлок Холмс?» – восклицают «здравомыслящие».
Хорошо, давайте посмотрим. Давайте пристальнее вглядимся в тот период жизни Конан Дойла, что пролег между началом войны и открытым провозглашением веры в спиритизм в 1916 году.
Нет необходимости убеждать наших читателей, что Конан Дойл пришел к спиритизму не наугад, не слепо. Прежде чем сделать какие бы то ни было выводы, он на протяжении тридцати лет напряженно изучал спиритизм. Бесспорно и то, что он перенес тяжелейшие, пусть не роковые утраты, и глубоко переживал конвульсии ввергнутого в хаос мира. Вопрос, таким образом, в том, повлияла ли война на его убеждения? Превратила ли она его в легковерного безумца, не способного верно оценивать реальность?
Чтобы ответить на этот вопрос, поверим его душевное состояние практикой. Война (на которой гибли люди) разжигала страсти, помрачала рассудок, толкала страны к новым опасностям и подвергала народы воздействию невиданных орудий уничтожения. И чтобы оценить слова и поступки Конан Дойла, мы воспользуемся, так сказать, его «послужным списком», как могли бы воспользоваться архивом Кабинета министров.
Вот что он говорил о германской армии, когда на полях сражений гибли его близкие: «Взгляните на эту великолепную панораму побед, известную в фатерланде как „Die Grosse Zeit“», или об английских солдатах: «Голову нужно защитить каской, наподобие такой, какую применяют сейчас французы». О моряках: «Неужели действительно невозможно придумать что-нибудь – пусть хотя бы надувные резиновые пояса, – что могло бы дать им шанс на спасение?» О воздушных налетах: «Невозможно придумать ничего, что бы так подстегивало и укрепляло гражданскую самооборону».
Можно здесь усмотреть хоть намек на эмоциональную неустойчивость? Разве это слова сумасшедшего, гоняющегося во мраке за своими химерами? И могут ли человека, предсказавшего новое оружие, повергнуть в панику последствия его применения?
Вот о чем следует помнить, когда мы слышим восклицания: «Ах, он слишком доверчив». Так ли это? Судя по всему, в тот год (1916) его рассудок был как никогда ясен, а способности приведены в боевую готовность. Спиритический же опыт был переживанием глубоко личным, и тем, кто не обогащен этим опытом, не дано судить о нем. Относительно спиритизма Конан Дойл мог быть прав или мог заблуждаться, но это не значит, что все его представления были ошибочными.
И соглашаемся ли мы с его спиритическими воззрениями или отвергаем их – но в этом человеке было что-то особенное, нетленное, что-то стоящее выше чести и рыцарства, какое-то не поддающееся анализу горение. Это виделось так отчетливо, казалось почти осязаемым, но нам, плоти от плоти земной, не выразить это словами.
Однако продолжим рассказ. Пока он еще не провозгласил ни своей веры, ни того, что к ней привело. Он недавно вернулся из поездки на фронт. В июле 1916 года уже не требовалось ни особого затишья, ни благоприятных воздушных потоков, чтобы ясно слышать грохот канонады, возвестившей битву на Сомме.
Ему уже довелось увидеть кое-что из происходящего по ту сторону Ла-Манша, куда его направило с инспекционным визитом Министерство иностранных дел. В плоской каске, по форме напоминающей тарелку, под палящим солнцем, скользил он по глине и спотыкался в коммуникационных траншеях британской линии обороны. То был период дремотного затишья, нарушаемого только орудийной перестрелкой. И все, что ему пришлось испытать на передовой, – это нестерпимый смрад трупов, разлагающихся позади проволочных заграждений, да раз или два свист снайперской пули. Напряженное ожидание и неусыпный дозор сковали все пространство, обозначенное сосисками воздушных шаров.
«Артур, – писал Иннес в письме к Джин 28 мая, – пошел на ланч к сэру Дугласу Хейгу. Он все время очень занят, но мне думается, что ему здесь интересно, и он сказал, что спал хорошо».
Хейг, сменивший Джона Френча на посту главнокомандующего, производил отрадное впечатление. Его гостю более всего запомнились детали: вороны, парящие над изрытым снарядами пространством, или та минута в Шарпенбурге – о, как удивился бы он, если бы ему рассказали об этом лет двадцать назад! – когда он склонил в молитве голову. По распоряжению главнокомандующего на встречу с ним разрешено было явиться Кингсли. Они гуляли и болтали о том о сем, с загорелого лица юноши не сходила улыбка.
«Скоро намечается большое наступление», – сказал Кингсли, посвящая отца в подробности будущей операции. И такой далекой показалась Конан Дойлу бурская война.
На итальянском фронте – Министерство иностранных дел хотело, чтобы он написал об итальянцах и подбодрил их – итальянцы преградили путь австрийцам и столкнулись со все той же проблемой – невозможностью преодолеть пулеметный огонь и проволочные заграждения. По всей Северной Италии на стенах было начертано «TRIESTE О MORTO!» («Триест или смерть!»). Начались тяжелые воздушные налеты. Однажды его чуть не накрыло взрывом снаряда. «Только не надо мне говорить, что австрийские артиллеристы не умеют вести огонь». Почти все это время он испытывал какой-то душевный подъем, отчасти потому, что вновь оказался при деле, отчасти от сознания, что ему нужно поведать миру некую истину.
Его по-прежнему терзала бессонница, и как-то днем, когда он задремал в отеле, во сне прозвучало звонкое «Пиаве, Пиаве, Пиаве». Почему Пиаве? Смутно припомнилось, что это название реки далеко за итальянскими оборонительными линиями, но он записал свой сон и показал друзьям. Это происшествие все не шло из головы, даже по возвращении в Париж, где прямо на вокзале человек в красной фуражке военной полиции огорошил его мрачными новостями.
– Лорд Китченер утонул, сэр. Ох уж эти длинные языки!
Однако «красная фуражка» был не прав, вовсе не утечка информации повлекла гибель фельдмаршала во время его секретной миссии в Россию. Легкий крейсер «Хэмпшир», борясь с сильным волнением у Оркнейских островов, наскочил на мину и затонул в течение 20 минут.
Но тогда этих подробностей еще никто не знал. Совершенно подавленный, встретился Конан Дойл в Париже с редактором, заказавшим ему военные корреспонденции, – впоследствии они были собраны воедино под заголовком «На трех фронтах» и воспроизведены (правда, не полностью) в его «Автобиографии». М-р Роберт Дональд, редактор «Дейли Кроникл», организовал для них обоих посещение французских передовых позиций.
– Куда мы едем?
– В Аргонский лес. Это настолько близко от Вердена, насколько они позволяют нам приблизиться.
Конан Дойл был в восторге от французов не меньше, чем матушка. Но их стратегия восторга у него не вызывала. Правда, и противник, чего только не испробовавший под Верденом за четыре месяца, включая и жидкий огонь, прорваться все-таки не смог. И даже более, чем известный девиз «Они не пройдут!», полюбилось французам краткое петеновское «On les aura!» – «Мы их возьмем!»
Народы истекали кровью. Увидев Суассон, Конан Дойл сделал одно из самых горьких своих замечаний: «Да ляжет проклятие Божье на дерзновенных и на их нечестивые помыслы, ввергнувшие человечество в этот ад!»
Но о том теплом приеме, который оказали ему французы, Конан Дойл стеснялся рассказывать, смущаясь своего смешного штатского вида, хоть и скрашенного мундиром, благодаря званию вице-губернатора Суррея. Но французы считали иначе.
В сумрачном Аргонском лесу, где разрывы снарядов разносили в щепки стволы берез и дубов, французы в его честь начистили медь духовых оркестров. Нередко приходилось слышать о том, что французские генералы забрасывали его вопросами о Шерлоке Холмсе. Происхождение этих слухов объяснил редактор «Дейли Кроникл». К торжественному обеду, данному 11 июня, была сделана специальная карта блюд с виньеткой в виде скрещенных лупы, револьвера и скрипки, символизирующих Шерлока Холмса. Уж коли такие почести отдаются не присутствующему здесь англичанину, генерал Гумберт пожелал удостовериться в его преданности и, насупив брови, спросил прямо в лоб:
– Sherlock Holmes, est-ce qu’il un soldat dans l’armée anglaise? [33]33
– Шерлок Холмс, это что, солдат английской армии? (фр.).
[Закрыть]
– Mais, mon général, il est trop vieux pour service [34]34
– Ну что вы, генерал, он слишком стар для службы (фр.).
[Закрыть], – ответил опешивший гость.
И генерал, удовлетворенно хмыкнув, вернулся к обеду, хотя его смутные подозрения были не до конца развеяны.
Именно у французов Конан Дойл увидел специальные значки за ранения, позднее получившие название планок, и, вернувшись в Англию, посоветовал генералу сэру Уильяму Робертсону, которому он посвятил первый том своей истории войны, перенять этот обычай, что Военное министерство вскоре и сделало.
А в Англии его ждали собственные невзгоды. Еще весной 1916 года, накануне поездки по трем фронтам, заболел и чуть было не умер от воспаления легких его младший сын Адриан. И, ухаживая за ним, он не стал расточать обычных родительских ободрений, но принялся знакомить мальчика с историей, рисуя примеры рыцарской доблести при Аженкуре.
В июле, сопровождаясь мощной канонадой под Верденом, началось то самое британское наступление, о котором ему говорил Кингсли. Это было сражение на Сомме, где в первый же день англичане потеряли убитыми и ранеными 60 тысяч человек. Такие гигантские жертвы оглушали сознание и притупляли чувства. И одной лишь малой каплей в этом океане страданий был капитан Кингсли Конан Дойл.
Для Кингсли, хотя и тяжело раненного двумя пулями в шею, еще не все было потеряно. В его 1-м Хемпширском батальоне не было ни одного офицера, не убитого или не получившего ранения в первый день наступления. Отец Кингсли узнал, что его сын десять дней подряд, пока его не настигли пули, выползал в ничейную зону и отмечал для артиллеристов белыми тряпочками проволочные заграждения, подлежащие уничтожению огнем батарей.
Можно, конечно, утверждать, что на первый взгляд бессмысленное сражение на Сомме, – в котором до наступления ноябрьских заморозков погибло почти полмиллиона солдат, цвет британской молодежи, – было ударом в самое сердце Германии и что германская армия более уже не оправилась от этого удара. Но разве это может утешить?
Едва началось наступление на Сомме, Конан Дойл стал добиваться применения нательной брони.
«Необходимость этого уже признана настолько, чтобы снабдить солдат касками, – писал он. – Это, хоть и не сразу, но все же было сделано».
Теперь он предлагал нечто вроде лат для защиты от осколков и пуль. Он сам ставил эксперименты, обстреливая из своего ружья разнообразные по форме металлические пластинки. До Дениса и Адриана, которым запрещалось подходить близко, доносилось то позвякивание отраженной пули, то резкий щелчок пули, прошившей броню.
Тогда же он пытался спасти от смерти Роджера Кейсмена, ныне сэра Роджера Кейсмена, пожалованного рыцарским титулом за преданную службу Великобритании в тропиках, которого он встречал в прежние дни в связи с кампанией против зверств в Конго. Прежний патриот, с усохшим лицом и цвета слоновой кости кожей, просвечивающей сквозь бороду, предстал ныне перед судом по обвинению в предательстве, которое он и не отрицал.
Трудно симпатизировать Кейсмену в чем бы то ни было, кроме его идеализма. Но он был честен, честен абсолютно, даже когда, получив деньги от Германии, отправился в Ирландию поднимать восстание. Конан Дойл считал – не без основания, – что годы, проведенные в тропиках, наградили Кейсмена душевным – да и физическим – недугом.
«Не вешайте его! – требовал Конан Дойл, этот паладин проигранных дел, которому невыносима была мысль о повешении, пусть даже последнего негодяя. – Приговорите его к какому угодно заключению. Не лишайте его жизни. Он беззащитен».
Но признать правомочность защиты Кейсмена значило бы признать Ирландию как свободное государство, находящееся в состоянии войны с Британией. Кейсмена повесили в Пентонвилле; ничего иного не оставалось; а гул канонады на Сомме набирал силу.
Конец 1916 – начало 1917 года не только несли с собой смерть, но и заставили взглянуть в лицо национальной катастрофе. Если бы литературному персонажу капитану Джону Сириусу довелось увидеть страну, некогда описанную в «Опасности…», он бы немало повеселился. Война под водой все-таки разразилась, и две сотни подводных кораблей сновали беспрепятственно, где им вздумается.
Семья Конан Дойла сплотилась еще теснее. Матушка, на старости лет ощутив свое одиночество, покинула Йоркшир, чтобы быть ближе к сыну, но все же не воспользовалась его гостеприимством и поселилась в собственном доме. Кингсли поправлялся и весело говорил о возвращении на фронт. Мэри работала добровольно в Пил-хаусе, где солдаты дожидались отправки на фронт.
В журнале «Лайт» за 21 октября 1916 года появилась статья Конан Дойла о его вере в сообщение с потусторонним миром.
Тщательно взвешивая каждое слово, он утверждал, что, столкнувшись со свидетельством жизни после «смерти, можно пойти по двум путям рассуждений».
«Или абсолютное безумие, или переворот в религиозной мысли, – писал он, – переворот, дающий нам бесконечное утешение, когда те, кто дорог нам, уходят за завесу „мрака“».
Духовное утешение! Религия! Вот на чем зиждился его подход к спиритической проблеме. Сэр Уильям Барретт, приверженец спиритизма, но не в качестве религии, именно в этом пункте не соглашался с Конан Дойлом, но подтвердил справедливость его выводов о реальности явления.
«Я рад возможности, которую предоставил мне редактор „Лайта“ – писал Уильям Барретт, – выразить благодарность сэру Артуру Конан Дойлу за смелую и своевременную статью…»
Джин уже больше не относилась к его спиритическим штудиям как к чему-то зловещему и непонятному. Ее брата, родных, ее ближайшую подругу – всех унесла смерть. Она разделяла с ним его переживания. Она верила. А он? Если он верил, то обязан был – «возвестить об этом миру».
Так в 1917 году начались и уже не прекращались до конца его дней выступления на спиритические темы. Он понимал, что его голос, голос лектора, сейчас, в грохоте войны, будет слышен не слишком далеко. Да и оставалось еще столько других дел.
Его ожидали выступления по проблемам, которые выдвигала война, и, главное, ждал завершения исторический труд о войне. И для этой цели ежедневно по утрам в Уиндлшем приезжал на машине какой-нибудь офицер и, уединившись с хозяином в кабинете до самого ланча, сообщал последние новости. Даже к концу 1916 года, после смены английского правительства, во главе которого стал Ллойд-Джордж, Германия, разгромившая только что Румынию, казалась еще более несокрушимой, чем прежде.
В Адмиралтействе мрачная кривая гибели торговых судов – красная линия на синей бумаге – ползла неуклонно вверх. Пресса извлекла из забвения «Опасность…», и это вызвало недоумение и возмущение публики. Нашлись такие, кто заявлял, что не иначе как Конан Дойл подал немцам эту опасную мысль, как будто без его помощи им было не додуматься.
В марте 1917 года пал могущественный союзник – Россия. Противник мог потирать руки: в тот момент, когда ее армия преодолела свои начальные слабости и стала мощнее, страна раскололась изнутри и была отдана на растерзание хищникам. В апреле, чтобы уравнять положение на фронте, – но не слишком ли поздно? – в войну вступили Соединенные Штаты.
В апреле же Конан Дойл был приглашен премьер-министром на Даунинг-стрит. За завтраком, состоявшим из яичницы с беконом, их было только двое: седовласый, приветливый, неутомимый валлиец и ирландец, с пеной у рта доказывающий необходимость применения нательной брони.
По правде сказать, у командования было в запасе одно всесокрушающее чудище под названием танк. К моменту битвы на Сомме Конан Дойл уже был допущен к тщательно охраняемому секрету этого нового оружия. Но танки использовались не так, как предполагалось. Первая партия – слишком малочисленная, чтобы произвести должное впечатление на немцев, – пророкотала в сентябре 1916 года.
Изобретательский гений Уинстона Черчилля – которому, между прочим, мы обязаны применением дымовой завесы на море и на суше – давно уже, независимо от группы военных, занятых той же проблемой, был поглощен разработкой идеи танковой атаки. По мысли Черчилля, танки следовало использовать во внезапном броске на прорыв вражеской линии обороны сразу большой численностью при поддержке бронированных пехотинцев.
«Не обнаруживайте готовящейся атаки артиллерийской подготовкой, – наставлял Черчилль еще 3 декабря 1915 года. – Танки могут смять проволочные заграждения. Используйте их большим числом и не упускайте фактор неожиданности; таким образом можно прорвать оборону и сдвинуться с мертвой точки».
То же самое, как мы можем видеть, говорил Черчилль в частном письме Конан Дойлу, датированном 2 октября 1916 года, добавляя, что есть две насущные задачи: обеспечение судам неуязвимости для торпед, а бойцам неуязвимости для пуль. А в то утро, 17 апреля, за завтраком на Даунинг-стрит премьер-министр Ллойд-Джордж был крайне обеспокоен событиями в России.
– Положение царицы, – сказал он, – очень сходно с положением Марии Антуанетты. Ее, видимо, ждет та же участь. Это вроде Французской революции.
– Тогда, – заметил Конан Дойл, – это продлится несколько лет и кончится Наполеоном.
Да, оба пророчества подтвердились. Мало что было настолько же не по душе Конан Дойлу, как те силы, что пришли к власти в России к концу года и спешили вывести страну из войны.
За весь 1917 год Конан Дойл написал для «Стрэнда» только две статьи и один рассказ. Эти статьи («Прав ли сэр Оливер Лодж? – Да.» и «Некоторые подробности жизни Шерлока Холмса») он впоследствии почти целиком включил в автобиографию. Но единственный написанный рассказ весьма знаменателен – это «Его прощальный поклон».
Нам не придется слишком напрягать память, чтобы вспомнить, как фон Борк, лучший германский агент, беседовал с фон Херлингом, стоя «на садовой дорожке у каменной ограды» и глядя на огни кораблей в заливе. Действие в рассказе начинается в девять часов вечера 2 августа 1914 года.
Затем, после ухода фон Херлинга, появляется долговязый ирландский американец, лучший агент фон Борка, питающий к Британии презрительную ненависть.
«Ему можно было дать лет шестьдесят – очень высокий, сухопарый, черты лица острые, четкие; небольшая козлиная бородка придавала ему сходство с дядей Сэмом, каким его изображают на карикатурах. Из уголка рта у него свисала наполовину выкуренная, потухшая сигара; едва усевшись, он тотчас ее разжег».
Мы с самого начала знаем или догадываемся, что это Шерлок Холмс, и оттого с еще большим напряжением следим за тем, как старый маэстро расправляется с выскочкой фон Борком. Но с точки зрения биографа, рассказ этот интересен по другой причине.
Даже не имея никакого представления об образе мыслей автора «Прощального поклона», из самой ткани рассказа можно понять, что это нечто большее, чем просто еще одна страница холмсовской саги. Рассказ должен был явиться настоящим «Эпилогом», как обозначил его автор в подзаголовке. В нем было и последнее напутствие, и истинные человеческие чувства, и даже несомненная любовь к Холмсу. Наконец Конан Дойл идентифицировал себя с Холмсом.
Нет никакой нужды доказывать, даже в шутку, что сам Конан Дойл не употреблял кокаина, не палил в комнате из револьвера, не держал сигары в угольном ведре. Да и, вообще говоря, мало кто так поступает. Не было у него и брата, который был бы самим «Британским правительством», и, если не считать жалких потуг осилить игру на банджо, музыкальных дарований он не проявлял.
Но есть иные характерные черты. Скажем, привычка работать в старом потертом халате, пристрастие к глиняным трубкам, вынесенное из тех далеких дней жизни в Саутси, когда такая трубочка из «дублинской глины» стоила всего лишь один пенс; любовное собирание газетных вырезок и документов, обыкновение держать на поверхности стола увеличительное стекло, а в ящике – револьвер – все это дает прекрасное представление о нем в домашней обстановке. И сюда же надо отнести «холмсовскую» фразеологию, встречающуюся в его переписке, настойчиво проводимую идею об англо-американском сотрудничестве, философские взгляды Уинвуда Рида.
Конечно, большинство этих примет просочилось в творчество бессознательно. Ведь не он – а Уотсон и даже сам Холмс – утверждают, что знаменитый детектив – бесчувственная счетная машина. Но как раз этого-то о Холмсе сказать никак нельзя – вот в чем дело.
«Будь у этой молодой девушки брат или друг, – вскричал Холмс, – ему следовало бы хорошенько отстегать вас хлыстом… Это не входит в мои обязанности, но, клянусь богом, я не могу отказать себе в этом удовольствии…»
Негодяй Уиндибенк, персонаж «Установления личности», убегает от расплаты, и сам Конан Дойл, окажись он на месте Холмса, не мог бы поступить иначе. Нет почти ни одного рассказа, где бы Холмс не заявлял о своей бесстрастности, но секундой позже он ведет себя как настоящий рыцарь, особенно по отношению к женщинам, – даже Уотсону далеко до него.
Нарочитые опознавательные знаки – на гребне его успеха, в период бесконечных споров о личности Шерлока Холмса – расставлены в «Записках». Нельзя пройти мимо указаний на ранние тяжелые годы в Лондоне: Холмс снимал комнату на Монтагю-стрит, и его создатель тоже, «коротая слишком изобильный досуг», поселился на Монтагю-стрит. А семейные предания?
«Мои предки, – говорит Холмс в „Случае с переводчиком“, – были мелкими помещиками». То же и у автора. У Холмса была бабушка француженка; Марианна Конан, бабушка Конан Дойла, также была француженкой. Холмс говорит, что его бабушка была сестрой Верне, французского художника, – большой пейзаж Верне, хранившийся в коллекции Конан Дойла среди других рисунков, был подарен ему в юности дядюшкой Генри Дойлом. Так переплелись корнями их родословные.
«Артистичность, когда она в крови, – сухо замечает Шерлок Холмс, – закономерно принимает самые удивительные формы». Джон Дойл и четверо его сыновей могли бы только кивнуть в знак согласия.
Есть еще семь других узнаваемых примет, но любители Шерлока Холмса легко найдут их сами. Если бы в свое время был опубликован полный отчет о деле Идалджи, не потребовалось бы ломать голову. Но сейчас вернемся к бурным перипетиям рассказа «Его прощальный поклон», написанного во времена тревог и опасностей.
«Фон Борк привстал, изумленный.
– Есть только один человек, который…»
И эти слова могли бы сказать миллионы читателей во всем мире. Это последняя напряженная схватка, финальная барабанная дробь, апофеоз Шерлока Холмса. Всю серию должен был венчать «Его прощальный поклон» – такой формальный финал задумал автор. И Шерлоку Холмсу в чужом обличье он дал имя Элтимонт – полное имя его отца, как мы знаем, было Чарльз Элтимонт Дойл.
Но когда «Его прощальный поклон» появился в «Стрэнде» под заголовком «Военная служба Шерлока Холмса» – не вопрос ли генерала Гумберта навел на эту мысль? – Конан Дойлу было уже не до того. «Свалку» в топкой грязи Пасхендаэле лишь отчасти могли загладить события в Камбре, где в действие вступили танковые соединения.
Около пятисот танков при поддержке пехоты устремились во внезапную атаку по не вспаханной снарядами земле. Они, сея смерть и смятение, сокрушили германскую линию обороны по фронту протяженностью в шесть миль и еще до наступления темноты взяли в плен 10 тысяч человек.
«Это поворотный момент в истории войны», – писал Конан Дойл Иннесу, теперь уже генерал-адъютанту. Он поздравил с успехом и майора Альберта Стерна (который первым познакомил его с секретом разработки танков), написав, что если у него и были раньше какие-то сомнения, то теперь от них не осталось и следа.
20 ноября, в день битвы при Камбре, Россия сделала мирные предложения Германии. Но еще до того Австрия при поддержке германских дивизий обратила итальянские войска в нескончаемое отступление вплоть до берегов реки Пиаве.
Пиаве! Конан Дойл, рассматривая в своем кабинете большую карту военных действий, припомнил, как когда-то, полтора года назад, прозвенело в ушах это странное слово. Странно, ясновидения он за собой никогда не замечал.
События шли своим чередом. К Рождеству Людендорф перебросил миллион германских войск для весеннего наступления на Западном фронте.
А в Уиндлшеме, где некогда лорд Нортклифф или сэр Флиндерс Питри сиживали за обедом из восьми блюд, наступили теперь скудные времена: сверх общего режима экономии Конан Дойл установил для своей семьи свой, сугубо строгий режим.
Мрачно сосредоточенный, он остро ощущал, что ему не хватает 24 часов в сутках. Рядом с картой военных действий появилась в его кабинете еще одна карта, на ней отмечал он места, где выступал с лекциями о спиритизме. Он по-прежнему рвался спорить и доказывать – когда над Лондоном завис гигантский Готас, он убеждал в необходимости воздушных рейдов – и по-прежнему вел переписку с генералами.
И однако же в эти тяжкие дни огонь в его глазах не померк. Он находил отдохновение, затевая с детьми игру в индейцев. Малышка Лина Джин называла себя «Билли» и, едва научившись грамоте, подписывалась «ваш любящий сын». Игра зашла, пожалуй, чересчур далеко: Адриан, утащив отцовский револьвер, стал палить настоящими пулями по осажденному вигваму.
Кингсли, казалось, был уже вне опасности, и хотя стремился на фронт, но в тот год медицинская комиссия признала его негодным к службе. Генерал-адъютант Иннес Дойл писал такие же бодрые письма, хотя это становилось все труднее. Ибо весной 1918 года Германия повела мощное наступление и была очень близка к победе.
«Прижатые спиной к стене и веря в справедливость нашего дела…»
Хейг сумел остановить этот мощный натиск на англичан, но тогда Людендорф обратил против них и французов всю свою мощь. Лето протекало мрачно, число убитых и раненых перешло границы вероятного, немцы опять приблизились к Парижу – но мерцали время от времени слабые проблески надежды. Выбившимся из сил французам не забыть, как потекли вдруг нескончаемым потоком по направлению к Шато-Тьерри грузовики, а в них – юные, полуобученные, но преисполненные того порыва, что был когда-то знаком самим французам, – ехали американцы.
Как шли они на смерть по Шмен-де-Дам, не стоит вспоминать. Даже высшее командование союзнических войск или Военное министерство не догадывались, что после 8 августа немцы почти полностью выдохлись. И в конце сентября, когда Конан Дойл посетил австралийский сектор фронта по приглашению сэра Джозефа Кука, военно-морского министра Австралии, об этом еще не решались помыслить.
Шла беглая перестрелка, траншеи осыпались, проволочные заграждения были смяты. Всего в пятистах ярдах от места сражения сидел он на вышедшем из строя танке и под орудийную канонаду, напоминающую хлопанье дверей, смотрел на склон, поросший, как в Хайндхеде, елями, среди которых развивалась атака американо-австралийских частей на их участок Гинденбургской линии обороны.
– Тебе не кажется, – спросил он Иннеса накануне вечером, когда они сидели в опустевшей, тесной офицерской столовой, – что я со своими легкомысленными разговорами несколько не к месту здесь в такое время?
– Ради Бога, продолжай в том же духе, – ответил брат, – это как раз то, что им нужно.
После прорыва Гинденбургской линии хлынули осенние дожди, неся с собой эпидемию гриппа. При всей симпатии Конан Дойла к австралийцам, в которых он находил что-то общее с американцами, он посчитал долгом заявить перед большой группой собравшихся его послушать, что 72 % всей английской армии составляют солдаты с Британских островов и именно на их долю приходится 76 % всех жертв, – об этом нельзя забывать! А в небе кружили аэропланы и моросил дождь.
Неужели конец близок? Возможно ли это?
Вечером, накануне отъезда на австралийский фронт, Джин приехала в Лондон проводить его. Они остановились в Гроувнор-отеле. Эти двое, любившие друг друга столько лет, никогда не испытывали таких сильных чувств, как в те черные дни. Она волновалась, как всегда, когда он уезжал, боялась, что он позабудет об осторожности, несмотря на все свои заверения, что он-де лицо штатское.
На следующее утро в отель пришел Кингсли. Зная, что Джин еще там – в слезах, расстроенная, – он из деликатности не захотел ее беспокоить, но решил ободрить. Он оставил для нее записку и букет цветов.
«Я рад за него, – писал Кингсли, – потому что знаю, что значит для него отправиться туда и увидеть наших людей в деле». С тех пор Джин всегда носила эту записку с собой в конверте, на котором написала: «Последнее письмо от милого Кингсли».
К концу октября, когда враги союзнических армий отступали, а итальянцы повели наступление от берегов Пиаве, Кингсли подхватил грипп. Ранения, полученные на Сомме, подорвали его здоровье. Конан Дойл, находившийся в то время в Ноттингеме с лекциями о спиритизме, получил телеграмму от Мэри как раз перед выходом на сцену. В телеграмме сообщалось, что Кингсли при смерти.
Конан Дойл никак не выдал своих чувств, разве что глаза его слегка увлажнились, – он вышел на сцену и прочел лекцию, убежденный, что именно этого ждал бы от него Кингсли.
«Я не обладаю красноречием и не делаю из этого профессии, – сказал как-то раз он, – но я говорю громко и только то, что могу доказать».
Кингсли скончался 28 октября. А через две недели, когда его отец снова остановился в Гроувнор-отеле, пришла весть о перемирии.
Он узнал об этом в одиннадцать часов утра вот при каких обстоятельствах: сидя в фойе отеля, он увидел, как прилично одетая женщина, на вид весьма спокойная и уравновешенная, пройдя сквозь вертящиеся двери, медленно провальсировала по фойе, держа в каждой руке по «Юнион-Джеку», и так же, кружась, вышла наружу. Секундой позже поднялся великий шум.