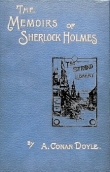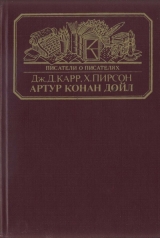
Текст книги "Артур Конан Дойл"
Автор книги: Джон Диксон Карр
Соавторы: Хескет Пирсон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Так 21 декабря 1908 года было обнаружено убийство мисс Гилкрист. Истинные свидетельства, включая многое из того, что было сказано и сделано в тот же вечер, стали известны лишь через много лет. Когда Конан Дойл знакомился с делом, можно было проследить лишь за формальными действиями полиции Глазго.
Из квартиры мисс Гилкрист (согласно показаниям Элен Ламби – единственной свидетельницы) была похищена одна только брильянтовая брошь в форме полумесяца с полкроны размером. Показания свои об этом она дала инспектору сыска Пайперу в ночь убийства, находясь еще в сильном нервном потрясении.
На Рождество полиции стало известно, что в Слоупер-клаб некий подозрительный тип по имени (наиболее часто употребимому) Оскар Слейтер предлагал купить закладную на брильянтовую брошь. Вечером под Рождество, будто чтобы специально подстегнуть полицию, Слейтер вместе с содержанкой, мадам Джунио, и несколькими чемоданами уехал в Ливерпуль. На следующий день Слейтер и мадам Джунио уже плыли в Нью-Йорк на пароходе «Лузитания».
Заложенная брошь представлялась серьезной уликой. Но, как вскоре установила полиция, это была вовсе не та брошь, что похитили у мисс Гилкрист. Оскар Слейтер заложил брошь, свое личное имущество, более чем за месяц до убийства.
Тут полиция совершенно растерялась. Она объявила вознаграждение в 200 фунтов и договорилась по телеграфу с Нью-Йорком об аресте Слейтера по приезде его туда. Тем временем 14-летняя девушка по имени Мэри Барроумен – она проходила мимо дома мисс Гилкрист в вечер убийства – дала показания о человеке, который выбежал из дома, столкнулся с ней и убежал прочь.
И хотя она видела бежавшего лишь мельком, да еще в дождь, да в сумерки на слабо освещенной улице, Мэри описывала его лицо и одежду в мельчайших подробностях. Ее описания не совпадали с более смутными описаниями м-ра Адамса и Элен Ламби. Да и к реальному Оскару Слейтеру они никак не подходили. Но через несколько дней расследования Элен вдруг изменила свои показания и согласилась с Мэри относительно одежды неизвестного.
Поместив в одну каюту под честное слово не говорить о деле, Мэри и Элен отправили в Нью-Йорк на опознание Слейтера. Девушки вполне могли видеть фотографии Слейтера. Да и потом, когда его в наручниках вели по коридору в зал суда, депутация из Глазго устроила как-то так, что Мэри и Элен оказались в это время в том же коридоре.
Затем в зале суда в Америке:
– Да, я могу его опознать, – поборов смущение, сказали в один голос обе девушки.
А впоследствии обе пылко клялись, будто ничуть не сомневаются, что это именно он.
Напрасно Слейтер, теряя самообладание, душераздирающе вопил, что никогда не слышал ни о какой мисс Гилкрист или ее драгоценностях, что он приехал в Глазго недавно и что он уже за несколько недель до трагедии делал приготовления к поездке в Нью-Йорк, что он и доказал впоследствии. Вопреки совету его американского адвоката, он уклонился от формальной процедуры выдачи его властям Великобритании и вернулся на суд в Шотландию.
Как видим, Оскар Слейтер – вовсе не герой публики. И то обстоятельство, что он был чужестранцем из Германии и еврейского происхождения, не много прибавляло к предубеждению, которое накопилось против него. Оскар Слейтер держал игорные дома в Лондоне и Нью-Йорке, существовал, что называется, своим умом, жил с любовницей, которая (судя по всему) была еще и проституткой. И этого было достаточно, чтобы внушить и до высшей степени распалить неприязнь к нему, когда он 3 мая 1909 года предстал перед Высшим уголовным судом в Эдинбурге.
Слейтер широкогрудый, с темными волосами и усами, на вид, вообще говоря, вполне привлекательный, но Зловещий Чужестранец – съежился в тесном загончике между двумя констеблями. Полный ход судебного разбирательства, при том, что подлые закулисные махинации еще не всплыли, не должен нас отвлекать. Обвинение заявило, что Слейтер совершил убийство с помощью небольшого молотка из набора инструментов, каким пользуются жестянщики, хотя медицинская экспертиза не подтвердила этого факта. У Слейтера было алиби, но его признали несостоятельным, потому что оно основывалось на показаниях его подружки и служанки. Мэри Барроумен и Элен Ламби уверенно указывали на него. М-р Адамс тоже приехал в Нью-Йорк, но не мог признать в Слейтере виденного им в квартире убийцу.
На вопрос защитника: «И даже после всего, что вы слышали, вы не можете дать абсолютно твердого ответа, был ли это тот самый человек?» – свидетель ответил:
– Нет, это слишком серьезное обвинение, чтобы я мог вынести его с одного лишь мимолетного взгляда.
Королевский советник м-р Юри, Генеральный прокурор по делам Шотландии, выступил с речью. Как убийца смог проникнуть в квартиру, запертую на два замка, при этом не открыв окон? Этот вопрос он не затронул. Откуда Слейтер узнал, что мисс Гилкрист хранит драгоценности? Это он пообещал объяснить, но так и не удосужился. К тому же мистер Юри явно передергивал некоторые факты, губительные для Слейтера, и судья не нашел нужным его поправить.
Присяжные большинством голосов, необходимым в Шотландии – девять: виновен, пять: вина не доказана, один: не виновен, – признали Оскара Слейтера виновным в убийстве.
Кого-то, конечно, могло покоробить, что Слейтер на своем ломаном, невнятном английском закатил такую жалостливую сцену, прервав слушание в тот самый момент, когда судья уже готов был огласить смертный приговор. Ведь те, кто ведет беспутную жизнь, по мнению этих людей, не могут испытывать настоящего ужаса или впадать в отчаяние. А у Слейтера нервы не выдержали, и он вновь и вновь бубнил одни и те же слова:
«Я ничего об этом не знаю, совершенно ничего не знаю! Я никогда и имени этого не слышал! Я ничего об этом не знаю! Я не понимаю, как я оказался сюда замешан, в это дело! Я сам, сам по себе, по своим делам приехал из Америки!» И в конце концов: «Мне нечего больше сказать».
Его должны были повесить в Глазго 27 мая. Но шотландская совесть, насытившись и несколько поостыв после такого триумфа морали, высказалась в лице 20 тысяч просителей за отмену приговора. Слейтеру оставался всего один день жизни на этом свете, когда он узнал, что лорд Пентленд, министр по делам Шотландии, заменил смертный приговор пожизненным заключением. Узник канул в Петерхед – чахнуть бы ему здесь вовеки.
К Конан Дойлу, как он писал матушке, обратились юристы, по-видимому, от Слейтера. Он брался за дело с великой неохотой. Это было совсем не то, что дело Идалджи; он считал Слейтера пройдохой, о чем откровенно заявил в своей брошюре. Но человеческие пороки тут ни при чем! Если он не повинен в убийстве, то нужно пройти огонь и воду, перевернуть все вверх ногами, но вызволить его. И вот:
«Паладин проигранных дел, – как писал м-р Уильям Рафед (вновь прибегая к этому титулу), – нашел в сомнительных обстоятельствах этого дела что-то себе по душе».
А он уже раскручивал кампанию в прессе. В августе 1912 года Ходдер и Стаутон выпустили его брошюру «Дело Оскара Слейтера». Но пока он еще не был доведен до такого накала, как когда ему открылись некоторые закулисные ходы в этом деле.
«Невозможно, – писал он, – узнавать и взвешивать факты… не испытывая глубокого неудовлетворения ходом следствия и моральной убежденности, что правосудие не свершилось». И шаг за шагом он опрокидывал все улики. Но были ли у него взамен какие-нибудь встречные гипотезы?
Те, кто был на стороне Слейтера, с самого начала отметили некоторые важные моменты. Почему эта девушка, Элен Ламби, не выказала никакого удивления, обнаружив чужого человека в запертой квартире? Не потому ли, что он не был чужим? Не потому ли, что она узнала в нем кого-то? Те же вопросы можно было обратить и к самой жертве. Не ожидала ли мисс Гилкрист этого человека, и не сама ли она впустила его в квартиру?
Конан Дойл в «Деле Оскара Слейтера» вводит новую версию.
«Совершенно необходимо разрешить один вопрос, – писал он, – а именно: за драгоценностями ли вообще приходил убийца?»
Представим себе поведение преступника! Нанеся жертве несколько сокрушительных ударов по голове неизвестным предметом, он проходит прямо в спальню и зажигает газовую лампу. Но он не трогает ценных колец и часов, лежащих на виду на туалетном столике; вместо того он взламывает и обшаривает деревянную шкатулку с личными бумагами мисс Гилкрист, раскидывая содержимое по полу.
«Уж не бумаги ли он искал, – ставился вопрос в „Деле Оскара Слейтера“, – и не было ли похищение брильянтовой броши под занавес только прикрытием?» Речь могла идти о каком-нибудь документе, скажем, завещании. Такой мотив преступления гораздо лучше объяснял бы все дело.
Была и еще одна теория, основанная на предположении о прерванной обстоятельствами краже драгоценностей. Но все теории и гипотезы упирались в проблему двойного замка и запертых окон. Либо мисс Гилкрист сама впустила убийцу, либо у того были дубликаты ключей. Но если даже у него были вторые ключи, то слепки для их изготовления он мог добыть только при сознательном или бессознательном соучастии кого-либо из домашних.
Что же касается плачевного положения Оскара Слейтера…
Но вернемся в год 1912-й. Даже мучительную загадку тех роковых десяти минут: кого же все-таки увидела Марион Гилкрист в той проклятой комнате? – мгновенно вытеснило впечатление от двух интереснейших встреч. В нашем рассказе появляется симпатичный, изысканный образ м-ра Джорджа Бернарда Шоу.
ГЛАВА XVIIIТЕНИ:
НАДВИГАЕТСЯ «ОПАСНОСТЬ!»
В Мемориальном зале на Фаррингдон-стрит в этот декабрьский вечер мистер Шоу и Конан Дойл выступали на собрании столь многолюдном, что для наведения порядка на запруженных людьми близлежащих улицах потребовалось вмешательство полиции.
Они уже давно были друзьями – с тех самых пор, как стали появляться первые рассказы о Холмсе, а желчное лицо и рыжая борода м-ра Шоу так болезненно действовали на Генри Ирвинга, – но встречались редко. В 1912 году им суждено было повстречаться дважды: первая встреча состоялась в печати и была окрашена в тона весьма ядовитые.
Вызвана она была печально знаменитой морской катастрофой. «Титаник», самое крупное и роскошное из пассажирских судов, 10 апреля вышел из Саутгемптона в свое первое плавание. Спасательных шлюпок на борту судна было даже больше, нежели предписывалось правилами. Но лишь впоследствии выяснилось, что сами эти правила для торгового флота, неизменные с 1894 года, были предусмотрены для судов водоизмещением в 10 тыс. тонн – почти в пять раз меньше, чем размеры «Титаника».
Поздно вечером 14 апреля, идя со скоростью в 21,5 узла, «Титаник» не смог справиться с управлением. Капитан Е. Дж. Смит, следуя примеру других капитанов, выставив вахтенных, рискнул продвигаться среди льдов. Айсберг пропорол борт «Титаника», будто консервную банку, хотя судно продержалось на воде еще целых два с половиной часа. На борту было 2206 человек. Вместимость спасательных шлюпок, включая четыре складные и две аварийные, составляла только 1178 человек. Даже если бы строжайший и полнейший порядок соблюдался (что было далеко не так), эти спасательные средства могли взять чуть более половины всего человеческого груза.
На «Титанике» погиб У. Т. Стид, старый друг-недруг Конан Дойла. Да и множество других пошло ко дну вместе с «Титаником», в том числе кочегары, что, стоя по пояс в воде, не прекращали работы до двух часов ночи, чтобы поддержать освещение и работу помп. «Мы прожили вместе сорок лет, – сказала Айседора Штраус, отказавшись сесть в шлюпку без мужа, – мы и сейчас не расстанемся». Спаслось только 711 человек.
Вести о трагедии – радиопозывные, сигналы бедствия, ракетами взмывающие в безлунное небо, – доходили до Англии в виде путаных и отрывочных слухов. Британская пресса сразу же стала говорить о том, что на «Титанике» царило мужество и даже героизм.
И это вызвало презрение и возмущение мистера Джорджа Бернарда Шоу.
Малейший намек на «романтизм» или «сентиментальность» звучал для м-ра Шоу как заклятие. Он написал письмо в «Дейли Ньюз энд Лидер», уличая британскую прессу в разгуле романтических бредней. Зло высмеяв английские «романтические» претензии на геройство в ситуации кораблекрушения, он сравнивал их с «достоверными свидетельствами», чтобы показать, что поведение офицеров, всего экипажа и пассажиров можно было называть как угодно, только не героическим.
Конан Дойл взорвался и написал ответ, в котором указал, что «достоверные свидетельства» м-ра Шоу не согласуются со всеми фактами и что сейчас не время для упражнений в сарказме по поводу жертв «Титаника», живых или мертвых.
Ответный выпад м-ра Шоу был стремителен и тщательно отточен, как балетное па.
Он надеется, что его друг сэр Артур Конан Дойл, выразив свой романтический и горячий протест, вновь раза три или четыре перечитает его письмо. Его, м-ра Шоу, неправильно поняли. Ведь если журналисты расточают похвалы, не выяснив обстоятельств, они повинны во лжи. И нужды нет, – тут м-р Шоу отмахивается от мелких деталей, – что впоследствии появились достоверные свидетельства, подтвердившие некоторые рассказы журналистов о тех на «Титанике», кто исполнял свой долг. Он, м-р Шоу, приводит лишь первоначальные свидетельства – и таким вот антраша уводит читателя от факта, что, сам-то он, высмеивая в своем письме несчастную жертву, воспользовался как первыми, так и последующими свидетельствами.
«Ну и ладно, – отозвался бы посторонний наблюдатель. – Повеселились и хватит».
Нет, он, мистер Шоу, не может допустить сочувствия капитану Смиту. Судно капитана Смита погибло, а это – непростительная провинность. И нет такого оправдания, как бы ловко оно ни было построено, которое могло бы обратить поражение в победу. Капитан Смит не покинул корабля и погиб; и он, м-р Шоу, не произнес бы ни слова, огорчительного для семьи Смита, не начни журналисты превозносить его поведение до небес. В Королевском военно-морском флоте он непременно был бы отдан под трибунал. А «сентиментальные идиоты с надрывом в голосе» всегда вызывали у него, м-ра Шоу, только раздраженное презрение. Ему никогда не изменял здравый смысл.
Зная все это, нам тем более интересно будет взглянуть на м-ра Шоу и Конан Дойла в конце того же года, когда они выступали с речами по ирландскому вопросу.
На большом митинге в Мемориал-холле на Фаррингдон-стрит ирландские волынки вызывали на сцену ораторов. Сцена была украшена зелеными и оранжевыми полотнищами, представляющими католиков и протестантов Ирландии. Это был митинг английских и ирландских протестантов, выступающих против позиции, занятой протестантами Северной Ирландии, которые опасались, что гомруль обернется преследованием протестантского меньшинства католическим большинством.
Но за всем этим не стояла трагедия, подобная трагедии «Титаника», и выступления ораторов можно только одобрить.
Хотя были и другие выступавшие, кроме м-ра Шоу и Конан Дойла, пресса сосредоточилась именно на них. Оба были на одной стороне, придерживаясь мнения, что преследований со стороны католиков опасаться не следует. И вот на оранжево-зеленую сцену вышел м-р Шоу и обратился к собравшимся с пылкой речью.
«Я – ирландец, – сказал м-р Шоу. – Мой отец был ирландцем. Моя мать была ирландкой. Мои отец и мать были протестантами, которых можно было бы назвать, принимая во внимание глубину их веры, непримиримыми протестантами. – Тут м-р Шоу захотел тронуть сердца своих слушателей. – Но многие заботы моей матери делила с ней ирландская нянька, которая была католичкой, – выкрикнул он. – И она никогда не укладывала меня в постель, не окропив святой водой».
Здесь с сожалением приходится признать, что ирландская аудитория не в силах была сохранить серьезность. В образе м-ра Шоу, окропляемого святой водой, как-то недоставало патетики ни на взгляд протестантов, ни на взгляд католиков. Оратор в бешенстве и некотором логическом замешательстве захотел узнать, почему они смеются над такой трогательной сценой. Быть может, это и распалило его красноречие.
«Я достиг возраста, когда можно оглянуться на свою жизнь, – заявил он. – И странное и немыслимое дело – ни одно из моих достижений, которыми я обязан своим талантам, трудолюбию или здравомыслию, не вселяет в меня какой бы то ни было гордости. Но то, что я ирландец… всегда наполняло меня дикой и неугасимой гордостью».
«Что же касается собственно ирландского чувства, – продолжал он, уж неважно, с дрожью в голосе или без таковой, – я не могу выразить, что я ощущаю. Мне говорят, что надо мной нависла опасность преследования со стороны католиков этой страны, а Англия меня защитит. Я скорее дам живьем сжечь себя католикам, чем… позволю защитить себя англичанам», – закончил он фразу, но она почти потонула во взрыве смеха. Мы, конечно, понимаем, что это было нехорошо по отношению к м-ру Шоу. Это было несправедливо. Столь патриотичные высказывания могли звучать смешно, только если бы они исходили из уст какого-нибудь англичанина или американца из его пьесы. Несчастный – им не следовало смеяться над ним.
Конан Дойл, один из «сентиментальных идиотов», взял иной тон.
«Я редко посещаю политические митинги, – начал он. – Но я пройду, сколько потребуется и куда потребуется, чтобы выступить против религиозных гонений. У нас есть все основания верить, что ирландские католики станут вести себя порядочно; католическая церковь Ирландии никогда не была церковью гонителей. Такая же проблема была благополучно решена в Баварии, Саксонии, где протестантское меньшинство никогда не подвергалось гонениям.
Но важнее всего счастье и процветание страны. Мы, люди ирландской крови, чтобы принять ту или иную сторону, всегда оглядываемся на прошлое. Предки одного осаждали Дерри, другого – бились при Бойне или были изгнаны в годы голода. Если бы только ирландцы оставили в покое своих прадедушек, они могли бы острее увидеть то, что им нужно сейчас, и им было бы легче этого достичь».
Мысли Конан Дойла обращались к религии не только на этом митинге, но и на протяжении всей той осени. Некоторые размышления занес он в свою записную книжку. Отразились они и в повести «Отравленный пояс» – еще одном приключении профессора Челленджера, которое он написал перед Рождеством.
«Принесите кислород!» – закричал Челленджер. Конец мира! Пояс смертоносного газа быстро перемещается по земле, истребляя на своем пути все живое. Представьте себе небольшую группу из пяти человек, запершихся в воздухонепроницаемой комнате (в его воображении это был кабинет в Уиндлшеме с окнами, выходящими на площадку для гольфа и холмы) и под свист кислородного баллона наблюдающих, как замирает жизнь вокруг.
Они – словно пассажиры «Титаника», зажатые во льдах со всеми своими мягкими диванами и уютной безопасностью. О чем они думают в эти роковые часы? Что ощущают, когда наступает последний рассвет и доходит очередь до последнего кислородного баллона?
Такова тема «Отравленного пояса», хотя большинству читателей запоминается скорее его приключенческая сторона. Поток тревожных сообщений, нелепое поведение лондонцев, смешное начало, ведущее к мрачному концу; и вот, наконец, для Челленджера и его жены, для Мелоуна, Рокстона и Саммерли настает последнее утро, когда волна смерти готова их поглотить.
«В руки сил, что сотворили нас, мы предаем себя вновь!» – громко возгласил Челленджер и бросил бинокль, чтобы разбить окно.
«Если я буду жить после смерти, – писал Конан Дойл в записной книжке приблизительно в то же время, – меня не сможет удивить ничто из того, что я встречу за покровом вечности. Лишь одно может поразить меня. Это – осознание дословной правоты христианских догм».
В «Отравленном поясе» после того, как окно разбито, воцаряется тягостная тишина, пока пятеро героев ждут своего конца. Но вот доносится дуновение свежего воздуха, щебетание птиц и приходит прозрение: отравленный пояс рассеялся и они одни-единственные (по всей видимости), кто остался в живых. Повествование не идет на спад, самые сильные части впереди, но психологический смысл заключен именно здесь.
«Потерянный мир», опубликованный Ходдером и Стаутоном в октябре, – беззаботное, легкое приключение. И Челленджер по законам жанра – задира и хвастун. Но в «Отравленном поясе» ему вручена главная роль в ничуть не шуточной истории – автор знал Челленджера и любил его, он мог положиться на старого приятеля.
Мы, конечно, не станем утверждать, что ему виделись какие-то картины мировой катастрофы вроде мертвых городов и распластанных манекенов «Отравленного пояса». Но любопытно, как переплетаются в это время некоторые направления его мысли: параллельно с этой повестью написал он статью «Великобритания и грядущая война», появившуюся в «Фортнайт ревью» в феврале 1913 года.
Что империалистическая Германия думает о войне – и что она собирается предпринять и как, – открылось ему, когда он прочел книгу генерала фон Бернгарди «Германия и грядущая война». Он увидел в ней черновой набросок, удачно дополнявшийся в его сознании образами, запечатлевшимися во время автопробега принца Генриха. Генерал фон Бернгарди, человек в Германии известный, изъяснялся с замечательной прямотой. Прислушаемся к генеральской философии:
«Сильные, здоровые, цветущие нации увеличиваются в числе. С некоторого времени… им требуются новые территории для размещения излишков населения. Так как почти все уголки земного шара заселены, новые территории должны быть добыты завоеванием, которое, таким образом, становится законом необходимости».
Франция, говорил фон Бернгарди, должна быть уничтожена. А следом и Англия, враждебная Германии с 1761 года и намеченная к уничтожению еще со времен бурской войны.
Конан Дойл, прозрев ход подобной войны, говорил впоследствии, что прозрение это не было результатом каких-либо сознательных вычислений, а само сложилось в его мозгу как почти готовый план-схема, но чреватый новыми, непредвиденными опасностями. Великобритания считала себя изолированной, опоясанной стальным кольцом военного флота. До некоторой степени так оно и было. Но Великобритания вынуждена импортировать продукты. И если Германия нападет на Францию, что более чем вероятно, Британия должна будет тоже направить свою армию на континент и удерживать линии снабжения.
«Элемент опасности, – писал он в своей статье, – состоит в существовании новых форм ведения войны на море, которые не рассматривались компетентными людьми и которые могут полностью перевернуть ее условия. Эти новые факторы – подводные лодки и воздушные корабли».
Аэроплан или управляемый воздушный шар ему представлялись еще «не столь устрашающими, чтобы изменить весь ход военной кампании». Другое дело субмарины. Ни одна блокада не способна удерживать этих водяных змей в гавани, никакое искусство не поможет торговым судам уклониться от их атак. И тогда:
«Предполагать, какой эффект свора субмарин, залегших у входа в Пролив или Ирландское море, может произвести на снабжение островов, не входит в мои задачи, – писал он. – Видимо, и другие корабли, помимо британских, тоже будут уничтожаться и возникнут международные осложнения».
Будто вспыхнуло алыми письменами слово «ОПАСНОСТЬ». Его взгляды, хоть и выраженные в кратком обзоре в «Фортнайт ревью», разнеслись – пусть к ним к не прислушивались – по всей стране. Как же предотвратить эту опасность?
Что ж, он придумал три способа. Первый заключался в том, чтобы производить достаточно продуктов дома, вынуждая к такой мере высоким тарифом на ввозимые товары; но политики никогда не пойдут на это. Вторым способом было создание подводных продуктовых транспортных кораблей, столь же неуловимых, как и атакующие; но это представлялось сейчас невозможным.
Третьим способом, который он особенно отстаивал, была постройка туннеля под Ла-Маншем – заглубленный на две сотни футов под землей, протяженностью в 26 миль, он должен был соединить Англию и Францию. Англия и Франция должны держаться вместе.
«Мне кажется, – писал он сухо, – нет необходимости доказывать, что в наших жизненных интересах, чтобы Франция не была искалечена и выхолощена. Подобная трагедия превратит Западную Европу в одну гигантскую Германию с несколькими незначительными государствами, свернувшимися у ее ног».
Такой туннель, подземная железная дорога, был бы трубопроводом, дорогой жизни, одинаково ценным для торговли и для войны. Проект выдвигался и ранее, он был осуществим уже тридцать лет назад. В 1913 году при современных инженерных методах туннель потребовал бы трех лет – если это еще не поздно – и затрат в пять миллионов фунтов стерлингов.
«Мы воспользуемся (через Марсель и Туннель) всеми плодами Средиземного и Черного морей». В маловероятном случае нападения на территорию Англии подкрепление можно было бы быстро перебросить назад из Франции. Как бы то ни было, уважаемые лорды и джентльмены, субмарины – реальная угроза. Как вы собираетесь ее предотвратить?
Хотя многие влиятельные лица, включая генералов сэра Реджинальда Талбота и сэра Альфреда Тернера, его поддерживали, большинство в высоких кругах не склонно было воспринимать его серьезно. Митинг на Кэннон-стрит, где он был основным оратором, вызвал разноречивые отзывы.
М-р Асквит, премьер-министр, говорил: «Вопрос о нашей способности снабжать население или сохранить коммуникации через Канал есть вопрос о том, обладаем ли мы непобедимым флотом и владычеством на море или нет».
Вежливая усмешка комментария в «Таймс»: «Предоставим сэру Артуру Конан Дойлу привести это высказывание м-ра Асквита в соответствии с воображаемой картиной: 25 вражеских субмарин у Кентского побережья и 25 субмарин в Ирландском канале».
А тремя годами позже адмирал фон Капель ликовал в рейхстаге:
«Единственный пророк современной формы экономической войны – сэр Артур Конан Дойл.
Но в описываемое время в своей стране он не пользовался популярностью в военных кругах. Не веря во вторжение, он предполагал, что территориальные войска (в случае войны) служили бы поддержкой армии за границей».
Обязательная воинская повинность была ему не по душе. Он верил в добровольцев и сомневался в осмысленности рекрутства: взгляд ошибочный, но непосредственно вытекающий из его юношеских представлений и отражающий существенную сторону его характера. Обязательная служба, конечно, может стать необходимостью во время войны. Но в мирное время, справедливо полагал он, такая мера не пройдет через парламент.
«Готовьте лучше территориальные войска, – настаивал он, – и у вас будет резерв».
Это, в частности, вызвало острейший спор, когда весьма живописный ирландец, генерал Вильсон, распорядитель военных операций, пригласил его на конференцию по поводу «Великобритании и грядущей войны». После ланча в доме полковника Саквилль-Уэста генерал Вильсон швырнул свои вопросы в лицо этому ершистому штатскому – и загрохотали кулаки об стол по обе его стороны. Они не могли убедить его в необходимости рекрутского набора, он не мог заставить их увидеть опасность в подводных лодках.
Еще одну угрозу он усматривал в плавучих минах, оказавшихся столь смертоносным оружием в русско-японской войне. Он ломал голову над тем, нельзя ли придумать способ защиты одновременно от мин и подводных лодок. Во всяком случае, он понимал, что нужно как-то пробудить публику. Все шло так гладко, так складно весной 1913 года, что только вопли воинствующих суфражисток волновали общество.
«Избирательные права женщинам!» – кричали они.
Они били стекла, атаковали кабинет министров, приковывали себя к железным оградам. Они объявляли голодовки, вынуждая применять к ним принудительное питание. Они устраивали демонстрации в театрах и общественных собраниях, откуда их, визжащих и царапающихся, уволакивали в облаке выдранных волос. Людям недалеким это представлялось смешным. Большинство же смотрело в недоумении. Казалось, будто чаепитие в доме священника вдруг обернулось шабашем ведьм, или добропорядочные вдовушки запели «Александр Рэгтайм-бэнд».
Конан Дойл, никогда не сочувствовавший суфражизму, резко восстал, когда началась эта свистопляска. Дело было не в политических принципах. Ему претило их поведение. Он видел в этом гротеск, полную перемену ролей, как если бы мужчины переоделись в женское платье и занялись вязаньем. Джин, как и большинство женщин того времени, не изъявляла желания голосовать и сообщила ему об этом без всякого нажима с его стороны.
«Зачем мне это? Я вполне счастлива».
Их третий ребенок, девочка, которую они назвали Лина Джин Аннет, родился 21 декабря 1912 года. Следующее лето застало в Уиндлшеме совершенную идиллию. Новая семья вовсе не отчуждала прежних детей, Мэри и Кингсли; напротив, все привязались друг к другу еще сильнее.
Мэри с удивлением наблюдала, как в бильярдной Денис и Адриан возятся на полу у ног отца, пока тот упражняется в ударах (он занял третье место в любительском соревновании в 1913 году). И он, не раздражаясь (как бывало в прежние времена), преспокойно, будто и не замечая, погруженный в свои мысли, переступал через них, обходя вокруг стола, и позволял им бегать, где вздумается.
С Мэри и Кингсли было достигнуто истинное взаимопонимание. Кингсли – высокий, крепкий юноша, очень замкнутый и мягкий – готовился к получению медицинского диплома в госпитале Сент-Мэри, пройдя курс обучения в Лозанне и Ганновере.
«Я иногда ощущаю, – признавался когда-то Конан Дойл в письме Иннесу, – что не могу проникнуть сквозь его замкнутость, что не понимаю его». Это досадное чувство рассеялось, Кингсли увлекся метанием молота, и отец состязался с ним на лужайках Уиндлшема.
– Кингсли, – говорил он Джин, – должно быть, самый неразговорчивый из всех когда-либо живших Дойлов. Но он может быть весьма красноречив, когда пишет всем этим девушкам.
– Всемдевушкам?
– Да в доме нельзя открыть ни одного ящика стола, чтобы не наткнуться на очередное письмо, начинающееся словами «Дорогая Сьюзен» или «Дорогая Джейн». И, изображая самого себя, он надувал щеки и будто принимался распекать сына: «Кингсли! Черт возьми! В чем дело? Мальчишка – сущее наказание».
Он много выступал в тот год по поводу реформы бракоразводных законов. «Основа национальной жизни, – говорил он, – не просто семья. А семья счастливая. А этого-то, с нашими замшелыми брачными законами, как раз и нету».
Не говоря уж о мопеде, – то есть велосипеде с приспособленным к заднему колесу двигателем, который, чихая, возил их по окрестностям, не было таких увлечений, которым бы он не предавался. М-р Столл мечтал о Шерлоке Холмсе в виде, который миссис Хамфри Уорд назвала «эти новые схемы для кинематографического воспроизводства романов». Но первым экранизированным произведением Конан Дойла стал «Родни Стоун».