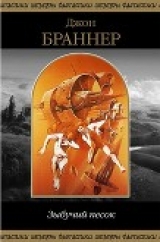
Текст книги "Зыбучий песок (сборник)"
Автор книги: Джон Браннер
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 56 страниц)
Вы сами рассказывали мне, как озлоблен он был против Фитцпрайера и подобных ему политических деятелей, считая радиоактивные осадки причиной смерти своего сына, что вполне возможно. Так что, при таких обстоятельствах, в его поведении не было ничего противоестественного. А ногу, как мне кажется, он хотел бросить в ту же сточную трубу, куда упал и обрубок его пальца, с тем, чтобы люди из будущего смогли посылать свои кошмары человеку, которого Макс считал виновным в смерти своего сына.
Ленш грустно улыбнулся.
– Остроумно, правда?
– Очень. Значит, сумей мы вовремя найти рациональное объяснение Смиффершону, Макс и сейчас был бы с нами?
Фолкнер с силой ударил кулаком в ладонь другой руки.
– Проф, мы обязаны узнать всю правду об этом проклятом бродяге!
– Со временем узнаем, непременно узнаем, – не очень уверенно сказал Ленш. – Насколько я понимаю, ваша знакомая находится сейчас у него. Почему, собственно, вы здесь, а не там, с ней?
– Нам пришлось ограничить время пребывания в одной с ним комнате. Он так заражен, что стоит ему только дунуть на счетчик Гейгера, тот начинает трещать как взбесившийся будильник. Просто чудо, что за неделю пребывания в общей палате он никому не причинил вреда, во всяком случае, по нашим последним данным. К тому же, Лаура – единственный человек, который ухитряется с ним общаться.
– Ну, она–то, конечно, защищена?
– О, да. Она надевает маску, когда заходит к нему, а когда уходит – переодевается и принимает душ.
– Хорошо. Вот что, Гордон. Я сейчас уезжаю. У меня есть еще минут пятнадцать, и я хотел бы поговорить с мисс Дэнвилл, узнать, как идут дела. Вы не могли бы попросить ее зайти ко мне?
– Конечно, – сказал Фолкнер и встал.
Глубоко задумавшись, он медленно шел по коридору к палате, в которой был изолирован Смиффершон. По дороге он обогнал сиделку, раздраженно толкавшую перед собой тележку, плотно закрытую воздухонепроницаемым полиэтиленовым чехлом. Это было сделано ради Смиффершона; он требовал к себе, пожалуй, гораздо больших мер предосторожности, чем больной оспой.
Черт возьми, в самом деле, можно понять, как такой, обычно уравновешенный человек, как Макс Хэрроу, мог поверить своим диким предположениям! – подумал Фолкнер. Смиффершон, должно быть, невероятно невосприимчив к радиации, как будто из миллионов людей природа выбрала именно его, безжалостно пропустив через особый генетический фильтр. И откуда только в наши дни мог взяться в его крови и костях такой заряд смерти? Макс ничего не знал о панике, которая поднялась тогда вокруг Смиффершона, потому что ему приказали не выходить из дома: была поставлена в известность полиция, в клинику, а также в те места, куда, как было известно, заходил бродяга, выехали эксперты в поисках опасной для жизни радиации. Даже через несколько дней они смогли обнаружить очень слабые следы облучения, хотя, к счастью, никто не пострадал: радиация была не сильнее, чем от циферблата светящихся часов.
Его размышления были прерваны появлением Лауры. Она вышла из приемной, в которой обычно мылась и переодевалась после визитов к Смиффершону. Фолкнер заторопился ей навстречу.
Она улыбнулась ему ослепительной улыбкой и стала оживленно рассказывать:
– Это становится очень интересным, – сказала она. – Он придумал подробное и совершенно фантастическое объяснение своему состоянию, и, мне кажется, у меня накопилось уже достаточно материала, чтобы заинтересовать им психолога.
Она показала ему катушку с магнитофонной лентой.
– Я перевела еще не все, что он говорил сегодня – не стану притворяться, будто я свободно владею его невероятным языком. Но, насколько я могу судить, он впал в истерику, напуганный возможностью ядерной войны, а потом так увлекся попыткой провести тщательное исследование ее последствий, по крайней мере, лингвистических, что она превратилась у него в навязчивую идею. Например, он решил, что болезни, вроде его собственной, которые считаются одним из видов лучевых, распространятся настолько широко, что почти никто не сможет употреблять в пищу мясо и жиры, а земель, пригодных для выращивания зерновых, останется так мало, что о пастбищах для коров или овец не будет и речи, к тому же, они в любом случае вернутся к дикому состоянию, и человечество весь урожай вынуждено будет использовать в пищу, а одежду делать из шкур – вот почему он называет одеяло «ки–ура». И потом, по другой его теории, человечество вновь вернется к суеверию, которое станет доминирующим фактором в жизни людей. Эта кость, которую у него нашли, считалась волшебным символом, средством связи со счастливым прошлым, и…
Она растерянно замолчала, с недоумением всматриваясь в лицо Фолкнера. Тот не мог вымолвить ни слова. Его била мелкая–мелкая дрожь, а зубы вдруг застучали громко и четко, как индикатор счетчика Гейгера.
Время украшать колодцы
Уши его оглохли от грохота артиллерийских снарядов, глаза слезились, горло саднило от ядовитого газа… Эрнест Пик с огромным трудом, ощупью добрался до шнурка, на котором висел прикроватный колокольчик, дернул за него и наконец очнулся от сна: кулаки сжаты, сердце бешено бьется и во всем теле такая усталость, словно он и не ложился спать.
«Может, лучше было бы действительно не ложиться», – подумал он.
Дверь приоткрылась. Вошел Тинклер, служивший у него ординарцем и во Франции, и во Фландрии. Он раздернул занавески, и в спальню хлынул дневной свет.
– Вы снова плохо спали, сэр? – осведомился Тинклер.
Это был даже и не вопрос. О дурно проведенной ночи красноречиво свидетельствовали смятые, скомканные простыни.
На столике у кровати среди коробочек с лекарствами стояли бутылка с настойкой валерианы, стакан и кувшин с водой. Тинклер тщательно накапал предписанное врачом количество лекарства в стакан, долил туда воды, размешал и подал хозяину. Эрнест, хотя и неохотно, лекарство проглотил: похоже, оно действительно помогало. Доктор Касл показывал ему статью, где описывалось успешное лечение валерианой и в иных случаях контузии.
«А ведь каждый из них по–своему любит меня – в душе, в темнице собственного черепа…» – думал Эрнест Пик.
– Не желаете ли чаю, сэр?
– Желаю, – кивнул Эрнест. – И еще приготовьте мне ванну, пожалуйста. А завтракать я буду здесь, наверху.
– Хорошо, сэр. Что вам приготовить из одежды?
С трудом встав с постели и про себя проклиная пробитую пулей коленную чашечку, из–за чего левая нога теперь практически не сгибалась, Эрнест посмотрел в окно, за которым сияло голубое небо, и пожал плечами:
– По–моему, как раз подходящий денек для легкой куртки и фланелевых брюк.
– Но, сэр!.. При всем моем уважении… Сегодня ведь воскресенье! Так что…
– Да какая к черту разница, что сегодня за день! – взревел Эрнест и сразу почувствовал себя виноватым. – Извините, Тинклер. Снова у меня нервы на пределе. Сны еще эти дурацкие… Вы, разумеется, можете пойти в церковь, если хотите.
– Да, сэр, – прошептал Тинклер. – Спасибо, сэр.
Ожидая, пока принесут чай, Эрнест мрачно смотрел в окно на залитый солнцем пейзаж. Фамильная усадьба Уэлсток—Холл была, как и многие другие, во время войны превращена в сплошные огороды; та же ее часть, которую патриотически настроенный сэр Родрик, дядя Эрнеста, не пожелал видеть распаханной и покрытой ирригационными канавами, досталась сорнякам. Однако повсюду уже виднелись следы возвращения к обычной мирной жизни. Разумеется, нужного количества работников было не найти, однако пожилой мужчина и двое пятнадцатилетних подростков старались вовсю. Теннисный корт пока, разумеется, восстановить не успели, но лужайка перед домом была аккуратно подстрижена и украшена клумбами, на которых цвели крокусы. Да и вокруг дома многие клумбы, уже приведенные в порядок, пестрели яркими цветами. Из окна спальни Эрнесту был виден шпиль собора, хотя само здание и все церковные постройки скрывала густая листва деревьев и кустарников; видел был лишь угол домика священника.
Когда–то пейзаж этот носил совершенно идиллический характер, и Эрнест частенько задавался вопросом: а что, если бы он провел свое детство здесь, а не в Индии, и учился бы в обычной школе, а не дома, у приходящих учителей? Дядя Родрик и тетя Аглая, своих детей не имевшие, неоднократно предлагали прислать племянника к ним, чтобы он «учился в нормальной школе», а каникулы проводил в Уэлстоке. Однако родители Эрнеста так и не согласились отослать его, и в глубине души он был им за это благодарен. Столь многое изменилось в Англии по сравнению с той далекой восточной и вряд ли подверженной сильным переменам страной, такой древней и медлительной, до которой, чтобы добраться, нужно было пересечь четверть земного шара! И теперь Эрнест гораздо больше жалел о том, что ему пришлось уехать из Индии.
Сегодня, впрочем, после пережитого ночью во сне ужаса и отчаяния даже вид столь любимого им купола мечети Кубла Хана вряд ли смог бы рассеять те мрачные тучи, что заволокли его душу, ибо душа его была столь же сильно искалечена войной, как и негнущаяся теперь нога.
Тинклер наконец принес чай. Поставив поднос на столик и намереваясь отправиться в ванную комнату, он спросил:
– У вас на сегодня уже есть какие–то планы, сэр?
Эрнест со вздохом отвернулся от окна. Взгляд его упал на складной мольберт, прислоненный к столу, пачку бумаги для рисования, коробку с акварельными красками и прочие атрибуты художника–любителя.
«Стану ли я когда–нибудь настоящим художником? – думал он. – Пусть хоть неважнецким? Говорят, кое–какие способности у меня есть… Но я, похоже, совершенно разучился видеть. Я вижу не тот мир, что находится передо мной, а то, что скрыто внутри него, за его пределами, его темную суть… Тайные ужасы…»
Помолчав, он сказал:
– Знаете, Тинклер, я, пожалуй, прогуляюсь и сделаю несколько набросков.
– Так может, мне попросить повара приготовить вам корзинку с ланчем?
– Да не знаю я! – Эрнест чуть не сорвался во второй раз и заставил себя сказать гораздо спокойнее: – Хорошо, я сперва позавтракаю, а потом решу и скажу вам.
– Вот и прекрасно, сэр, – спокойно откликнулся Тинклер.
Приняв ванну, побрившись и одевшись, Эрнест, впрочем, едва прикоснулся к завтраку и теперь медленно брел через вестибюль к той двери, что вела в сад. Каждое, даже самое незначительное усилие требовало от него прямо–таки невероятных душевных затрат, а уж что касается принятия важных решений… Мрачно размышляя о том, что ведет себя в высшей степени невоспитанно по отношению к верному Тинклеру, который стал для него тем, чем не смог бы, наверное, стать и самый лучший друг, Эрнест уже готов был открыть дверь на террасу, когда зычный голос тети Аглаи остановил его, пожелав доброго утра.
Резко обернувшись и поскользнувшись на паркетном полу, он лицом к лицу столкнулся с теткой, с ног до головы одетой в черное: траур она носила со дня смерти мужа, сраженного инфлуэнцей[16]16
Инфлуэнца (итал.) – грипп. (Прим. ред.)
[Закрыть] три года назад. В принципе, отведенный для обязательного ношения траура срок давно истек, но тетя Аглая явно решила уподобиться королеве Виктории, до смерти носившей траур по своему Альберту. В остальных аспектах, правда, ни малейшего сходства с королевой у нее не наблюдалось, да и принц Альберт, бывший, как известно, небольшого роста, вряд ли соблазнился бы пышным бюстом статной Аглаи, весьма сильно затянутым в корсет.
Но хуже всего было то, что взаимоотношения тети с окружающими стали столь же строгими и негнущимися, как и ее корсеты. Когда дядя Родрик был еще жив, а Эрнест несколько раз, получив отпуск на фронте, приезжал к ним отдохнуть, с теткой вроде бы еще можно было иметь дело; она способна была даже произвести неплохое впечатление, если не считать ее дурацкого снобизма, связанного с чрезмерно трепетным отношением к собственному статусу супруги владетельного аристократа. Теперь же она называла себя не иначе как хозяйкой замка Уэлсток – иначе говоря, считала себя официальной хранительницей не только своих владений, но и здешних законов, норм поведения и самой жизни «собственных вассалов». И Эрнест, разумеется, невольно оказался в их числе.
Он не успел ответить на приветствие тетки, ибо она продолжила:
– Между прочим, совершенно неподходящий наряд для святой обедни!
Мрачная религиозность тоже стала одной из непременных составляющих ее нового облика. Она возобновила «семейные» моления, которые Эрнест скрепя сердце все же посещал, ибо «негоже показывать слугам, что между хозяевами существуют какие–то разногласия». Однако про себя он все это считал «полным дерьмом».
Через открытую в столовую дверь ему было видно, как горничная убирает со стола. И он, стараясь говорить как можно тише, чтобы не услышала девушка, вежливо сообщил «дорогой тете»:
– А я, между прочим, в церковь и не собирался, тетушка.
Она придвинулась ближе, горой нависая над ним:
– Молодой человек! Я достаточно натерпелась от вас по причине вашего якобы надорванного душевного равновесия! Однако вы начинаете испытывать мое терпение. Вы здесь уже целый месяц, и доктор Касл уверяет меня, что поправляетесь вы весьма неплохо. Надеюсь, в ближайшем времени вы все же сочтете нужным поразмыслить над тем, какое гостеприимство я оказываю вам и в каком неоплатном долгу вы, как и все мы, впрочем, перед нашим Создателем!
Казалось, вся кровь разом отхлынула у него от лица; он прямо–таки физически ощущал, как побелели его щеки. Крепко сцепив пальцы – он был настолько взбешен, что, казалось, может и ударить эту лицемерную старую суку, – он скрипнул от злости зубами и едва слышно процедил:
– У меня нет и не может быть никаких долгов перед Богом, допустившим эту чудовищную, грязную войну!
И, прежде чем тетка успела обрушиться на него с обвинениями в богохульстве, он резко распахнул дверь и выскочил на залитое ярким солнечным светом крыльцо, забыв и шляпу, и трость, на которую всегда опирался при ходьбе.
В церкви звонил колокол. Один–единственный. И Эрнесту с его растревоженной душой этот звон показался похоронным.
– Мистер Пик, это вы? Погодите же, мистер Пик!
Голос был тихий, смущенный. Эрнест тряхнул головой, постепенно приходя в себя. Он стоял, опираясь о стену, отделявшую храмовый двор от домика священника. Колокол наконец звонить перестал. Прямо перед Эрнестом стояла тоненькая девушка. Широкие поля шляпы закрывали от солнца ее лицо. На ней было простенькое платьице из темно–серой материи – того же цвета, что и ее большие, полные тревоги глаза.
Хотя в данный момент Эрнеста больше всего занимал вопрос, не плакал ли он в полный голос – он знал, что с ним такое порой случается, – все же рука его машинально поднялась к полям несуществующей шляпы.
– Доброе утро, мисс Поллок, – выдавил он наконец. – Простите, если я вас напугал…
– Ничуть вы меня не напугали. Я просто решила тут прогуляться, пока дедушка доводит до ума свою проповедь.
Страстно желая стереть дурное впечатление, которое он, возможно, произвел на эту милую девушку, он пробормотал:
– Боюсь, вы уже догадались, что меня, к сожалению, в церкви не будет и послушать проповедь вашего дедушки я не смогу. Видите ли, я только что пытался объяснить своей тетке, что… потерял всякую веру в любящего, всепрощающего и всезнающего Бога, увидев, что Он позволил сотворить там, где я побывал!
Чувствуя, что бормочет нечто уж и вовсе несусветное, Эрнест умолк на полуслове, с удивлением и невероятным облегчением заметив, что мисс Поллок и не думает на него обижаться. Мало того, она сказала:
– Да, это я хорошо понимаю! Джеральд, мой жених, говорил примерно то же, когда приезжал в отпуск…
«Да! – подумал Эрнест. – О Джеральде я уже слышал. Убит в боях… под Камбре. Кажется, танкист».
Пока он мучительно подыскивал нужные слова, со стороны замка донесся скрип колес по гравию: это означало, что леди Пик собралась ехать в церковь в карете, хотя пешком могла бы добраться туда в два раза быстрее, ведь на карете приходилось делать довольно–таки большой крюк. Но, разумеется, тетя Аглая пешком ни за что бы не пошла!
Она также, безусловно, могла бы купить себе и автомобиль вместо кареты – впрочем, у дяди Родрика автомобиль имелся еще до войны, только она этого никогда не одобряла и не раз говорила, что была просто счастлива, когда их шофера призвали в армию и сэр Родрик велел ему ехать в Лондон на машине и там передать ее на нужды своего полка.
Мисс Поллок, глядя Эрнесту через плечо, заметила:
– Вот и ваша тетя отправилась в церковь. Мне, пожалуй, пора поторопить деда, а то он иногда теряет счет времени. Между прочим, я вот еще что хотела сказать: в теплую погоду мы любим пить чай в саду. Может быть, вы как–нибудь захотите к нам присоединиться? Мы были бы очень рады!
– Но я… Право, вы так любезны!.. – заикаясь, пробормотал Эрнест.
– И совершенно не нужно назначать визит заранее! В любой день, когда у вас выдастся свободный часок, просто попросите кого–нибудь из слуг сбегать к нам и сказать, что вы сейчас придете. Ой, вот теперь мне и правда пора бежать! До свидания, мистер Пик!
И она исчезла, оставив Эрнеста в тяжких раздумьях: он все пытался вспомнить, не разговаривал ли он сам с собою вслух, когда она его окликнула, а если разговаривал, то что именно говорил?
Как и всегда, здешние очаровательные окрестности и прелестный летний закат казались ему насквозь пропитанными некоей скрытой угрозой; угроза эта обычно представлялась ему в виде червей, кишащих в плодородной почве и способных размножиться настолько, что они запросто могли начать пожирать и самих людей.
«Газовая гангрена, – думал он. – Только у меня ею поражена сама душа…»
Ратуша, церковь и дом священника располагались на вершине небольшого холма, а остальные дома деревушки рассыпались беспорядочно чуть ниже по склону того же холма, а также – соседнего. В былые времена многим, особенно детям и старикам, было весьма утомительно карабкаться в гору, чтобы попасть в церковь к святой обедне, и прихожане часто довольствовались тем, что добирались только до родника, с давних пор бившего у подножия церковного холма; считалось, что его воды обладают способностью очищать душу и смывать грехи.
В начале XIX века один весьма знатный аристократ велел устроить на месте этого родника крытый колодец, а рядом проложить удобную пологую тропу, ведущую к церкви. С тех пор это место стало называться «перекресток у Старого родника». Аристократ также велел посадить по обе стороны от крытого колодца два великолепных каштана. В их тени жарким летним утром собирались многие жители Уэлстока, чувствовавшие себя неловко в темных воскресных костюмах. Среди них, несмотря на прекрасную погоду, редко теперь мелькало счастливое, улыбающееся лицо. Вот и сегодня – в который уж раз! – трагическая весть разнеслась по деревне: умер совсем еще молодой мужчина Джордж Гибсон, который воевал во Франции, был отравлен газами, попал в плен и не так давно вернулся домой. Да только вот вернулся он совсем больным. Все кашлял да кашлял и наконец выкашлял все свои легкие – умер, оставив жену и троих маленьких детей.
Жители деревни сидели, как всегда разделившись на две группы: слева женщины и малые ребятишки, справа отцы семейств, старики и весьма немногочисленные молодые парни. Ребятишки носились вокруг школьной учительницы, мисс Хикс, а женщины, сожалея по поводу смерти Джорджа Гибсона, вели привычный разговор о чересчур высоких ценах, о болезнях – в те дни любой скачок температуры у ребенка грозил второй волной страшной инфлуэнцы. Женщины обсуждали пришедшее в упадок хозяйство, свои жалкие дома, давно нуждавшиеся в ремонте, и редкую по нынешним временам предстоящую свадьбу – без особого, впрочем, оптимизма: уж больно время неподходящее, полагали они, чтобы любовью заниматься да детишек плодить.
Мужчины же, сидевшие поодаль, говорили о своем. Молодых мужчин в деревнях оставалось все меньше: из тех, что не попали на фронт, большая часть стремилась в города в поисках заработка и веселой жизни, да там и оседала. За спинами отцов маячили насупленные мальчишки–подростки; у них было уже достаточно сил, чтобы помогать семье, однако же проблемы старших их пока что совершенно не заботили.
В центре мужской группы всегда был Гирам Стоддард, кузнец и ветеринар, а также член местной крикетной команды – он обычно охранял воротца. Рядом с ним частенько сидел и его брат Джейбиз, хозяин гостиницы «Большая Медведица». Братья обменивались новостями с местными фермерами, среди которых был и самый богатый из них, Генри Эймс. Впрочем, местным он не считался, хотя давно уже перебрался в Уэлсток из соседнего графства и прожил в этой деревне более десяти лет. Правда, люди вели себя по отношению к нему и членам его семьи очень вежливо, но по–прежнему считали их чужаками. Во всяком случае, среди мужчин Генри Эймс был единственным, к кому все неизменно обращались «мистер Эймс».
Мужчины в отличие от женщин сохраняли на лицах весьма мрачное выражение, даже беспечно болтая друг с другом. Сперва, впрочем, основной темой их беседы, как и у женщин, стали Джордж Гибсон и его несчастная семья. Затем они перешли к более насущным проблемам. В частности, они говорили о том, что катастрофически не хватает рабочих рук. Кстати, Джордж Гибсон был сельскохозяйственным рабочим и жил в коттедже, принадлежавшем леди Аглае. Простые землепашцы дружно затыкали рот тем «теоретикам», которые уверяли, что сельское хозяйство вскоре будет полностью механизировано, – ведь никто из этих крестьян (за исключением все того же мистера Эймса!) не мог себе позволить купить новую и дорогую технику, а лошадей во время войны погибло столько, что в ближайшее время восстановить лошадиное поголовье уж точно не удастся. Те же опасения относились и к остальным домашним животным: поголовье коров и овец также значительно уменьшилось, и не хватало рабочих рук, чтобы ухаживать за скотиной… Ох, и тяжелые времена наступили! Может, даже тяжелее, чем в войну. Кто–то вспомнил, что политики клятвенно обещали «готовые дома для героев», и эта острота была встречена ироническими смешками, в которых явно недоставало веселья.
Желая несколько разрядить обстановку, Гирам повел речь о том, что лето нынче пришло рано, а это обещает хороший урожай сена. Упоминание о созревающих травах естественным образом привело к обсуждению сенокоса и расчистки совершенно заросшего крикетного поля, а это, в свою очередь, вызвало очередной приступ подавленного молчания: мужчины вспомнили, скольких игроков недосчитается теперь их команда.
Помолчав, Гирам с притворной бодростью вызвался:
– Что ж, придется мне после службы сходить к ее милости и попросить у нее на время газонокосилку. Кто со мной?
Четверо или пятеро, хотя и неохотно, все же откликнулись на его предложение. А вот когда был жив сэр Родрик, предложение это прозвучало бы для любого весьма заманчиво: сэр Родрик, конечно же, сразу дал бы газонокосилку, да еще и каждого угостил добрым кувшином пива – на прощанье. А вот иметь дело с ее милостью…
Словно читая мысли односельчан, старый Гаффер Тэттон проскрипел:
– Ох, и плохие ж времена настали! Ох, плохие!..
Мужчины расступились, пропуская старика в центр своего кружка. Он опирался на толстую дубовую палку, которую вырезал себе, пока ревматизм не успел еще совсем изуродовать ему ноги и руки и согнуть крючком спину. В свое время Гаффер слыл искусным резчиком по дереву, плотником и колесным мастером. Но те дни давно миновали, и теперь он считал, что его мастерство вряд ли кому–нибудь понадобится, и любил повторять, что если в военное время почти все старались делать на фабриках, то и в мирное время по привычке станут поступать так же, а старые мастера вроде него останутся не у дел. Его мрачные предсказания, конечно же, в итоге сбылись, но в те дни кое–кто из молодежи и посмеивался у него за спиной. Однако большая часть жителей деревни с уважением относилась к этому мудрому старику.
Посмотрев вокруг затуманенным взором, Гаффер Тэттон промолвил:
– Да, тяжкие времена посланы нам во испытание! Только что ж удивляться? Ведь нынче как раз урочный год! В прошлый–то раз мы притворились, будто урочного года и не заметили! Так что теперь придется вдвойне отдуваться!
Отлично понимая, о чем он говорит, старшие мужчины беспокойно задвигались; по виду их было ясно, что им очень хочется сменить тему разговора. Когда же кто–то из парней, совершенно сбитый с толку словами насчет «урочного года», попросил разъяснений (мистер Эймс тоже явно обрадовался, что кто–то задал вопрос, так и вертевшийся у него на языке), то уже не только в глазах мужчин замелькала тревога, но кое–кто собрался и поспешил уйти прочь. Но Гаффера Тэттона не так–то легко было сбить с нужной темы.
– Первый раз это был 1915 год, – произнес он с нажимом. – Оно, конечно… война и все такое… И Она нас тогда простила, это точно. Да только в этот раз уж не простит! И ведь Она не раз нас предупреждала, неужто не заметили? Умер сэр Родрик! А его полноправный наследник… Нет, над ним точно проклятие тяготеет!
Кое–кто из собравшихся даже присвистнул. Всех огорчали печальные сведения о болезни мистера Эрнеста – эти сведения местные жители вытянули из его слуги, мистера Тинклера, имевшего привычку по вечерам заходить в «Большую Медведицу». Этот Тинклер, хоть и был «одним из Ланнонов» по рождению, оказался вполне приличным парнем, знал великое множество всяких историй и анекдотов, а также обладал удивительной способностью выпивать немыслимое количество местного сидра.
И все же столько времени прошло с тех пор, как мистер Эрнест вернулся, а здоровье его по–прежнему пребывало в весьма плачевном состоянии!
– Хрупкий он очень! – как–то заметил мистер Тинклер и снова повторил, словно одобряя выбранное им определение: – Да, хрупкий! Таким трудно жить. У них, как говорится, душа тонкая, артистическая. Ясно вам? Для тех, у кого такая душа, это свойство – не то благословение, не то проклятие…
Вот и он произнес вслух слово «проклятие», хоть и вкладывал в него совсем не такой смысл, как Гаффер Тэттон…
Однако сейчас старик был охвачен порывом красноречия. И утверждая, что им надо только прихода священника и дождаться, вещал:
– Так ведь оно как положено? Ведь до Троицына дня рукой подать! И если мы не упросим святого отца благословить колодцы и источники…
Кашлянув, Гирам прервал старика:
– Мы, между прочим, говорили о том, что надо бы крикетное поле в порядок привести. И хотели после службы зайти к ее милости, чтобы…
Гаффер прямо–таки побагровел:
– А я думал, вас наши колодцы заботят! Неужто ж вы не поняли, что Она и есть одно из посланных нам несчастий? Что Она – это тоже предупреждение?
И многим показалось, что это действительно так; они бы, может, и вслух это высказали, да только тут как раз мимо проехала ее карета. Услышав целый хор голосов, произносивших: «Доброе утро, госпожа!», она, то есть леди Аглая, вышла из кареты, несколько раз благодарно и надменно кивнула в сторону снятых шапок и склоненных голов, а потом важно прошествовала вверх по дорожке, ведущей между могильными плитами к входу в храм.
Люди покорно двинулись следом.
Но проповедь священника они в тот день слушали плохо.
«А ведь они что–то припозднились с подготовкой крикетного поля», – подумал неожиданно Эрнест, когда бродил в окрестностях замка, пытаясь спастись от неотступных страшных видений.
Позабыв о том, что собирался заняться рисованием, он позволил ногам самим нести его. Обрывки воспоминаний о том, как однажды летом он приезжал сюда в отпуск с фронта, вдруг пробудились в его душе; вскоре он увидел крикетное поле, сейчас более всего похожее на обыкновенный лужок, хоть трава там и была, пожалуй, чуть покороче, чем жнивье на хлебном поле. Но для хорошего удара слева поле, конечно, совершенно не годилось.
На Эрнеста вдруг снова нахлынули воспоминания о прошлом. Ну да, конечно, беседка должна быть слева от поля… Вот и она! Когда–то зеленые, доски явно нуждаются в свежей покраске. Да и болтающаяся на одном гвозде дощечка с названием усадьбы выглядит убого, истерзанная зимними ветрами…
В душе поднялась давняя боль. Деревенской команде тогда не хватало отбивающего – его совсем недавно призвали в армию, – и они попросили Эрнеста сыграть за честь Уэлстока. Он согласился и отбил, наверное, мячей сорок – весьма неважнецки, надо сказать, посланных. Этого оказалось достаточно, чтобы сравнять счет, и в итоге Уэлсток даже выиграл, получив на два очка больше.
«Это была моя последняя игра в жизни!» – подумал он.
И, повернувшись к полю спиной, медленно побрел к дому, стараясь не заплакать.
По пути он заглянул в летний домик; там в водонепроницаемом сундуке хранились принадлежности для игры в крокет. Смутно вспомнилось собственное высказывание: «Крокет – практически самая активная из тех игр, для которых я отныне буду пригоден!» Как всегда готовый выполнить любую невысказанную команду, Тинклер уже вытащил колышки и разметил границы площадки.
Желая чем–нибудь занять время до ланча, Эрнест открыл сундук, вынул оттуда молоток и шар и стал бесцельно гонять шар по лужайке. Однако в голове его все время крутились обрывки недавнего разговора. К счастью, это не имело ни малейшего отношения в окопному аду. Однако звуки, доносившиеся из церкви, где шла служба, навели его на мысль об индуистских религиозных процессиях, о статуях божеств, вымазанных сливочным маслом «гхи» и увешанных гирляндами цветов, а отсюда было уже рукой подать до терпеливого Гуль Хана, носильщика его отца и отличного боулера, который чертовски ловко бросал мяч по калитке противника, играя в крикет. В жаркое время года, в Симле…
– Ах, черт возьми! Какой смысл вспоминать все это! – прошептал он и с такой силой ударил молотком по шару, словно находился в гольф–клубе. Шар, врезавшись в стойку ворот, начисто снес их, выбив из мягкой торфянистой почвы. Эрнест швырнул вслед шару молоток, сердито повернул к дому…
И вдруг застыл как вкопанный.
По подъездной дорожке медленно поднимались к замку шестеро мужчин в черных костюмах и шляпах. Он узнал всех, хотя и не смог бы с уверенностью назвать их по именам. Точно он знал только одно имя: мистер Стоддард. Именно он, разумеется, шел во главе процессии, загорелый и немного флегматичный, капитан деревенской крикетной команды – единственной команды, на стороне которой Эрнест согласился бы играть…
И снова он, должно быть, невольно заговорил вслух, потому что тихий голос у него за спиной подтвердил:
– Совершенно верно, сэр. Это именно мистер Гирам Стоддард. Есть еще мистер Джейбиз Стоддард, но он занят: у него ведь гостиница «Большая Медведица», и ему пришлось пойти туда. – И Тинклер прибавил немного смущенно: – Я вас заметил, когда мы выходили из церкви, так что извинился перед ее милостью и немного срезал путь…








