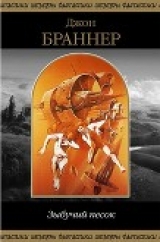
Текст книги "Зыбучий песок (сборник)"
Автор книги: Джон Браннер
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 56 страниц)
Но ты спрашивал о Хоуске. Она захотела вернуться в Пегас и выяснить о нем. Ее шеф, доктор Снелл, кажется, имеет трудный характер. По–видимому, марсианская часть персонала заставила доктора вернуть Хоуска его коллегам и позволить им уйти. Таким образом, сейчас назревает межзвездный дипломатический кризис. Но, я думаю, это скоро пройдет. Иета, кстати, взяла с собой ребенка, заявив, что будет лучше смотреть за ним, чем Тодер, и, конечно же, она была права. Один из законов родильных клиник говорит…
Старый Храм? Да, конечно, персонал клиники очень рассердился из–за того, что Хоуск насмехался над марсианами. Я никогда не мог вообразить, как много значит Храм для тебя и твоих сородичей. Очевидно, Храм – святыня для марсиан, поэтому они не могли оскорбить его приземленными исследованиями. Это своего рода прекрасная сказка, не так ли? Подобно, как, черт побери, его звали, Санта Клаусу и его северному оленю! Я почти проникся вашими чувствами, в эти дни…
Ты не понимаешь? Рэй, извини! Я думал, ты уже понял. Я обосновался в Старой Системе окончательно. Я не могу снова вернуться к своей работе, а это было моей жизнью. Медведиане не хотят допускать меня к себе, так как отлично знают, что я не был их агентом, даже если центавриане так думали. Я персона "нон грата" на любой человеческой планете, кроме Старой Системы, так же как и ты, между прочим.
Но тебе везет. По крайней мере, ты вернулся домой на свою планету. Ты представляешь, я не ступал на Землю тридцать два года! И все же я считаю, это не большая жертва, если мы сможем воспитать этого ребенка и его детей, пренебрегая такими ярлыками, как центавриане, медведиане, земляне или марсиане…
Извини, я не хотел тебя обидеть, но я искренне думаю, ты поймешь правильно!
Я понял, конечно. И все–таки, ясно представляя свое новое положение, в душе я не мог с ним согласиться. Да, были корабли земного сектора, такие же хорошие, как и центаврианские, и медведианские, – я мог работать на земных линиях и все еще летать в космос. Но планетами, на которые мне разрешена посадка, были только Земля и Марс. В других мирах мне будет отказано в посадке. Какая польза от такой жизни? Итак, моя карьера закончена.
В таком случае, что дальше? Однообразное притупляющее существование, подобное жизни моего отца? Мои глаза блуждали по маленьким карточкам на букетах цветов: может, что–нибудь подскажет выход. Очень много людей знало, что я сделал, в той версии, которая была распространена, конечно. О некоторых из них я никогда не слышал, от других я никогда не ждал неприятностей. Гэс Квизон, например.
И мой отец. Я должен увидеться с ним. Я больше не думаю, что Тодер был моим единственным отцом. После всего случившегося он понял, что не всегда может правильно понять суть обстоятельств. Все человечество признает это.
Когда Тодер пришел навестить меня, я принял его не очень радушно. Он почувствовал мою обиду и в молчании сидел у кровати, словно удивленный оказанным ему приемом.
Я позволил ему удивляться сколько угодно. Наконец он решился заговорить первым:
– Рэй, ты недоволен мной? По словам Лугаса, ты еще не осознал, что из–за этих дел ни ты, ни он, ни любой другой из его экипажа не сможет…
– Нет, это не так. Или, вернее, это не главное, – я провел усталой рукой по своим глазам. – Я много думал здесь и согласился с Иетой в том, что люди обращаются с живым человеческим ребенком, как с игрушкой.
Он, поколебавшись, сказал:
– Но если бы ты подумал еще немного, Рэй!.. Ты обижаешься на то, что ты марсианин?
– Черт возьми, нет. И думаю, я имею достаточно оснований гордиться тем, что я есть!
– Тем не менее ты уже был марсианином задолго до того, как появился на свет. Формы марсианского общества были запланированы. То, чем ты гордишься, – честь, традиции, образ поведения – не были случайными, а явились результатом претворения в жизнь грандиозного плана развития.
– Может быть, формирование марсианина как личности – лучший результат вашего плана, а остальные? – я сделал гримасу. – Медведиане? Я думаю, они в целом хорошие люди, но Дживес – медведианин, и он оказался способным закрыть кран кислородного баллона ребенка, и знание того, что центавриане страстно желали его заполучить, не является оправданием. Земляне? Питер и Лилит – земляне, и они были готовы похитить ребенка и увезти его отсюда. Центавриане дурно пахнут давно. Да и… сами марсиане, которые готовы позволить своим внучкам…
– Рэй! – Тодер в гневе наклонился вперед. – Ты обвиняешь меня в моей марсианской приверженности к секретности, хотя я мог рассчитывать на общественные симпатии и натолкнуться на твое решение этой проблемы. Я признаю твое обвинение. И приведу в свою очередь обвинения против тебя. Не вел ли ты, случайно, беспечную, безнравственную жизнь на медведианских планетах? Не пользовался ли ты расположением множества девушек, называя их грубыми именами? Силена – взрослая женщина с телом ребенка, сознательно посвященная в план, результаты которого она никогда не увидит. Если бы я не верил в план и знал, каким образом все повернется, ты думаешь, я позволил бы ей участвовать в этом?
Иета сообщила мне, что когда Хоуск оскорблял марсиан, веривших в реальность реликвий из Старого Храма, ты в вспышке проницательности, сказал, что марсиане сознательно приняли эту благородную ложь, замечательный миф, который каждый человек на Марсе считает правдивым на символическом уровне. Ты сказал, что твои марсианские предки были готовы умереть за миллиарды миль от дома ради детей их детей. Сможешь ли ты высмеять того, кто делает то же самое, но другим путем? И как из–за этого нарушаются твои ограниченные двойственные марсианские нормы?
Я не мог ответить. Он помолчал, давая мне возможность заговорить, затем продолжил:
– Мы разговаривали о целях и идеалах, не так ли? О человеческой судьбе? Ты допускаешь, что каждое поколение выбирает собственные пути и готово к тому, что следующее поколение исправит их. Хорошо, то же самое можно сказать и об этике, которая отражает идею. Я не хочу этого делать. Я хотел бы быть достаточно примитивным, чтобы принять какое–нибудь догматическое откровение и молчать. Мы рисуем график прогресса в координатах количества звездных кораблей и числа психических больных и притворяемся, что мы не ограничены циклом, который повторяется и повторяется и тащит нас, беспомощных, вверх и вниз вечно. В самом худшем случае этой разновидности лабиринта мы можем иметь путь наружу и, конечно, тропинку, которую мы все еще не пересекли. Если нет более важной причины, чем эта, – хорошо. Изменение декораций спасает нас от скуки. Я считаю лучшим второй путь. И когда мы придем к точке, в которой мы не сможем обнаружить новых перекрестков, новых возможностей изучения, тогда что мы будем еще делать, если не создавать разновидности разумных существ, которые будут способны двигаться дальше?
После длинной паузы я сказал:
– Да, может быть. О, я думаю, вы правы. Но между тем, я имею свою жизнь и не знаю, что делать с ней сейчас, когда моя карьера закончена и я не могу вернуться в космос. Какой из путей я должен выбрать, по–вашему?
Тодер поколебался и наконец сказал:
– Я упомянул об Иете, которая является одной из замечательных личностей в моей семье. И я расскажу тебе, что она ответила. Она сказала: "Возвратиться в космос? Ты думаешь, он захочет этого? Сейчас он знает все факты, не думаешь же ты, что он не захочет приложить руки к формированию личности ребенка, который, вероятно, станет человеком, способным изменить историю?" Я не буду жить вечно, Рэй. И как очень способный мой ученик, я предполагаю, ты сможешь передать мальчику многое из того, чему я тебя учил. Я не знаю никого, кто бы мог применить мои правила более успешно, чем ты, и это правда…
Он встал, улыбнувшись.
– Обдумай мои слова, – сказал он, – и когда сделаешь свой выбор, скажи об этом Иете. Она, кажется, хочет видеть свою идею подтвержденной.
Так я и сделал.
И она была рада этому.
Заглянуть вперед
1
Это сон. Это должен быть сон. Должен! Макс Хэрроу еле слышно застонал, снова и снова повторяя про себя эту фразу. Он знал: стоит ему убедить себя, что он спит, – и кошмар отпустит его, позволит проснуться. Так было всегда.
Но сейчас вырваться не удавалось. Словно две неведомые силы вцепились в него с разных сторон и, как бешеные кони, тянули каждая к себе. Сознание его раздвоилось: одна половина прекрасно помнила, как он ложился спать, как засыпал, а другая, сейчас более сильная, находилась где–то далеко от привычного ему мира.
Это место… Какие–то люди, человек двадцать, наверное, он их не видел, скорее, чувствовал рядом, в угрюмой полутьме. И ощущение промозглой сырости, и спертый воздух, настоянный запахами давно немытых тел и чадом костра. И костер, дым от которого стелился по земле. И дрожащее пламя факелов, рассеивающих тусклый желтый свет. Люди кутались в лохмотья рваных шкур, грязные, голодные, отчаявшиеся. Они находились в каком–то строении, наскоро слепленном из обломков полуразрушенного здания: на остатки кирпичных стен были брошены не очищенные от коры бревна, лампы изредка освещали их, и тогда видно было, как закоптились их белые торцы. И чувствовалось, что там, снаружи, был снег и мороз, и ветер, резкий и острый, как бритва.
Люди зябко жались друг к другу. Один из них, тощий, как скелет, в одежде, которая лоснилась от грязи, стоял на коленях в центре. Где–то рядом плакал голодный ребенок, потом замолчал – не было больше сил. Стоявший на коленях не замечал ничего. Он вытянул руки перед собой, бережно держа в сомкнутых ладонях какой–то небольшой предмет. Макс Хэрроу отчетливо видел его, и профессиональная память тотчас же подсказала ему, что это такое: кость человеческого пальца.
Вдруг оказалось, что лицо стоящего на коленях нависает над ним, совсем близко, сверкающий взгляд пронизывает его насквозь, и он услышал приказ: почувствуй нашу боль, страдай, как страдаем мы…
Снова закричал голодный ребенок, и его крик перешел в пронзительный визг, и кто–то стал трясти Макса Хэрроу и говорить что–то сердитым голосом. Он хотел ускользнуть, уйти в беспамятство, – и проснулся, дрожа всем телом, мокрый от пота.
– Макс! Макс, проснись!
О, господи. Обыкновенный голос в обыкновенном мире. Облегчение было ошеломляющим. Он обхватил руками уютную теплоту склонившегося над ним тела и пробормотал имя жены.
– Диана, я опять бредил… Как хорошо, что ты меня разбудила!
Он хотел притянуть ее к себе, но она отстранилась и продолжала настойчиво тормошить его.
– Макс, там кто–то пришел!
– Что? – Ничего не соображая, отупевший спросонья, он уронил руки на подушку, открыл глаза – и снова стал воспринимать окружающее. Горел ночник, мягкая желтизна струилась сквозь абажур, по стеклу барабанил ледяными пальцами дождь. Пронзительный звук раздался снова, теперь он звучал подольше, и он понял, что это звонок в передней.
Так вот почему изменился во сне детский плач, и ощущение, что ему что–то приказывают, возникло у него, наверное, когда Диана стала будить его, а шум ветра и дождя… создали впечатление жестокой стужи. Он убеждал себя, тщательно подбирая слова.
Но слова эти не могли объяснить пугающую реальность кошмара, ясность и отчетливость всех его деталей.
– Макс! – Лицо Дианы под взлохмаченными от сна каштановыми волосами осунулось от усталости, вокруг больших карих глаз обозначились темные круги. Он вдруг впомнил, откуда эта тревога и усталость в глазах жены, и сон окончательно оставил его. Макс сел и нащупал ногами тапочки.
– И кого это черт принес? – сказал он, щурясь от света. – Который час?
– Половина второго.
– Черт бы их побрал!
Он встал, запахнул халат, и, поеживаясь, стал спускаться по лестнице.
Сначала он ничего не мог разглядеть за дверью: было очень темно, и целые потоки воды обрушивались с деревьев. Потом в кромешной тьме стали вырисовываться очертания человека, и Макс понял, что перед ним полицейский в блестящей от дождя накидке.
– Извините за беспокойство, сэр, – сказал тот виноватым голосом. – Но вы ведь доктор, да?
Макс выругался про себя. Он не занимался частной практикой и на двери его дома не было никакой надписи, которая указала бы констеблю на профессию хозяина.
– Да. В чем дело? – коротко сказал он.
– Несколько минут назад я услышал подозрительный шум и зашел проверить, что случилось. Какой–то человек потерял сознание возле вашей машины.
Ну да, машина. На ветровом стекле была табличка с надписью «Доктор», избавлявшая его от хлопот на стоянке у клиники. Макс вздохнул.
– Судя по всему, бродяга, – продолжал полицейский. – Кажется, он серьезно болен.
Бродяга… Макс хмыкнул и отступил от двери.
– Подождите, сейчас возьму плащ и надену что–нибудь на ноги, – сказал он. – Занесем его в дом и вызовем неотложную.
– Благодарю вас, сэр. Но у него просто обморок – вряд ли он повредил что–нибудь. Если позволите, я, наверное, внесу его сам. А вы только неотложную вызовите, и все.
– Ну… – замялся Макс. Он провел рукой по лицу. – Если вы думаете, что справитесь…
– Конечно, благодарю вас, сэр. Там нести нечего – кожа да кости.
– Ну, хорошо.
Констэбль направился к открытому гаражу, расположенному возле дома, а Макс вернулся в прихожую и снял трубку. Он набрал 999 и, дождавшись ответа, попросил неотложную по своему адресу.
Он уже положил трубку, когда на лестнице показалась Диана. Придерживая халат одной рукой, она перегнулась через перила и спросила встревоженным голосом:
– Что там, Макс?
– Полисмен. – Он отбросил упавшие на глаза волосы. – Какой–то бродяга упал в обморок возле нашего гаража. Ты иди спать, дорогая. Я уже вызвал неотложную, мы сейчас только занесем его в дом до их приезда.
Она застегнула халат и начала спускаться по лестнице.
– Не пойду спать, – сказала она устало. – Все равно не усну. Меня очень беспокоят эти твои кошмары. Макс, неужели нельзя как–нибудь избавиться от них?
– Я… подумаю. Подумаю.
Он произнес эти пустые, ничего не значащие слова, и у него сделалось сухо во рту.
– Пожалуйста, Макс. Пожалуйста, сделай что–нибудь, а то ты только обещаешь.
Она спустилась по лестнице, взяла его старый плащ, который он бросил на перила, и отнесла на диван.
– Положим на него бродягу, – добавила она, расправляя плащ.
– Вот он, сэр.
Макс вздрогнул, услышав голос полицейского, и резко повернулся. Тот стоял на пороге, перекинув бродягу, как пожарник, через плечо.
– Давайте его сюда, констэбль, – сказал Макс. – Я уже вызвал неотложную.
Он посторонился, пропуская полисмена в гостиную.
Как только бродягу положили на диван, Макс быстро осмотрел его. Констэбль не преувеличивал. Действительно, только кожа да кости. Не часто приходилось Максу видеть людей в столь изможденном состоянии. Руки и ноги бродяги были не толще черенка трубки, кожа на руках посинела от холода. И не удивительно: весь его наряд составляли ветхий замусоленный дождевик да потрескавшиеся резиновые сапоги.
Странно. Макс всегда думал, что бродяги, остерегаясь выбрасывать одежду, носят любую вещь до тех пор, пока она не превратится в лохмотья, и поэтому всегда закутаны целыми слоями тряпья. Он нахмурился.
Санная Диана сидела в кресле напротив, безучастно глядя прямо перед собой, констэбль расхаживал около дивана. Макс еще раз проверил свои наблюдения.
– Что с ним, сэр? – спросил, наконец, полисмен. – Истощение, да?
– Пока трудно сказать.
Макс осторожно ощупал вздувшийся тыквой живот бродяги, заглянул в рот, отметив жалкое состояние зубов. На деснах и в провалах на месте выпавших зубов сохранились остатки пищи, некоторые из них явно свежие, но в основном, уже тронутые разложением. Изо рта шел тошнотворный запах. Кожа слегка отдавала желтизной; впрочем, он был так грязен, что судить о ее природном цвете было невозможно. Щеки и подбородок покрывала жесткая борода, длинные волосы слиплись от грязи, череп был усеян проплешинами.
Макс набрал в грудь воздуху побольше. Его руки дрожали (не каждый день в жизни выпадает такой случай – один из миллиона), когда он большими пальцами приподнял веки бродяги и посмотрел на неподвижные белки. Их покрывал отвратительный гнойно–зеленый налет.
– Не может быть… – вырвалось у него.
– Что не может быть? – унылым голосом переспросила Диана.
Макс вовремя сдержался. Лучше не упоминать, что из всех известных болезней бродяга страдает именно этой.
– Э-э… да так, ничего, дорогая. Кажется, у него очень редкое заболевание. Хотя, пока трудно сказать.
За дверью послышался звук подъехавшего автомобиля. Диана вскочила.
– Это, наверное, неотложная. Я им открою.
В эту ночь Макса ожидал еще один сюрприз, более приятный: когда санитары с носилками вошли в дом, он узнал их – они были из его клиники. Коротко поздоровавшись с Максом, они стали укладывать бродягу на носилки.
Решившись, Макс подошел к бюро.
– Джонс, кто дежурит сегодня? – спросил он у санитара, который стоял к нему поближе.
– Доктор Фолкнер, сэр, – ответил тот через плечо.
Отлично. Макс снял колпачок авторучки, достал лист своей личной бумаги для записок и написал:
«Дорогой Гордон, ты, наверное, подумаешь, что на меня слишком сильно подействовала смерть Джимми, но мне кажется, что у этого бродяги, который свалился на меня среди ночи неизвестно откуда, то же заболевание. Взгляни хотя бы на его белки. Если так, это просто невероятно! Я всегда считал, что у взрослых гетерохилия невозможна, а этому человеку лет тридцать – сорок…»
Он услышал, как Джонс сказал у него за спиной:
– Что это там у него в руке?
– Не знаю, – ответил его напарник. – Только он вцепился в эту штуку изо всех сил… ага, вот оно.
Макс оглянулся. Санитар, с усилием разомкнув крепко сжатый кулак бродяги, с торжествующим видом продемонстрировал свою находку. У Макса похолодело в груди, комната поплыла перед глазами.
Ошибиться было невозможно. Санитар держал в руке кость человеческого пальца.
2
Макс до утра так и не сомкнул глаз. Отчасти он сам гнал от себя сон, боясь возвращения в тот кошмарный мир, где побывал, и не только сегодня, а уже много раз за последние несколько недель.
Собственно, с тех пор, как умер Джимми.
И эта смерть была еще одной причиной, по которой он не мог уснуть снова. Он сидел в постели, курил, глядя во тьму перед собой, слушал, как стучится дождь в оконное стекло, как спокойно дышит Диана, как бешено колотится его сердце.
Чем больше он думал о болезни бродяги, тем невероятнее казалось ему то, что произошло. Это же абсурд, не может человек дожить до тридцати – сорока лет, страдая той же болезнью, которая поразила Джимми еще до рождения.
Крохотное, безжизненное тельце сына, как призрак, стояло у него перед глазами; казалось, он видит его в темноте, видит упрек, застывший в широко открытых глазах, и этот ужасный налет, похожий на фосфорное мерцание гниющей рыбы, зеленоватой пленкой затянувший белки.
Он вовремя сдавил в горле готовый вырваться стон. Диана слишком болезненно переживала потерю Джимми, и ему не хотелось объяснять ей, почему он не спит.
Природу болезни, убившей Джимми, удалось разгадать только недавно. Для этого пришлось выработать более четкое представление об обмене веществ в человеческом организме и точно выяснить взаимодействие бесчисленного количества химических компонентов, от которых он зависит. В результате какой–то абсурдной, парадоксальной патологии печени, почек или других жизненно важных органов, возникало нарушение химического процесса пищеварения: любая доброкачественная пища превращалась в яд.
Ребенок мог отравиться материнским молоком, безобидной зеленью вроде шпината, каким–нибудь витамином или одним из тех обычных веществ, в которые превращается пища под воздействием желудочного сока. Далее следовала дебильность, паралич, или простая, милосердная смерть.
Некоторым из этих болезней дали название еще до того, как был разгадан их механизм; недоумевающие врачи наскоро придумывали какой–нибудь описательный термин и дальше только разводили руками. Другие болезни получили более точные названия, так как медицина приближалась к разгадке порождавших их причин, и в таких названиях как, например, фенилкетонурия, уже была попытка объяснить их сущность.
Болезнь, убившую Джимми, открыли совсем недавно. Макс знал человека, давшего ей название, более того – сам учился у него. Тот назвал болезнь гетерохилией, потому что яд, который придавал коже желтоватый оттенок, обесцвечивал белки глаз и, в конце концов, разрушал нервную систему, в результате чего и наступала смерть; этот яд был обнаружен в хилусе – жидкости, транспортирующей усваиваемые организмом жиры из тонких кишок в кровь. У Джимми при вскрытии оказался характерный хилус: густой, обесцвеченный, с тошнотворным запахом. В его составе появилось нечто, делавшее хилус биологически непригодным.
Приближались уже и к разгадке возникновения этих болезней. Их относили к заболеваниям, которые, согласно статистике, были наиболее вероятным результатом радиоактивного воздействия на ген. Тонкая структура, несущая в себе информацию нормального обмена веществ, разрушается даже от самого слабого раздражения.
В поисках противоядия ученые терпеливо, один к одному, накапливали факты. Некоторые дети росли здоровыми и веселыми при условии, что им не позволяли употреблять в пищу молоко или молочные продукты. Другие были обречены на вечное воздержание от тех или иных овощей или фруктов, и даже сахара. Постоянная осторожность в выборе меню давала им шанс выжить.
У больного гетерохилией в процессе пищеварения как бы протухал один из самых обычных жиров, превращаясь в нечто, с чем человеческий организм справиться не умел. Когда Макс объяснил действие этого вещества Диане, он сравнил его с жидким каучуком, попавшим внутрь сложного механизма. Машина стала бы работать все медленнее и медленнее, пока не заглохла совсем. Пример не самый удачный, но, в общем, он давал представление о гетерохилии.
Джимми умер раньше, чем удалось установить, какой именно жир ему противопоказан. Он мог бы выжить на диете, исключающей все жиры; входящие в состав масла, молока, мяса или орехов – абсолютно все жиры. Но мозг его был бы поражен, вероятно, в любом случае. Лучше уж так, как случилось.
Но какое невероятное совпадение: почему бродяга, явившийся среди ночи неизвестно откуда, попадает к единственному, наверное, в Лондоне врачу, если не считать других специалистов, связанных с исследованием гетерохилии, который может распознать его заболевание и предупредить больничный персонал, чтобы они не убили его своей добротой… У Макса голова шла кругом.
И потом – эта кость пальца.
Он пошарил на тумбочке, нащупал жуткую находку. Потом вертел ее в руках и думал, думал.
Бродяга недавно ел, пища была обильной, и в ней содержались жиры, смертельные для него. Но ведь он дожил до такого возраста, значит, кто–то научил его избегать жиров? Откуда он пришел? Из какого–нибудь института? Но даже это предположение мало что объясняло. Гетерохилия была открыта совсем недавно, и смешно думать, чтобы даже в какой–нибудь клинике могли обеспечить ему диету, исключавшую абсолютно все жиры.
Эта кость… Верхняя фаланга среднего пальца, слегка изогнутая, как у самого Макса. Это ничего не значит. Совершенно прямые пальцы встречаются редко. И все–таки мысль об этом сходстве только увеличила смятение и без того взбудораженного мозга, жутко пронеслась в сознании, и ему показалось, что он начинает сходить с ума.
В своем кошмарном сне он мог бы объяснить многое: и плач ребенка, и ощущение, что с ним разговаривали и приказывали страдать. Но кость, которую он сейчас держал в руке, была так похожа на ту, которую Макс видел в ладонях стоявшего на коленях человека, что он физически ощутил охвативший его ужас.
Макс поднялся рано, и, решив не будить Диану, сам приготовил себе завтрак. Он оставил ей записку у кровати, так, чтобы она сразу ее заметила, и поехал по еще пустынным улицам, где лишь изредка проезжали одинокие автомобили. Приехал в клинику на час раньше обычного и пошел по коридорам, наполненным утренним звоном посуды, в поисках доктора Фолкнера, который дежурил сегодня в ночь.
Фолкнер заполнял журнал дежурства, прихлебывая чай из чашки. К счастью, он был один. Макс прикрыл за собой дверь и кивнул в ответ на удивленное приветствие.
– Из–за этого бродяги всю ночь не спал, – сказал он. – Решил приехать пораньше, узнать, что с ним.
Фолкнер отодвинул свой стул, снял очки в роговой оправе и начал их протирать. Он был на несколько лет старше Макса, светловолос, широк в кости.
– Твоя записка насторожила меня. Сначала я подумал, что ты хватил через край. Но когда осмотрел его, понял, что ты прав. Собственно, как он к тебе попал?
– Полисмен проходил мимо нашего дома и услышал подозрительный шум. Подошел проверить, в чем дело, и нашел этого бродягу. Я думаю, он где–то ближе к вечеру поел, и ему сделалось плохо.
– Так оно и есть, – кивнул Фолкнер. – Как только я заметил эту зелень в глазах и услышал запах изо рта, сразу же велел промыть ему желудок. Оказалось, что за четыре или пять часов до этого он солидно пообедал рыбой с чипсами. Жира, на котором они были поджарены, вполне хватило бы, чтобы отправить его на тот свет.
– Жить он будет?
– Пока. Проф должен быть сегодня к десяти. Подождем лучше, что скажет он. Кстати, мы вливаем бродяге глюкозу. И еще кое–что показалось мне странным. Похоже, что болезнь, если не считать крайнего истощения организма, никогда его особенно не беспокоила.
– Иначе он давно бы уже умер, или рассудок его был бы в таком состоянии, что он не мог бы даже бродяжничать. – Макс подавил охватившую его дрожь. – Что ты думаешь о нем, Гордон?
– Ничего не понимаю, – сказал Фолкнер. – Если бы не увидел его собственными глазами, ни за что не поверил, что такое возможно.
– Он разговаривал? Есть у тебя хоть какой–нибудь намек, откуда он?
– Нет. Неужели бродяга станет носить с собой документы? Хотя… – запнулся Фолкнер, – я не специалист по бродягам. Им, наверное, приходится носить с собой какие–то бумаги. Но на этом, кроме плаща и сапог, которые мы с него сняли, больше ничего не было. А что касается разговоров…
Он нахмурился и замолчал. Макс подался вперед.
– Ну? Говори!
– Да, в общем, делать выводы еще рано: он сейчас в шоковом состоянии и очень слаб. Но, когда мы промыли ему желудок и ввели немного глюкозы, он очнулся и сказал мне несколько слов. Я ничего не понял. Похоже, он говорил на иностранном языке. Когда придет проф, попробуем еще раз. А до тех пор, я думаю, его лучше не трогать. Или ты хочешь на него взглянуть?
Макс замялся. Потом сказал:
– Нет, я подожду профа.
– Как хочешь. – Фолкнер одним глотком допил свой чай. – О, я совсем забыл. Мы у него еще вот что нашли.
Он выдвинул один из ящиков стола, за которым сидел, и достал длинный конверт, надписанный неразборчивым почерком. Из конверта он вынул большой складной нож со сломанной рукояткой и надломенным кончиком, очень старый и весь покрытый ржавчиной.
– Он был у него в сапоге, – закончил Фолкнер.
Макс повертел нож в руках и отдал обратно, не найдя в нем ничего особенного. Он сказал:
– У него было еще э-э… вот это.
Он сунул руку в карман и достал кость.
– Что скажешь? – спросил он, отдавая ее Фолкнеру.
– Фаланга, – сказал Фолкнер. – Верхняя фаланга среднего пальца левой руки, я бы сказал. А, это та самая, которую он держал в кулаке? Джонс мне говорил.
Да.
– Гм–м–м-м. – Фолкнер рассматривал невероятную находку. – Ты знаешь, когда Джонс рассказал мне о ней, я решил, что это его собственная кость. Но у него обе руки целы. – Он подбросил кость на ладони и вернул ее Максу. – А, может, он отрубил ее где–нибудь в драке и хранит, как сувенир? На ноже следы крови, ты заметил?
– Правда? – Макс вздрогнул.
Он снова взял нож и присмотрелся к нему повнимательнее.
– Ну да, вот она, – сказал он.
Несмотря на то, что заржавленное лезвие, судя по всему, вытирали, у самой рукоятки присохла темная корка.
– Скорее всего, ерунда какая–нибудь, – пожал плечами Фолкнер. – Прирезал ворованного цыпленка, или еще что. Во всяком случае, хоть он и необычный бродяга, работы на сегодня и без него хватает.
Макс понял намек и встал.
– Пойду попрошу у сестры чашечку чаю, – сказал он. – Придет проф – вот пусть он обо всем и беспокоится.
И в глубине души ему до боли хотелось, чтобы он мог и в самом деле так легко отмахнуться от этой таинственной истории.
3
– Похоже, Макс, вы становитесь знаменитым! – прогудел профессор Ленш. Его голос удивительно не соответствовал кукольному личику и маленькой пухлой фигурке.
Отвернувшись от кровати, на которой с широко раскрытыми, как у перепуганного кролика, глазами лежал бродяга, он добавил: – Я рад только, что он не меня вытащил из постели среди ночи.
– Что вы имеете в виду, проф? – сказал Макс.
Кивком головы Ленш приказал сиделке привести в порядок постель и снова закрыть ее ширмой, и направился к выходу из палаты. Макс догнал его и пошел рядом.
– Только то, что я сказал! – продолжал Ленш уже тише. – У него в желудке обнаружили рыбу с чипсами. Если бы ему позволили ее переварить, жир убил бы его. Но вряд ли из тысячи участковых врачей хотя бы один сумел поставить ему правильный диагноз. Похоже, он шел прямо к вам, а? Хе–хе!
– Это не смешно, – сказал Макс.
Ленш тут же пожалел о сказанном. Он дотронулся до руки Макса.
– Извините, Макс. Я все забываю, что это случилось именно с вашим мальчиком.
Макс пожал плечами. Из–за ширмы, закрывающей кровать бродяги, вышла сиделка, и Ленш повернулся к ней.
– Няня! Он хоть что–нибудь говорил сегодня с тех пор, как проснулся?
Сиделка покачала головой.
– Ничего. Только во сне, где–то в половине девятого, незадолго до того, как проснулся, пробормотал несколько слов. Но даже и теперь, когда он не спит, в нем явно есть что–то странное.
– Да?
– Он, должно быть, иностранец. У нас иногда лежат киприоты, чаще всего женщины, которые ни слова не понимают по–английски. Он похож на них: ничего не понимает, что ему ни говори. Все прекрасно слышит, но для него это просто шум и больше ничего.
– М-да. – Ленш пожевал розовыми губками. – Возможно, это последствия гетерохилии, а, может, и нет. Благодарю вас, няня. Держите доктора Хэрроу в курсе, обо всех изменениях в состоянии больного докладывайте ему. А сейчас, Макс, мне нужно с вами кое–что обсудить.
Он снова взял Макса под руку и быстро провел его через всю палату в помещение дежурной сестры. Закрыв за собой дверь, он резко повернулся к своему спутнику.
– Макс, что вы обнаружили? Этого чловека просто не может быть! Кто, кто помог ему выжить? Стакан молока, кусок хлеба с маслом, ломтик бекона – при таком заболевании он бы и до двух лет не дожил!








