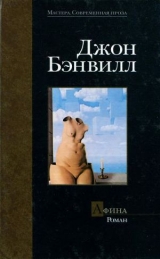
Текст книги "Афина"
Автор книги: Джон Бэнвилл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
– Как поживаете? – спросил он; это было не приветствие, а именно вопрос. Я ответил, что поживаю очень хорошо. Рука его была мягкой, влажной и прохладной; он не торопясь, торжественно пожал мою, не переставая при этом меня разглядывать. – Папаня – это я, – сказал он. – Вы меня не знаете? А я вас знаю. Садитесь в машину, потолкуем.
Старые пружины подо мной взвыли, и я провалился так низко, что колени оказались чуть не выше плеч. В автомобиле сильно пахло нафталином, от его пальто, надо полагать. Солнечный свет за стеклами колол и резал глаза. Лупоглазый парень протиснулся за баранку и включил зажигание; но мы не сдвинулись с места. Я был по-детски разочарован, так хотелось с ветерком прокатиться в этой сумасшедшей старой колымаге. Лупоглазый повернул какую-то ручку, и заработал вентилятор, дунув нам в лицо горячим металлическим воздухом.
– Я очень страдаю от холода, – сказал Папаня. – Мне нужно, чтобы всегда было включено отопление, и то пальцы обмораживаю. Хреновое дело.
С этого началась наша беседа. Мы поговорили о здешнем климате и о том, как сладить с его неприятными свойствами, и откуда у Папани этот большой автомобиль, и насколько участились последнее время случаи самовозгорания среди пожилых жительниц города, и о характере Мордена («Как по-вашему, на него можно положиться?»), и о глупости полицейских (притом что Папаня – всем известный преступник, как он сам признал со скромной гордостью, им за столько лет удалось упечь его в кутузку всего один раз, в школьные годы, да и то только на шесть месяцев, за воровство в магазине), и о разных занятиях, которые помогают скоротать время в заключении, и о состоянии рынка картин, и о природе Искусства. Все это я нашел забавным и небезынтересным. Первоначально, рассказал он мне, он работал мясником, но уже очень давно не практиковался, поскольку теперь пошел по совсем другой линии. Я кивал – ну конечно, понятное дело; разговор двух бывалых мужчин. Не сомневаюсь, что он еще много о чем мне рассказывал, но я все сразу же забыл. Горячий ветер в лицо из обогревателя и слепящее солнце в ветровом стекле создавали обманное чувство движения вперед, как будто мы плавно катим по бульварам некоей шумной мировой столицы. По прошествии времени Папаня рискнул расстегнуть пальто, и я увидел, что он одет патером: в сутане до пят и при подобающем грязно-белом воротнике.
Он попросил, чтобы я рассказал ему об искусстве. Сказал, что только недавно занялся этим бизнесом – Лупоглазый на переднем сиденье хмыкнул – и нуждается в советах эксперта.
– Вот, например, эта, «Рождение… этой самой… как ее», что в ней такого, особо ценного?
– Редкость, – не раздумывая, тут же ответил я твердо и убежденно. Но лицо у меня почему-то одеревенело и руки никак не скрещивались на груди.
– Редкость, а? – переспросил он и повторил это слово еще и еще на разные лады, кивая и выпятив жирную нижнюю губу. – Выходит, и тут все как везде?
– Да, – уверенно подтвердил я. – Совершенно как везде, спрос и предложение, состояние рынка, и тому подобное. Полотен Воблена в мире совсем немного.
– Вот оно как? – покачал головой Папаня.
– Да, именно так. Всего штук двадцать в общей сложности, и редко какое из них по качеству не уступает «Рождению этой самой, как ее».
Тут мне вдруг представилось крупное мрачное лицо Мордена, и сквозь туман блеснуло далекое отрезвление. По спине пробежал холодок, словно порыв ветра по гладкой поверхности воды, а там, внизу, ходили темные рыбообразные тени, тыкаясь носами. Папаня молчал и о чем-то думал, свесив подбородок на грудь, только пальцы его суетились и толкались у него в коленях, точно выводок поросят. Наконец он очнулся и слегка приобнял меня за плечи. «Хороший человек, – похвалил он меня, как будто я оказал ему большую услугу. – Хороший человек». И вытолкал меня, впрочем, не грубо, вон из машины. Я оказался на мостовой, а он, перегнувшись через сиденье, двумя пальцами весело осенил меня крестным знамением и рассмеялся квакающим смехом. «Да пребудет Бог с тобою, сын мой», – произнес он.
Я остался стоять, чуть накренясь, и смотрел, как большой розовый автомобиль свернул на Ормонд-стрит, выпустил из-под хвоста большой выхлоп и с ревом унесся. Возможно, что я даже помахал им вслед, слегка.
Тут я пришел к выводу, что необходимо еще выпить, и пошел к «Лодочнику». В конце концов, потыкавшись туда-сюда, я его отыскал. Внутри, после солнечных улиц, мне показалось очень темно и мрачно. Какой у нас месяц на дворе? По-прежнему октябрь? Буфетчик за стойкой, облокотившись, читал газету и одновременно ковырял в зубах спичкой. Я поразмыслил над тем, что лучше всего ляжет на остатки огненной воды Голла, и выбрал водку, напиток, который я не люблю. Влив в себя три или четыре порции, я оттуда ушел.
Дальше следует период неясности и отдаленного гула. Я топал по улице как будто на деревянных протезах от самого бедра, в жилах у меня пузырилось, и в глазах через равные промежутки неприятно мерцало. Помню, на одном углу я остановился поговорить с каким-то человеком в кепке – кто это был, понятия не имею, – но толку от него не добился и, сердито ворча, побрел дальше. Высоко в небе клочок нежной, пронзительной и страстной синевы, вставленный между двумя узкими зданиями-башнями, как чисто протертое синее стекло, говорил о чем-то значительном и глубоком. Я опять увидел тропу через зимний лес, картину из моего детства, и уже готов был заплакать, но отвлекся. Потом купил себе рожок мороженого и, жадно сглотнув содержимое, забросил размякший вафельный конус в мусорный ящик за десять метров и так точно попал, что не удивился бы аплодисментам всей улицы. После этого встретил Франси и Голла, они ковыляли по-стариковски, и Принц озабоченно следовал за ними по пятам. Шкура у него электрически отсвечивала, чуть ли не искрила. Франси вцепился в лацканы моего пиджака и что-то такое твердил, но я не понял. Подбородок его странно дергался, словно у него полон рот камней. Не знаю, что я ему ответил, но должно быть, что-то убедительное, так как он принялся причитать и трясти меня за грудки с удвоенной силой. Наконец Голл, ухнув, с размаху шлепнул его по спине, отчего Франси страшно раскашлялся, и они ушли. Принц еще немного задержался, выжидательно глядя на меня, наверно, ища во мне разгадку дикого поведения хозяина, но потом все-таки потрусил за ним. В один прекрасный день эта собака кого-нибудь укусит, вот посмотрите.
Когда я пришел домой (насчет дома я еще скажу несколько слов позже), в прихожей звонил телефон и, судя по настойчивой интонации, звонил уже давно. Я осторожно поднес трубку к уху. Телефон всегда внушает мне опасение: в его звонках слышится алчность и легкая истерия. На том конце провода уже вовсю говорили. Я подумал, что это миссис Хаддон. Во лбу у меня стучало, и я прислонил лицо к стене, чтобы немного прохладиться. Этот дом. Меня хотят убить. Мне необходимо. Ты должен.Нет, не миссис Хаддон. Кто-то другой. Меня охватила тревога: я вдруг узнал тетю Корки. Голос ее гудел и дребезжал, будто со дна металлической бочки. Я попросил ее успокоиться, но она только еще сильнее разволновалась.
С грехом пополам мне удалось поймать такси, большой старый драндулет, он передвигался вперевалку, скользя из стороны в сторону, словно ехал юзом по петляющей замерзшей реке. Я сел посередине заднего сиденья, растопырив руки и упираясь ладонями в пластиковое покрытие. Справа и слева за стеклами вставали и заваливались здания, появлялись какие-то незнакомые любопытные люди, заглядывали внутрь и отлетали назад, как тряпичные куклы. Таксист был широкоплечий дядя в задвинутой на плоский затылок шляпе; он здорово походил на одного малоизвестного комического актера времен моей юности, но я не мог вспомнить, как его фамилия. За баранкой этот сидел, согнувшись в три погибели, чуть не касаясь носом лобового стекла. Он держался очень враждебно, и я в смятении подумал, что, может быть, усаживаясь, я сказал ему что-то оскорбительное, а теперь забыл. Мы плавными зигзагами выехали на приморское шоссе. Солнце спряталось за прядями перистых облаков, над морем стояло мягкое, фантастическое сияние. Действие алкоголя понемногу проходило, в мое затуманенное сознание начал просачиваться разъедающий страх. Мысль робко вытягивала щупальца, и они, выбивая искру, прикасались к разным точкам: инспектор Хэккет, Папаня, его накаченный охранник, – и при каждом контакте я испытывал острый укол испуга.
Мы со скрежетом въехали наверх и, поскальзываясь, остановились у ворот «Кипарисов». Я вылез, представился в микрофон и услышал, как щелкнул, отпираясь, замок. Как здесь высоко, у самого неба. Чайка, зависшая над головой, издала хриплый, кашляющий крик, неприятно напомнивший мне гортанный смех Папани. У подъезда я попросил водителя подождать, но он стал отказываться и едва поддался на уговоры. Он остался, нахохлившись, сидеть за баранкой, с подозрением поглядывая на меня, пока я стучался у стеклянных дверей. На меня словно дунуло горячей золой – резь в глазах и вкус ржавчины во рту. Хаддоны ждали меня, стоя бок о бок в холле, он сутулый и настороженно смирный, она похожая на кролика и безжалостно трущая себе запястье. Я поневоле залюбовался ее стройными ножками.
– Мистер Морроу, – приветствовала она меня. Иногда я раскаиваюсь, что выбрал себе такую фамилию.
– Да, да, – оборвал я ее, величественно подняв руку. – Я приехал забрать мою тетю.
Это было неожиданностью не только для них, но и для меня самого. С разгона я остановился и покачнулся. Хаддоны переглянулись, миссис Хаддон встряхнула головой.
– Ну и что, – сказала она. – Вам нет нужды разговаривать с нами в таком тоне.
«В каком это таком тоне?» – возможно, заорал я. Мы все трое помолчали минуту, не зная, куда податься, потом втроем разом повернулись и зашагали в комнату тети Корки. У самой лестницы, однако, мистер Хаддон ловко увильнул в сторону. Супруга на его исчезновение никак не реагировала. Она поднималась по ступеням впереди меня, беззвучно ударяя по ковровой дорожке мягкими подошвами. Эти ее стройные ножки…
Тетю Корки я застал за консультацией со священником. Отцом Фаннингом оказался молодой человек с усталым взглядом, худощавый, длинный и слегка сгорбленный; у него на голове торчал преждевременно поседевший кок, который придавал ему сходство с вспугнутой, растрепанной птицей. Он носил круглый воротник священнослужителя и зеленый пиджачный костюм, а на ногах сандалии и носки цвета хаки. На меня он устремил проницательный взор и горячо пожал мне руку. «Ваша тетя мне о вас рассказывала», – сказал он с некоторым намеком. Тетя Корки всплеснула руками. «О, он ко мне так хорошо относится, отец! – воскликнула она. – Чудесно относится!» Отец Фаннинг сложил под подбородком ладони домиком, улыбнулся, кивнул, мигнул – совсем как актер, изображающий священника. Моя тетка, завернутая в шелковый халат с замысловатыми пламенными узорами спереди и сзади, сидела на краю кровати, а священник стоял против нее; вместе они изображали трогательную картину «Мать и сын». Тетя Корки была босиком, а вид ногтей на старушечьих ногах невыносим. Захлестнутый волнами отвращения, я мысленно бился, то всплывая, то погружаясь на дно. Но все-таки с тетей поздоровался ровным, укоризненным голосом, а миссис Хаддон, словно только того и ждала, выскочила у меня из-за спины и крикнула: «Мистер Морроу приехал забрать вас!» И все выжидательно смолкли. Я с ужасом осознал, что у меня уже нет выхода из положения, в которое я сам же себя загнал. Разыгралась головная боль – молоток бил по затылку, раз за разом медленно, но упорно пригибая меня к полу. Я деловито спросил тетю Корки, готова ли она к поездке? Она подняла на меня растерянный, даже слегка панический взгляд. Но и тут подвернулась миссис Хаддон: «Готова, готова, и вещи уложены». – Она подскочила к шкафу, жестом фокусника распахнула дверцу и представила взорам пустые вешалки и на нижней полке – набитый и застегнутый саквояж. – Только засунуть ее в платье, и она ваша!»
Призвали сиделку Шарон, а нас с отцом Фаннингом выставили на лестницу, и мы остались ждать в церковных отсветах от разноцветного окна. Мне было неловко, досадно и жаль себя; хотелось ударить кого-нибудь. Я стал приглядываться на этот счет к отцу Фаннингу, но он, по-видимому, принял хищный блеск в моих глазах за сияние самодовольства, потому что еще раз кивнул, опустил веки и проговорил: «Да, да, это добрый поступок, достойный поступок». Я смотрел себе под ноги. Священник прибавил благоговейным полушепотом: «Вы хороший человек». Это было уже слишком. Я стал отнекиваться, оскалив зубы и испустив львиный рык. Но он ласково и твердо тряхнул мой локоть и повторил, умудренно улыбаясь: «Да, да, это так. Хороший человек». Потом воздел вверх указательный палец, я уж было подумал, что сейчас он приложит его к носу в знак насмешки; но он указал выше, и в его улыбке появилось что-то маниакальное. «Судить не нам, а Тому, Кто над нами», – была его заключительная реплика. «Вот как? – отозвался я. – В таком случае да поможет мне Бог». Он озадаченно вытаращил глаза, отважно держа улыбку.
Тут дверь открылась, и на площадку нетвердой царственной поступью вышла тетя Корки, под обе руки ее поддерживали Шарон и миссис Хаддон. На ней была толстая меховая шуба в проплешинах и кокетливо сдвинутая набекрень шляпка с черной жесткой вуалью (настоящей вуалью, ее я не присочинил). В этой шубе она сильно и почему-то неприятно напоминала моего ободранного любимого мишку из далекого детства. Она взглянула на отца Фаннинга, потом на меня. Губы у нее дрожали, словно она опасалась, что мы над ней смеемся. Медленно, как похоронная процессия, мы спустились по лестнице, впереди дамы, за ними священник и позади всех я, мы с отцом Фаннингом – понурив головы и сцепив руки за спиной. В холле столпилось несколько рассеянно суетливых старушек, пожелавших проститься с тетей Корки. Я разглядел среди них мисс Лич в шелку и шарфах, но на этот раз я как будто бы не показался ей знакомым. Старушки возбужденно шептались, им, наверно, непривычно было видеть, как кто-то из их числа покидает это узилище, и не только в уме, но даже в вертикальном положении. На крыльце тетя задержалась и удивленно и недоверчиво обвела взглядом газон, и деревья, и вид на море, словно подозревая, что все это только нарисовано на холсте для ее спокойствия. Таксист неожиданно проявил внимание, даже вылез из машины и помог мне устроить старушку на пассажирском сиденье; может быть, ему она тоже напомнила кого-то истрепанного и дорогого из прошлой жизни. Она сняла шляпу с вуалью, прочла надпись «Не курить» на приборном щитке и принюхалась. Тут появился мистер Хаддон с теткиным саквояжем, и водителю пришлось снова выйти, чтобы затолкать его в багажник. Мы тронулись под канонаду дребезга и выхлопов, и мистер Хаддон медленно отступил, точно выбил колодки и спустил на воду большой корабль. На крыльце вяло махали руками древние менады, а миссис Хаддон стояла в стороне, и вид у нее был обиженный и злой. Выбежала сестра Шарон, стала стучать в окно, говорить что-то, но тетя Корки не знала, как опустить стекло, а шоферу девушка была не видна, поэтому мы уехали, а она, растерянная, осталась стоять одна, кусая губы и улыбаясь, и позади над ней нависал большой, несуразный, весело раскрашенный дом. «Не оглядывайся!» – сердито приказала мне тетя дрожащим голосом и втянула голову в меховой воротник. Боже милосердный, – думал я, ломая руки. – Что я наделал!
Удивительно, как знакомое в один миг может стать незнакомым. Мой дом, как я его называл, с первого же взгляда на тетю Корки нахмурился, надулся и так до сих пор еще и не пришел в себя. Я чувствовал себя гулякой-мужем, вернувшимся после ночи на окрестных крышах под ручку со своей цыпочкой. Я живу на четвертом этаже в узком старом обшарпанном доме на улице, вдоль которой растут в два ряда деревья и горланят неутомимые воробьи, на одном ее конце стоит церковь, а на другом – светло-желтый таинственно немой монастырь. Квартира мне досталась по наследству от другой, настоящей, тетки, которая однажды летним воскресным вечером тихо скончалась здесь, сидя одиноко у раскрытого окна. Тебе, я надеюсь, небезынтересны эти подробности. В квартире две большие неуютные комнаты, одна окнами на улицу, а другая – на узкий, злокачественно заросший задний двор. Имеется кухонька в отгороженном углу и ванная комната на один лестничный марш вниз. Мне бы надо было тебя сюда привести, привести хотя бы один раз, чтобы ты все посмотрела и оставила свои отпечатки пальцев. Другие жильцы… нет, ну их, других жильцов. На лестнице стоит замерший коричневый торшер, и повсюду сладко пахнет застоявшимся воздухом. Дом у нас тихий. Днем, несмотря на доносящиеся шумы уличного движения, можно, если прислушаешься, расслышать слабое, сухое стрекотание пишущих машинок в соседних учреждениях. Впрочем, теперь эти симпатичные машинки, всегда приводившие мне на ум автомобили на тележных колесах и музыкальное сопровождение фильмов в кинотеатре, все больше заменяются компьютерами, чьи клавиши постукивают, как зубы во вставных челюстях. Я люблю здесь, вернее любил (твой уход лишил все вещи вкуса и запаха) большой, никому не нужный буфет, черный, графитно лоснящийся круглый стол, обеденные стулья, застывшие настороженно, как лесные звери, испуганные зеркала, ковры, до сих пор хранящие запах умерших кошек моей умершей тетки. Эти комнаты живут своей тайной жизнью. Кажется, будто в них все время что-то происходит. Когда я вхожу в ту или другую неожиданно – а кому тут меня ожидать? – у меня всегда такое ощущение, как будто я прервал некую таинственную, нескончаемую деятельность, которая немедленно возобновится, как только я уйду. Ощущение такое, словно живешь в больших, слегка развинченных напольных часах. Тетя Корки, когда мы наконец одолели третий лестничный марш – тем временем уже наступил вечер, – огляделась в последних отсветах дня и сказала: «Ах, Берлин!» И сразу же квартира, точно капризный ребенок, повернулась спиной к ней и ко мне.
Я уже так устал и впал в такое отчаяние, что казалось, сейчас от меня, как от снеговика, останется только мокрое место на полу. Я зажег для тепла газ (он сердито вспыхнул: Фу!),усадил возле него тетю Корки как была в шубе и, перейдя в спальню, сменил простыни на моей постели; накрахмаленные, они разворачивались с треском, похожим на дальний гром. Управившись, я на миг высунулся из окна охладить разгоряченный мозг. В зимних сумерках трава во дворе казалась серой, безжизненной, поникшей. Я не узнавал сам себя. (А разве я когда-нибудь знал себя?) Для того и существует дом – чтобы успокоиться и не терзать себя неразрешимыми вопросами; я оказался в оккупации, и внешние сомнения просачиваются, точно туман, в каждую щель.
Тетя Корки устроилась на новом месте в два счета, наверно, призвала на подмогу давно забытые навыки беженской жизни. Заняла под свое гнездо угол с кроватью, а одежду развесила на спинке стула и на вешалке для полотенец, которую выудила из какого-то чулана. Я старался смотреть в сторону от выставленных на обозрение старческих тряпок; я всегда стеснялся нижнего белья. А ее, конечно, наша вынужденная близость нисколько не смущала. Например, проблема уборной. В тот первый вечер мне пришлось свести ее под руку по лестнице, с остановкой на каждой ступеньке, а потом стоять за дверью, мыча какую-то мелодию, чтобы не слышать, как она облегчается. Потом она вышла, посмотрела на лестницу, по которой ей предстояло подняться, и покачала головой, причмокнув губами, – знак, который, по моим понятиям, выдавал в ней иностранку. Я с ужасом подумал о ночных горшках и еще кое о чем похуже. Но на следующий день, не посоветовавшись со мной, она реквизировала на кухне низкую кастрюлю без ручки, поместила под кроватью и каждое утро начинала с того, что выливала содержимое с высоты четвертого этажа через окно во двор. Я с замиранием сердца ждал, что жильцы первого этажа начнут жаловаться, но они ничего не говорили; интересно, как они себе объясняли ежеутренние желтые потоки, с брызгами низвергавшиеся на землю под их кухонным окном? И с другими проблемами она тоже справлялась. Ей нравилось готовить себе пищу, особенно жарить яичницу из взбитых яиц. Она даже умудрялась устраивать постирушки в раковине на кухне; вечером возвращаясь домой, я обнаруживал то пару-другую шелковых трико древнего образца – бабушкино наследство, надо думать, – то истекающие каплями чулки в совершенно плачевном состоянии, развешенные над газовой плитой на бельевой вешалке, о существовании которой даже не подозревал; и все четыре газовые горелки полыхали на полную мощность. (Беспокоиться насчет того, как она обращается с газом – или насчет ее привычки курить в постели, если уж на то пошло, – у меня руки не доходили.) Что до болезни, чем уж она там болела, то почти никаких симптомов заметно не было. Кашляла правда много – я представлял себе ее легкие в виде эдаких резиновых ошметок, вроде лопнувших футбольных камер, – и сквозь дымовую завесу ее духов проникал стойкий неприятный запах, отталкивающий, как зубная гниль, только еще противнее, я считал его естественным зловонием смерти. А лицо у нее было примерно такое, какое я теперь иной раз по утрам вижу в зеркале: напряженный, слезливый взгляд, обвислая кожа, недоумение и испуг перед разрушительным действием времени. Спала она мало, мне даже казалось, что вообще никогда. Ночами, лежа в гостиной на диване, искривив шею на одном валике и вдавив подошвы в другой, я слышал, как она по-мышиному шуршит и возится в спальне, ходит туда-сюда всю ночь напролет, дожидаясь, должно быть, зари, когда в щели между шторами просунутся наконец бледные пальцы первого света. Что плохо себя чувствует, она никогда не жаловалась, хотя бывали дни, когда она не поднималась, а оставалась лежать под смятыми простынями, лицо отвернув к стене и вцепившись пальцами в край одеяла, словно это медленно задвигающаяся крышка, и нужно напрячь все силы, чтобы она не закрылась окончательно. В такие скверные дни я иногда приходил днем, прямо от тебя, весь переполненный, пропахший тобой, и сидел возле нее. Она ничем не показывала, что знает о моем присутствии, но я чувствовал, что она его ощущает. Это было все равно как находиться рядом с живым существом другого вида, чьи безмолвные муки происходят в иных, недоступных мне сферах. Я держал ее за руку, вернее сказать – это она держала за руку меня. Мгновения эти были неожиданно мирными – для меня. Свет в комнате, цвета старой жести, напоминал мне детство. Я видел такие же предвечерние сумерки в далеком прошлом и себя ребенком у окошка, за которым гаснет день, и в высоких голых деревьях устраиваются на ночь грачи, и дождик сеется с неба тихий, как само время. И этот дождь… когда он припускал сильнее, тяжелые капли танцевали на блестящем асфальте, и мне они казались толпой одновременно кружащихся маленьких балерин; это было, наверно, первое художественное сравнение, которое я придумал.
Явился с визитом отец Фаннинг в зеленом костюме и сандалиях, с поднятым гребнем молодой седины, похожим на вопросительный знак. (Бой-скаут – ну конечно! Вот кого он мне напоминал.) Тетя Корки была ему не рада; ее интерес к Богу и всему божественному не пережил переезда. Она слушала его молча, нетерпеливо, развешивая транспаранты дыма над его головой, пока он серьезно и доброжелательно толковал о погоде и о Божьей милости; можно было подумать, что это совершенно ей чужой человек, с которым общались на отдыхе, поддерживали отношения из вежливости, а он бестактно явился незваным в дом, рассчитывая на возобновление знакомства. Разочарованный, он вскоре смолк и печально раскланялся. Внизу он попытался было еще раз объяснить мне, какой я хороший человек, но я, делая вид, будто дружески похлопываю его по плечу, вытолкал его на улицу и захлопнул за ним парадную дверь.
Так тетя Корки стала еще одной нитью в толстой, просмоленной, ужасающей веревке, в которую свивалась моя жизнь. Просыпаясь по утрам, я стал ощущать в груди давящий узел беспокойства и на минуту или две замирал, глядя в потолок, пока мысленно его не распутаю. Подвешенный в петле страха, я раскачивался между инспектором Хэккетом со всем, что за ним стояло, с одной стороны, и Морденом и Папаней, с другой. Да, страха; но и еще чего-то большего: какого-то неопределенного ощущения, как будто бы существует совершенно иное истолкование всему тому, в чем, мне казалось, я отлично разбираюсь; какой-то другой мир, параллельный этому, где другой, умудренный Янеустрашимо сражается с ужасными фактами, о которых здесь могу только догадываться. И при этом меня еще мучило подозрение, что кое для кого я – не более чем объект насмешек, человек с завязанными глазами, который беспомощно топчется, протягивая руки, в хохочущей, пляшущей толпе. Морден держался уклончиво и в то же время не стеснялся рубить сплеча. «Я слышал, нами интересуется полиция», – сказал он мне однажды, улыбаясь по-акульи, углами рта вниз. Я посмотрел на него, разинув рот, тоже как рыба, но другая. Я встретил его утром на Ормонд-стрит – он шагал сквозь толпу, полы его пальто развевались, концы красного шелкового галстука бились за плечом. Я его часто теперь встречал вот так же шагающим без цели, лениво, со скучливым, угрожающим видом и с неживым выражением во взгляде. При этом он замедлял шаги, останавливался, устремлял взгляд на конек крыши отдаленного здания и заговаривал неопределенным, рассеянным тоном, как будто продолжая давно начатый разговор.
– Полиция? – крякнул я со страху, словно утка на болоте.
Мы шли по Рю-стрит. Был ветреный ненастный день.
– Да, – равнодушно подтвердил Морден. – Франси говорит, к вам заглядывал шпик. – Он покосился на меня без всякого выражения. – Любите парней в синей форме, м-м?
Мы подошли к дому. Морден стоял и смотрел, как я достаю ключ и отпираю дверь. Я словно слышал беззвучный издевательский смех. Иметь дело с Морденом – все равно что управляться с неподъемно тяжелым, гладким, скользким мешком, вдруг сваленным тебе на руки. Он стоял и ждал, склонив набок голову, что-то прикидывая и посматривая на меня. Дверь открылась, дом затаил дыхание. Морден ухмылялся.
– Вы, как я слышал, и с Папаней познакомились, – сказал он, схватил меня за рукав и нетерпеливо дернул. – А ну, расскажите-ка нам, кем он был наряжен?
Я нехотя описал ему костюм Папани. Он громко хохотнул, как взлаял.
– Священником? – У него за спиной ветер вздул мусор и клочки бумаги и закрутил в смерч над мостовой. – Ну и тип! – Он покачал головой. – А знаете, он как-то раз с человека заживо кожу содрал, выдубил и отослал жене. По почте, бандеролью. Клянусь Богом. – Он прошел мимо меня в двери, пересек холл и стал подниматься по лестнице. Но через несколько ступеней остановился, держась за перила, и снова обернулся ко мне. – Не обращайте внимания на Папаню, – доброжелательно посоветовал он мне. – Ни малейшего внимания не обращайте. – И мыча какой-то мотивчик, пошел дальше, однако остановился опять, свесился через перила и добавил с ухмылкой: – «Полицейские и воры», вот что это такое, и больше ничего. – Он сам себе одобрительно рассмеялся, повторил, топая по ступеням: – «Полицейские и воры», можете мне поверить! – и скрылся за поворотом лестницы.
Так что видишь, как обстояло дело. О да, я боялся, я уже говорил, но это была такая разновидность страха, с жаром и замиранием, которая почти всегда кажется скорее просто предвидением. Во мне постоянно сидит какой-то хихикающий черт, которому непременно нужно, чтобы случилось худшее. Помню, я раз видел кинохронику про катастрофическое наводнение в каких-то краях, и там показали одного до ужаса тощего типа в тюрбане и набедренной повязке, который, сложив руки на животе, плыл по водам в жестяном корыте и блаженно улыбался в камеру. Вот и я точно так, сижу себе, беспомощно поджав колени к груди, и радуюсь, а меня несет течением, и мимо проплывают, кружась в водоворотах, ободранные древесные стволы и вздутые трупы. Если картины подлинные, значит, они украдены, и меня могут арестовать за то, что я имею к ним отношение. Это ясно как день. Однако я больше всего боялся не тюрьмы, а того, что могу потерять тебя. (Нет, это неправда, для чего лгать? Мысль о тюрьме приводила меня в совершенную панику, стоило подумать о ней, и ноги подкашивались, я должен был сесть, прижав ладонь к сердцу, и ждать, пока перестану задыхаться.)
Я никогда не умел играть в умные игры. Ты хотела меня научить, я верю, конечно, хотела. Иногда я ловил на себе твой взгляд, такой задумчивый, прикидывающий – на губах улыбка – не улыбка, голова вполоборота, одна бровь вздернута, – и я думаю теперь, что это были мгновения, когда тебе становилось меня жалко и ты готова была подвести меня к нашему ложу, усадить и сказать: Ну ладно, слушай, я сейчас тебе объясню, что происходит…
Но нет, ты бы поступила иначе. Ты бы выпалила все разом и расхохоталась, тараща глаза и прикрыв рот ладонью, и до меня смысл того, что ты сообщила, дошел бы только какое-то время спустя – если бы вообще дошел. Я тебя никогда не понимал. Я ходил вокруг тебя, морща лоб и потирая подбородок, словно ты – задачка по перспективе, загадочная картинка, вроде тех, что рисовали голландские миниатюристы, раскрывающая свою тайну, только если смотреть из определенной, самой неподходящей точки. Я был очень смешон? Я повторяю еще раз, мне наплевать на все остальное, что меня обманули, что сделали из меня дурака и подставили так, что мне опять грозит тюрьма; для меня важно только, что ты обо мне думала, думаешь. (Думай обо мне!)
Игры придумывала она, она была распорядительница развлечений. А я ковылял за ней по пятам, волоча свой жезл и свиной пузырь, торопясь и спотыкаясь, только бы не отстать. Затевала же все она. Дверной глазок, например, купила она. Принесла его в тот самый день, когда был найден третий труп. Он был подвешен за ступни к парковой ограде, а горло перерезано так глубоко, что голова почти отвалилась (Газеты тогда уже придумали для убийцы прозвище: Вампир.) Она вошла, отряхнула дождевые перлы с подола черного пальто, и я сразу почувствовал ее возбуждение – когда она в таком состоянии, воздух вокруг нее хрустит, шуршит, словно заряженный электричеством. Бросив пальто и сумочку на пол, она плюхнулась на постель и протянула мне кулак, улыбаясь стиснутыми губами, вне себя от счастья. Мое сердце. «Смотри», – сказала она, медленно разжав пальцы. Я взял у нее с ладони медный бочоночек и обрадованно, недоуменно оглядел его со всех сторон. «Ты в него загляни, – наставила она меня. – Он вроде рыбьего глаза». Я засмеялся. «Ну, и как его приладить?» Она выхватила у меня свое приобретение и стала осматривать сквозь него комнату, прищурив один глаз и приподняв губу над острым маленьким клыком. «Что значит как? Дрелью. А ты что думал?»








