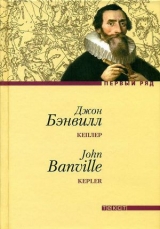
Текст книги "Кеплер"
Автор книги: Джон Бэнвилл
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
– Она?
– Она, да, и жуткий переполох поднимет.
В голове у него уже все улеглось, уже он видел как бы картину в геральдических тонах: торжественная невеста, жених, высокий, мрачный, – и вымпел реет, и небо, из-под свитка, вещающего: factum est! [20]20
Истинно (лат.).
[Закрыть]льет жирные благодатные лучи, а внизу, в сквозном и дольнем мире, один-одинешенек, корчится Кеплер inconsolabilis, [21]21
Безутешный (лат.).
[Закрыть]и горбатый бес копытом ему давит шею. Он предусмотрительно отворотился от окна. Регина на него внимательно смотрела, но теперь перевела взгляд на свои стиснутые руки. Она улыбалась, как бы сама себе дивясь, смущенно, и гордо тоже, как будто совершила чудный, чуть смехотворный подвиг.
– Вот я и хотела спросить, как ты…
– Да? – И что-то, он не успел поймать, вспорхнуло на дрожащих крыльях, метнулось на нее из этого коротенького слова. Она нахмурилась, в него вгляделась; неужто, о Боже мой, дрожащее крыло мазнуло ее по щеке?
– Ты… ты недоволен?
– Я-я-я…
– Я думала, я надеялась, что ты одобришь, и что ты замолвишь ей за нас словцо, что ты ей скажешь.
– Твоей матери? Да-да, разумеется, я ей скажу, – рванувшись мимо, договаривая на ходу, и, застыв на лестнице: – Разумеется, разумеется, я ей скажу… но что я ей скажу?
Она недоуменно взглянула на него через порог:
– Ну, что я замуж собралась.
– Ах да. Что ты замуж собралась. Да.
– Нет, по-моему, ты недоволен.
– Но разумеется, я… разумеется… – Он пятился вниз по лестнице, в распростертых руках сжимая огромный, блестяще-черный ком печали и вины.
* * *
Барбара, на коленях у камина, меняла подгузничек младенцу и морщилась от липкой вони. Людвиг сучил под ней тощими ножками и кряхтел. Она глянула через плечо на Кеплера:
– Так я и думала.
– Ты знала? Но кто же он?
Она вздохнула, откачнулась, осела на пятки.
– Да ты с ним знаком, – кинула устало. – Но разумеется, не помнишь. Он в Праге был, ты с ним знаком.
– Ах да, вспомнил. – Он не вспомнил. Умница Регина, догадалась, что он забыл. – Но она еще такая молодая!
– Мне шестнадцать было, когда я вышла первым браком. Подумаешь! – Он промолчал. – Не понимаю, тебе-то что?
Он сердито отвернулся, открыл дверь на кухню и нос к носу столкнулся с каргой в черном чепце. Уставились друг на друга, та попятилась смущенно. За кухонным столом сидела еще одна, толстенная, с усами, и перед ней стояла кружка пива. Мать возилась у железной печки.
– Катари-ина! – пропела первая карга. Толстуха с минуту бесстрастно его разглядывала, потягивая пиво. Котище, столбиком сидя рядом с ней, взмахнул хвостом и подмигнул. Фрау Кеплер даже головы не повернула. Он молча отпрянул и медленно, молча затворил за собою дверь.
– Генрих!
– Ну что, ну приходят, старые мадамы, наведываются, – грустно ухмыльнулся, сунул руки в карманы бриджей. – Все ей повеселей.
– Скажи мне правду, Генрих. Она что же… – Барбара застыла, склоняясь над младенцем, зажав во рту булавки. Кеплер взял брата за плечо, увлек к окну. – …опять за старое взялась?
– Нет-нет. Когда-никогда врачует, а боле ничего.
– О Господи.
– Ей-то и незачем бы, Иоганн. А от них отбоя нет, от бабья в особенности. – Опять он ухмыльнулся, мигнул, уронив одно веко, как отставший ставень. – Да вот на днях малый один был…
– Я не желаю…
– Кузнец, из себя здоровущий, как бык, и от самого от Леонберга добирался, путь неблизкий, а ведь посмотришь на него, так никогда не скажешь…
– Генрих! Я не желаю знать! – Он смотрел в окно, кусая ноготь большого пальца. – О Господи! – простонал он снова.
– Ах, да чего тут уж такого-то, – Генрих гнул свое, – она небось получше будет разных твоих докторов, так я тебе скажу, – даже осип от обиды, и Кеплер загрустил: и отчего в такой наивной преданности отказано ему? – Для ноги для моей такой состав смешала, нашему армейскому лекарю не снилось.
– Для твоей ноги?
– Ну, рана у меня мокнет, еще с венгерского похода.
– Дал бы мне осмотреть.
Генрих остро на него глянул:
– А зачем. Она пользует.
Мать шаркала из кухни.
– И куда это я, – она бормотала, – и куда это я его запропастила? – ткнула острым своим носиком в Барбару. – Не видала?
Барбара будто не слышала.
– О чем вы, матушка? – спросил Кеплер.
Она невинно улыбалась:
– A-а, да вот только тут был, а теперь запропастила его куда-то, мешочек-то мой с крыльями нетопырей.
В кухне раздался хохот, две карги, ликуя, толкали друг дружку локотками. И даже кот как будто ухмылялся.
* * *
Регина осторожно спускалась по ступеням.
– Вы не из-за меня ведь ссоритесь?
Они смотрели на нее, не видя. Фрау Кеплер, усмехаясь, шаркала обратно, на кухню.
– О чем это она: крылья нетопырей? – крикнула Барбара.
– Шутка, – отрезал он, – шутка, о Господи Боже мой!
– Ей пальца в рот не клади, – вставил Генрих важно, давя усмешку.
Кеплер рухнул на стул подле окна, пальцами забарабанил по столу.
– Сегодня в гостинице переночуем, есть заведение поближе к Эльмендингену. А завтра тронемся домой.
Барбара победно улыбнулась, но сочла за благо промолчать. Он хмурился. Все три женщины вышли из кухни. У толстой – кружево пены на усах. Тощая сунулась было к великому человеку, спрятанному в тени окна, но фрау Кеплер ее толкала сзади.
– Ой, мамаша-то, хи-хи, хочет от нас отделаться, а, сударь!
– Тьфу ты, – фрау Кеплер еще покрепче ей наподдала. Обе карги вышли.
– Ну вот, – старуха повернулась к сыну, – выгнал их. Доволен?
Он на нее уставился.
– Да я им слова не сказал.
– Оно и верно.
– Для вас бы лучше было, если б они сюда не возвращались, такие.
– Да что ты понимаешь?
– Я несколько знаком с этой породой! Вы…
– Ах, помалкивай. Что ты понимаешь, приехал тут, вынюхиваешь. Знать, мы тебя теперь недостойны стали, вот что.
Генрих кашлянул:
– Ну, мам. Иоганн с тобой беседует для твоей же пользы.
Он разглядывал потолок.
– Сейчас тяжелые времена, матушка. Будьте поосторожней.
– Сам поосторожней будь!
Он пожал плечами. Как сладко в детстве ему мечталось, что вот однажды ночью они погибнут, сразу, мигом, от землетрясенья, скажем, его оставя легким и свободным. Барбара на него смотрела. Регина тоже.
– А у нас сожжение было на Михайлов день, – так Генрих спешил сменить тему разговора. – Ух, Господи, – хлопнув себя по ляжке, – старуха аж в пляс пустилась, как занялся огонь. Правда, мам?
– И кто она была?
– Дура старая, – быстро вставила фрау Кеплер, огрев взглядом Генриха. – Дочке пасторовой приворотного зелья давала. Таких только и сжигать.
Он прикрыл глаза ладонью.
– Будут и еще костры.
Тут уж мать за него взялась:
– Будут, ну! И не только здесь у нас. А там, в твоей этой Богемии, где паписты сплошь, а? Слыхала я, там людей косяками жгут. Сам будь поосторожней. – И затопала на кухню. Он – за нею. – Приезжает, мне тут указывает, – ворчала она. – Да что ты знаешь? Я больных целила, когда ты еще пешком под стол ходил, в штаны накладывал. А теперь! Сидишь, к императору пришпиленный, квадраты чародейные ему черкаешь! Мне и на этом свете весело, а ты– нос в небо и думает, сам черт ему не брат. Тьфу! Гадок ты мне совсем.
– Матушка…
– Чего тебе?
– Я за вас тревожусь, матушка, только и всего.
Она на него глянула.
* * *
Все вокруг чревато было каким-то тайным знанием. Он постоял у фонтана на базарной площади. Каменные горгульи как будто подавляли ликованье, щедро плюясь зелеными губами, словно забавлялись тонкой выходкой, которую отмочат, едва он отвернется. Дед Себальд уверял, что одно из каменных этих лиц высечено ему в подобье. И как он долго деду верил. Знакомое обстало, как лукавый призрак. Что он знает? Возможно ли, чтоб жизнь, его собственная жизнь, шла себе без его участья, как вот телесные наши органы работают, покуда разум спит? Он на ходу прикидывал собственный вес, определял украдкой свою меру, доискивался бугорка, особой шишки, где копилась эта потаенность. Темные чувства, вызванные обручением Регины, были только частность: о каких еще безумствах подписан договор, да и какой ценой? Его как будто провели, а он не слишком огорчался, как старик банкир, которого ловко обставил любимый сын. Он шел мимо булочной, овеянный теплый хлебным духом; пекарь, один-одинешенек, согнувшись над дежой, месил огромный ком теста. Из верхнего окна служанка метнула грязную воду, едва его не окатив. Он поднял взгляд, мгновенье она на него таращилась, потом пальцами зажала рот и, хохоча, отвернулась к кому-то сзади, в комнате, к молодому хозяину, Гарри Фелигеру, семнадцатилетнему, прыщавому на диво, тянущему к ней трясущиеся руки… а Кеплер прошел мимо, печалуясь, что столько лет убил на эти якобы разумно подобраные книжки.
Вот и пустырь. Вечер медлил там, бронзовея, тихо дыша, нежась, как истомленный акробат, в прощальных лучах тепла и света. Вяз, свесив ветви, вглядывался в свое отражение, величаво слушал. Дети еще не ушли. Встретили его пустыми взглядами, не желая узнавать: им было весело. Сюзанна брела прочь, стиснув руки за спиной, с блаженно идиотической улыбкой озираясь на череду утят, смешно катившихся за нею следом. Фридрих протопотал к воде, сжимая в ручке большой окатыш. Башмаки, чулки промокли, он ухитрился заляпать даже брови. Окатыш плюхнулся с плоским плеском. «Смотри, смотри, папаша, там король! – видал?»
– Король, он самый, – подтвердил Генрих. Он пришел за детьми. – Как что кинешь в воду, он и подскочит, и тогда корону видно и на ней алмазы. Верно, Иоганн? Я так ему рассказывал.
– Не хочу домой, – протянул мальчик, любовно погружая ногу в грязь, вытягивая обратно с вкусным шлепком. – Хочу тут остаться, с дядей Генрихом и с бабушкой. – Задумчиво прищурясь. – А у них свинка есть.
Пруд потягивался, разглаживал мятые шелка. Крохотные прозрачные мушки пряли невидимую нить среди отраженных веток вяза, хлынули с мелей водорезы – ножки такие тонкие, что только точки оставляли на воде. Щедрая, расточительная жизнь! Он уселся на траву. Долгий был сегодня день, и полон маленьких открытий. Что с Региной делать? И как быть с матерью, которая все не натешится опасными забавами? Да, что делать. Мелькнуло, будто суля ответ, воспоминанье: итальянец Феликс пляшет со своими шлюхами где-то на задворках, в Праге. Огромная, шумная ноша нудила, жизнь сама подталкивала под локоть. Он улыбался, глядя вверх, на ветки. Возможно ли, неужто это, это– счастье?
IV HARMONICE MUNDI [22]22
Мировая гармония (лат.).
[Закрыть]
Площадь Лорето
Градчаны, Прага
1605 года Пепельная среда [23]23
Начало Великого поста в Римско-католической церкви.
[Закрыть]
Давиду Фабрицию,
во Фрисландию
Высокочтимый друг! Вы можете оставить попечение о новой теории Марса: она уж создана. Да, книга моя окончена, или окончена почти. Я столько на нее убил трудов, что десять раз мог умереть. Однако с Божией помощью я выжил, и даже могу теперь быть покоен и уверен, что новая астрономия в самом деле рождена. И если не могу вольно предаваться радости, то не из-за сомнений в истинности мною достигнутого, но из-за того, что вдруг открылось мне, какое действие глубокое может оказать мой труд. Друг мой, идеи наши о Вселенной более не могут оставаться прежними. Мысль сокрушительная, и она-то причиной моему печальному задумчивому духу – в полном согласье, впрочем, с общим духом великого нынешнего дня. Вкладываю женин рецепт пасхального кулича, как было обещано.
Вы, брат мой по оружию, поймете, каково мне сейчас. Шесть лет провел я средь шума и жара битвы, опустив голову, врубаясь в частности; теперь могу отступить и оглядеть более широкий вид. В том, что я победил, нимало я не сомневаюсь, как уже было сказано. Забота же моя – какую именно победу я одержал и какой ценой мне и науке нашей, а то и всему человечеству придется за нее платить. Коперник на тридцать лет отсрочил публикование величественного своего труда, затем, полагаю, что боялся того действия на умы, какое произведет смещение Земли из центра мирозданья, разжалование ее всего лишь до планеты средь других планет; то же, что сделал я, думаю, еще решительней, ибо я изменил самый образ вещей – то есть я доказал, что в пониманье небесных форм и движений, какого придерживались со времен Пифагора, что в своем этом пониманье глубоко мы ошибались. Объявление сей новости тоже будет отсрочено, не потому, однако, что Коперникова робость меня одолевала, а благодаря скаредности хозяина моего императора, из-за каковой не могу осилить порядочного печатника.
Цель моя в Astronomia nova– показать, что небесная машина не есть божественное, живое существо, но вид часового механизма (а тот, кто полагает, что часы имеют душу, приписывает творению славу творца), равно как и все почти сложные движенья вызваны простой магнетической и материальной силой, подобно движению часов, обыкновенным весом причиняемому. Однако, и это главное, вовсе не форма или вид сих часов небесных всего прежде меня занимает, но сама их очевидность.Уже не довольствуясь, как тысячелетиями, кажется, довольствовалась астрономия, математическим выражением движения планет, я попытался объяснить движения сии физическими причинами,их породившими. Никто до меня не предпринимал такого шага; никто не предавал мыслей своих таким словам.
Как, сударь мой, у Вас есть сын! Вот, право, неожиданность! Мне пришлось оторваться от письма из-за неотложных дел – жена опять больна, – а тем временем из Виттенберга некто Иоганн Фабриций мне пишет о феноменах Солнца, ссылаясь на дружбу мою с Вами, его отцом! Признаюсь, я поражен, да и смущен, пожалуй, ибо в моих письмах всегда я обращался к Вам, как если бы Вы были меня моложе, и, боюсь, не случалось ли мне иной раз впадать в тон учителя, наставляющего ученика! Вы уж меня простите. Не мешало бы как-нибудь нам свидеться. Я близорук, пожалуй, не только в смысле физическом. Вечно я подвергаюсь потрясениям, когда предмет у меня под самым носом оказывается вовсе не тем, что я в нем предполагал. Вот так же было и с орбитой Марса. Я снова буду к Вам писать и уж тогда поведаю краткую историю о сражении моем с этой планетой, Вас она позабавит.
Vale
Иоганнес Кеплер
_____
Дом Венцеля
Прага
Ноябрь года 1607
Гансу Георгу Герварту фон Гоенбургу,
в Мюнхен
Entschuldigen Sie, [24]24
Простите (нем.).
[Закрыть]любезный мой, за то, что так долго Вам не отвечал на последнее и столь меня обрадовавшее письмо Ваше. Дела двора, как всегда, поглощают время мое и силы. Его Величество день ото дня становится капризней. Порой он забывает мое имя и смотрит на меня тем хмурым взглядом, который слишком знаком всем тем, кто его знает, – будто вовсе меня не узнает; а после вдруг за мною спешно посылают, и я принужден мчаться во дворец со звездными картами и астрологическими таблицами. Ибо он питает невинную веру в звездочетство, которое сам я, как Вам известно, полагаю сущим вздором. О чем только не требует он письменных отчетов: о точном времени рождения императора Августа или Магомета, о судьбе, уготованной Турецкой империи, ну и, конечно, никуда не денешься от всех волнующего венгерского вопроса: брат его Матвей час от часу наглеет в своем стремленье к власти. К сему присовокупляется скучная материя о пресловутом Огненном Треугольнике и о Великом Сближении Юпитера с Сатурном, которое, считается, знаменовало рождение Христа и Карла Великого, а как снова минуло 800 лет, то все и задаются вопросом, какое же еще грядет великое событие. Я позволил себе заметить, что великое событиеуже свершилось, ибо прибыл в Прагу Кеплер; не думаю, однако, чтоб Его Величество по достоинству оценил мое острословие.
В подобной обстановке Новая Звезда, тому три года, произвела большой переполох, который и доныне не улегся. Толкуют, как Вы, уж верно, догадались, о всеобщем возгорании и Конце Света. Самое меньшее, на чем они готовы согласиться, есть явление нового великого правителя: nova slella, novus rex [25]25
Новая звезда, новый король (лат.).
[Закрыть](что, без сомнения, и поддерживает Матвей!). И разумеется, я должен много по сему случаю болтать. Тяжелая и скучная работа. Ум, привычный к доказательствам математическим, озабоченный ложностью самих оснований астрономии, долго, долго ей противится, как упрямое вьючное животное, покуда ударами хлыста и бранью не понудят его ступить в лужу.
Положение мое щекотливо. Рудольфом крепко завладели звездочеты и прочие шарлатаны. Астрологию считаю я орудием скорей политики, нежели пророчеств, и следовало бы изгнать ее не только из Совета, но даже из голов тех, кто влияет на императора, – для его же пользы. Но что ж мне делать, коли он уперся? Он, можно сказать, затворник в собственном дворце и дни свои проводит средь своих игрушек и милых сердцу монстров, прячась от рода человеческого, которого боится, который презирает, и не желая принимать даже и самых простых решений. Поутру, когда конники выезжают во дворе итальянских его и гишпанских жеребцов, он смотрит из окна опочивальни, как иноверный скопец смотрел бы на гарем, а потом еще рассказывает о том, как он развлекся!И все же, признаюсь, не вовсе он бездеятелен. Странное архимедово движение в нем, едва доступное взгляду, с течением времени производит брожение обширной массы. Какую-то деятельность двора. Быть может, этой нервной силой, всем организмам свойственной, все здесь и движется – так курица бежит после того, как ей отрубят голову. (Предательские речи.)
Жалованье мое, что ни говори, отчаянно задерживают. Мне должны, по моим расчетам, 2000 флоринов. Не очень и надеюсь когда-нибудь увидеть эти деньги. Королевская казна почти совсем опустошена манией собирательства, присущей императору, равно как и войною его против турок, и усилиями отстоять свои земли у мятежной родни. Мне горько зависеть от доходов на скромное состояние жены. Голодное мое брюхо на меня поглядывает, как песик на хозяина, когда-то его кормившего. Однако, по своему обыкновению, я не отчаиваюсь, положась на Бога и на мою науку. Погода здесь прегнусная.
Засим остаюсь покорным слугою Вашим,
Иоганн Кеплер
_____
Aedes Cramerianis [26]26
Крамеровы строения (лат.).
[Закрыть]
Прага Апрель года 1608
Доктору Михаэлю Мэстлину,
в Тюбинген
Приветствую Вас. Ну и свинья Тейнагель! С трудом удерживаю в руке перо, о, как я зол! Вы даже и вообразить не можете всю глубину коварства этого канальи! Разумеется, он не хуже прочих в шайке Браге – он только громче. Ревущий осел, вот он кто, тщеславный, надутый и неискупимо глупый. Нет, положительно, я его убью, прости меня, Господи. Единственное светлое пятно во всей этой кромешной тьме – то, что ему еще не выплатили, да едва ль когда и выплатят, 20 000 флоринов, за которые он продал бесценные инструменты императору, когда датчанин еще не остыл в гробу. (Он получает 1000 флоринов ежегодно как проценты по долгу. Вдвое больше моего жалованья – императорского математика.) Признаюсь, когда Тихо умер, я скоро воспользовался отсутствием попеченья со стороны наследников и взял на себя заботу о его наблюдениях, или, как Вы, быть может, скажете (и уж конечно, скажут они), их стибрил. И кто меня осудит? Инструменты, некогда чудо света, разбросаны по всей Европе, ржавеют и ветшают. Император о них забыл, Тейнагель рад своим пяти процентам годовых. Неужто подобной же судьбе я должен был обречь дивные, бесценные наблюдения, которых собиранью Тихо посвятил всю жизнь?
Причина ссоры нашей кроется в подозрительности и неотесанности семейства Браге, но, с другой стороны, и в моем страстном и насмешливом нраве. Не спорю, у Тейнагеля давно были причины мне не доверять: в моих руках были наблюдения, а я отказался их передать наследникам. Но никаких причин нет у него травить меня таким манером. А знаете ли Вы, что он заделался католиком, дабы император мог ему пожаловать место при дворе? Вот Вам характер его во всей красе. (Элизабет, прекрасная половина, все его подстрекает… ах нет, о ней не буду.) Теперь он императорский советник, а потому может мне навязывать свои условия как власть имеющий. Запретил мне печатать что бы ни было, основанное на наблюденьях тестя, покуда не закончу Рудольфовых таблиц; потом в печатании дал полную свободу, но с тем, что имя его будет стоять рядом с моим на титульном листе, и половина чести ему достанется без всякого труда. Я согласился, но при условии, что он мне выделит четверть от тысячи флоринов, которые платит ему император. И мой расчет был точен. Тейнагель, верный своей природе, конечно, посчитал сумму в 250 флоринов годовых чересчур высокою платой за бессмертную славу. Далее, он забрал в свою глупую башку, что сам может осилить завершение таблиц. Вы посмеетесь вместе со мной, профессор, ибо это прямая нелепость, поскольку у кавалериста нет ни способности к такой работе, ни усердия, какого она требует. Я уж и прежде замечал, что многие полагают, будто могли бы преуспеть не меньше моего, и даже больше, будь у них время и охота вникать в мелочи астрономии. Я только улыбаюсь, когда слышу, как они ярятся, пердят и писают горячею мочой. Что ж, путь попробуют!
К счастью, суетный Тейнагель обещался императору окончить всю работу в четыре года: и все то время просидел над сокровищем, как собака на сене, и сам не в состоянии им воспользоваться, и других до него не допуская. И вот четыре года истекли, он ничего не сделал. Меж тем я тороплюсь со своей Astronomia nova,которой печатание началось наконец у Фогелина в Гейдельберге. Что ж, хорошо. Но этот болван требует, чтоб книга содержала предисловие, писанное им, и за его же подписью! Помыслить страшно, что за вздор он состряпает. Он заявляет, что якобы его страшит, как бы я не воспользовался наблюдениями Тихо, дабы изобличить его же теорию мирозданья, но я-то знаю, что его волнует только звон монет. Ах, низкий и вредоносный болван.
К.
_____
Площадь Гутенберга
Гейдельберг
Канун летнего солнцестояния, год 1609
Елисею Рослину, лейб-медику при дворе Ханау-Лихтенберга.
Бухсвайлер, что в Эльзасе
Ave.Получил толковую и занимательную твою Discurs von heutiger Beschaffenheit, [27]27
Беседа о заботах нынешнего времени (нем.).
[Закрыть]которая не только во мне всколыхнула бездну мыслей, но и приятно воскресила в душе моей сладкую и грустную память о спорах дружеских, каким мы предавались в студенческие наши дни в Тюбингене. Я готовлю в печати Antwort, [28]28
Ответ (нем.).
[Закрыть]дабы отстоять те положения в моей Nova1604 года, на какие со всей твоею страстью и со всем искусством ты нападаешь, но прежде хочу несколько слов сказать с тобой наедине, не только во имя долгой нашей дружбы, но дабы объяснить материи, какие не стану доверять печати. Ибо положение мое здесь в Праге день ото дня становится щекотливей. Царственное лицо уже не верит никому, трепетно блюдя науку, которую так ревностно ты защищаешь и с которой связывает оно такие упованья. Я бы охотнее назвал ее лженаукой. Непременно уничтожь это письмо сразу, как прочтешь.
Я готов признать в тебе, мой милый Рослин, instinctus divinus, [29]29
Божественный инстинкт (лат.).
[Закрыть]особенное прозренье в толковании небесных феноменов, которое, однако, ничего общего не имеет с законами астрологическими. Кто спорит, Господь даже и простаков порою попускает произносить странные и дивные сужденья. Никто не станет отрицать, что нечто мудрое, а то, глядишь, святое может произойти от глупости и безбожия, подобно как из скользкой грязной тины является прелестная улитка, устрица, как из нечистот гусеницы – шелкопряд. Даже и в вонючей навозной куче прилежная курица находит золотое зернышко; да, но какие зерна стоят того, чтоб их выбирать из кучи, вот это уж определить трудней.
Суть мыслей моих проста: то, что небеса воздействуют на человека, видно невооруженным глазом, но то, как именно они воздействуют, остается для нас загадкой. Я верю, что расположение планет относительно одна другой влияет на человеческие жизни. Однако ж думаю, что говорить о добром и дурном расположенье звезд – нелепость. Нет в небесах понятий о добре и зле, важны лишь понятия о гармоническом, ритмичном, красивом, сильном, слабом и разлаженном. Звезды не действуют как ни попадя, звезды не определяют особенной судьбы отдельного лица; но они запечатлевают душу особенным тавром. С первыми проблесками жизни дается человеку образ всех созвездий неба, всех лучей, стекающих на землю, и этот образ он на себе хранит до гроба. Этот образ отпечатлен в самой плоти человека, в замашках и повадках, пристрастиях и склонностях. Один бодр, сердоболен, весел; другой празден, мрачен, душой ленив; и свойства эти сопоставить можно с красивым, точным или с разбросанным и неприглядным расположеньем, с окраской и движеньями планет.
Но на чем основаны понятия: красивый – некрасивый, сильный – слабый и прочее? Как! Да на разделении кругов, производимом познаваемыми, то есть могущими быть построенными, правильными многоугольниками, как это представлено, к примеру, в моей Mysterium cosmographicum,то есть на гармонии исконной, предвещанной бытием Божиим. Так все живые существа, люди и все прочие, и растения даже, все подвержены влиянью неба. Все проявления их определены и ведумы лучами света, сюда, вниз проникающими, и геометрия и гармония небесная на них влияет, подобно как на стадо влияет голос пастуха, как лошадей в упряжке торопит крик возницы, как сельский танец визгу волынки подчинен. Вот во что я верю, и никакой вашей темной дури не сбить меня с толку.
Надеюсь, прямой немецкий разговор не оскорбил тебя, мой милый Рослин. Я всегда тебя помню и люблю, хотя порой могу и огрызнуться, ибо таков
друг твой и коллегаИоганн Кеплер
_____
Крамеровы строенья
Прага
Сентябрь года 1609
Фрау Катарине Кеплер и Генриху Кеплеру,
в Вайльдерштадт
(Для прочтения в их присутствии Г. Распе, нотариусом. Вознагражденье прилагается.)
Любимые мои. Пишу, дабы сообщить, что мы прибыли домой, здоровы и благополучны. У Фридриха кашель, но в прочем он здоровехонек. Приуготовления к свадьбе милой нашей Регины весьма успешны. Она чудо как ловка в таких делах. Будущий супруг ее тонкий и благородный человек, и с положением. На той неделе он нам нанес визит. Разумеется, он и прежде у нас бывал, но не женихом. Мне представляется он несколько натянутым, боюсь, как бы негибким он не оказался. Все было весьма учтиво. У меня нет сомнений, что он будет добр к Регине, и, хочу надеяться, составит ее счастье. После свадьбы направятся они в Пфаффенхофен, что в Верхнем Пфальцграфстве. Слух есть, что там чума.
Мы по-прежнему в наших комнатах, в старых Крамеровых строеньях, и покуда, думаю, здесь и останемся. Место здесь недурное, ибо мы на мосту, нас тешит вид реки. Дом каменный, и, значит, меньше опасности пожара, которого, как знаете вы, всегда я опасался. Вдобавок, здесь мы в лучшей части города. Подле Университета Венцеля, в Старом городе, где мы прежде жили, все было иначе: улицы скверные, дурно мощены, завалены всякой дрянью, дома убогие, крыты прутьями, соломой, и вонь такая, что прогнала б и турок. Правда, хозяин наш – грубая скотина, и то и дело с ним бранюсь, чем только себе пищеварение порчу. Барбара советует его не замечать. И почему это, дивлюсь, люди так скверно друг с другом обращаются? Что пользы в распрях и раздорах? Думаю, иные тем только и живы, что допекают ближнего. Хозяин мучит жильцов, точно как нехристь пытками доводит рабов своих до смерти: различье лишь в степени, не в природе зла. Вот над чем я размышляю, когда обязанности двора и занятия научные мне оставляют время для раздумий. Нельзя сказать, однако, чтобы я много занимался теперь наукой, ибо здоровье мое расстроено, часто треплет лихорадка и воспаляется нутро, и тогда ум мой пребывает в скорбном безразличье. Но я не жалуюсь. Господь милостив.
Здесь в Праге мы вращаемся в прекрасном обществе. Императорский советник и первый секретарь Иоганн Польц весьма ко мне расположен. Жена его и все семейство выделяются австрийским своим изяществом и благородными манерами. Глядишь, под их влиянием и я на сей стезе окажу успехи, хотя покуда, признаюсь, до этого мне далеко (быть знаменитым математиком и блистать в свете – вовсе не одно и то же!). Однако, невзирая на убогость собственного моего житья и низкий чин, я волен являться в доме Польца, когда мне заблагорассудится – а их считают высшей знатью! Есть у меня и другие связи. Жены двух императорских гвардейцев присутствовали при крещении Сузанны. Штефан Шмид, императорский казначей; Маттей Ваккер, придворный адвокат; его сиятельство Йозеф Хеттлер, посланник Баденский, все нас почтили при крещении нашего Фридриха. А когда крестили маленького Людвига, пфальцграф Филип Людвиг и сын его Вольфганг Вильгельм фон Пфальц-Нейбург нам оказали честь своим присутствием. Как видите, мы понемногу входим в высший свет! Но я не забываю своих родных. Я часто о вас думаю и тревожусь о вашем благе. Заботьтесь друг о друге, будьте всегда добры. Матушка, помните о моих предостережениях в последнем нашем разговоре. Генрих, береги мать. И пусть в ваших молитвах поминаем будет
сын ваш и братИоганн
(Герр Распе, только для ваших глаз: присматривайте за фрау Кеплер и обо всем мне сообщайте. Услуги ваши не останутся без вознагражденья.)
_____
Aedes Cramerianis
Прага
Март года 1610
Сеньору профессору Джорджио Антонио Мадзини,
в Болонью
Вот как будто ты проснулся и видишь разом два солнца в небе. Конечно, это лишь фигура речи. Два солнца были бы чудо, волшебство, тогда как сиесотворено глазом человеческим и разумом. Бывают времена, мне кажется, когда, после веков застоя, вдруг все трогается с места, течет, с какой-то дивной быстротой стекается в одно, со всех сторон бегут ручьи, сливаются в поток, и вот уж мощная река, гремя, уносит на себе все жалкие обломки заблуждений наших. Не прошло и года после того, как выпустил я в свет свою Astronomia nova,изменив неузнаваемо наши понятия о законах неба, и вот из Падуи является к нам новость! Без сомнения, Вы, будучи в Италии, уж обо всем давно наслышаны, а я-то знаю, что открытия даже и самые немыслимые очень скоро начинают нам представляться общим местом; здесь же это еще для всех внове, кажется чудом и, пожалуй, слегка страшит.
Первым мне эту новость сообщил друг мой Маттей Ваккер, Придворный Адвокат и Личный Советник Его Величества, о ней узнавши от посла тосканского, недавно к нам прибывшего. Ваккер тотчас поспешил ко мне. День был ясный, буйный, с обетованием весны, я навсегда его запомню в числе немногих дней, какие помнятся из всей жизни. Из своего окна увидел я, как едет по мосту карета, и старый Ваккер высунулся и понукает кучера. Бывает ли, чтобы волнение, подобное его волнению в тот день, высылало вперед себя как бы осязаемые лучи? Ибо, едва я его завидел, меня охватила дрожь, хоть я ничего еще не знал о том, что он мне готовит. Я выбежал из дому и встретил у дверей его карету. Герр Ваккер уже что-то лепетал, сначала я ничего не мог взять в толк. Галилей в Падуе направил в ночное небо perspicillum [30]30
Окуляры (лат.).
[Закрыть]о двух линзах – собственно, самую обыкновенную голландскую подзорную трубу, – и посредством тридцатикратного увеличения обнаружил четыре новые планеты.
Трудно передать, что я испытывал, слушая странный сей рассказ. Я был тронут до глубины души. Ваккера переполняла радость и лихорадочный восторг. То вдруг мы оба хохотали от смущения, то он возобновлял рассказ, я слушал неотрывно, этому не было конца. Мы обнимались, мы плясали, а песик Ваккера, которого привез он с собой, скакал кругами, визжал и лаял, а потом, зараженный весельем нашим, вне себя, подпрыгнул и влюбленно обнял мою ногу, как это у собак бывает, облизываясь, скалясь, как безумный, и тут уж мы снова, еще отчаянней расхохотались. Потом мы вошли в комнаты и посидели, немного успокоившись, за пивом.








