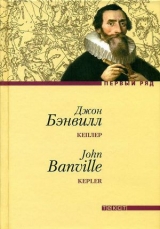
Текст книги "Кеплер"
Автор книги: Джон Бэнвилл
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Он был принят в просторном великолепном зале. Камин был выше него. Бледный свет стекал из громадных окон. На потолке, нависшем диве, среди лепных головок и гирлянд, дух захватывающая овальная картина изображала ангелов в стремленье к божеству, которое сидело на темном облаке, бородатое и злое. Кругом толпились, сновали придворные, как бы исполняя мудреный танец, которого фигуры могли быть видны только оттуда, сверху. Лакей тронул Кеплера за локоть, он обернулся, хлипкий человечек к нему шагнул:
– Реплер?
– Нет, да, я…
– Ну что ж. Мы рассмотрели вашу модель мира, – нежно улыбаясь, – она невнятна.
Герцог Фридрих был дивно облачен в парчовый камзол и бархатные панталоны. Сияли перстни на крошечных руках. Седые волосы на голове торчали короткими пружинками, скупым мазком украсив подбородок. Весь герцог был так гладок, мягок – напомнил Кеплеру о сладком, восковом ядре каштана, нежно прильнувшем к блестящей скорлупе. Он распознал рисунок придворной сарабанды, пред ним было самое ее средоточие. Он что-то залепетал в оправдание своей небесной геометрии, но герцог поднял руку:
– Все это очень верно, и, без сомненья, занимательно, но каков, однако, общийсмысл?
На лакированном столе стояла бумажная модель. Две орбиты отлепились. Царственный палец, заподозрил Кеплер, поковырял в нутре модели.
– Имеется, ваша светлость, – заспешил он, – всего пять совершенных тел, именуемых иначе формами Платоновыми. Они оттого совершенны, что стороны их равны. – Ректор Папиус подивился бы его терпенью. – Из бесконечного множества тел в трехмерном мире лишь пять этих фигур совершенны: тетраэдр, или пирамида, четырьмя равносторонними треугольниками образуемая, куб, из шести квадратов, октаэдр из восьми равносторонних треугольников, додекаэдр, двенадцатью пятиугольниками образуемый, и икосаэдр, который образует двадцать равносторонних треугольников.
– Двадцать, – кивнул герцог.
– Да. Я полагаю, и здесь это представлено наглядно, что в пять интервалов между планетами пять этих тел могут быть… – Его теснили. Мрачный безумец, давешний сотрапезник, пытался протиснуться мимо него к герцогу и все ухмылялся, поджимая губы, – молча извинялся. Иоганнес приставил локоть к его ребрам и ткнул. – …могут быть вписаны… – и ткнул, – …в точном соответствии, – задохнувшись, – с теми расстояниями, какие установлены древними. – Он улыбался; он ловко это выразил.
Безумец опять его теснил, и вдруг он обнаружил, что все они тут как тут, и дама с венерической губой, и садовник Теллус, солдат Каспар, и, уж конечно, завитой парик и, в отдаленье, на кромке танца, мрачный барон. Ну и что с того? Он их всех поставит на место. Вдруг он остро ощутил, как сам он юн, блистателен, до странности легок.
– И таким образом, мы видим, – продолжал он беспечно, – между орбитами Сатурна и Юпитера я поместил куб, между Юпитером и Марсом тетраэдр, между Марсом и Землею додекаэдр, между Землею и Венерой икосаэдр, и смотрите, дайте я вам покажу, – разнимая модель, как разнимают плод, доискиваясь потаенной сердцевины, – между Венерой и Меркурием – октаэдр! Вот!
Герцог хмурился.
– Все ясно, да, – он объявил, – то, что вы сделали и как. Но, вы уж меня простите, могу ль спросить, зачем?
– Зачем? – переводя взгляд с растерзанной модели на маленького человечка перед ним. – Ну… ну, затем, что…
Полоумный смех забулькал у него в ушах.
* * *
Ничего не вышло из его затеи. Герцог допустил, что чашу можно бы отлить, но быстро к ней охладел. Дворцовый злато кузнец выражал сомненья, казначейство сетовало и недоумевало. Он уныло воротился в Грац. Полгода убил, домогаясь барских милостей. Урок ему на будущее, не забыть. Скоро, однако, все это унизительное происшествие оттеснили из его мыслей заботы понасущней.
Один школьный инспектор, медик Обердорфер, вдруг самолично к нему приступился, хитро улыбаясь и – возможно ль? – подмигнув, и просил в назначенный день быть в доме господина Георга Хартмана фон Штубенберга, важного негоцианта. Он туда отправился, решив, что ему закажут гороскоп или очередной из входивших в моду его календарей. Но заказа никакого не последовало. С бургомистром Хартманом он так и не познакомился, но имя это впредь неизменно отзывалось в памяти эхом катастрофы. Час протомился он на лестнице, сжимая кубок кислого вина и придумывая, что бы такое сказать доктору Обердорферу. Внизу, в просторной зале, сходились, расходились разряженные дамы, жирные дельцы, епископ со своим клиром, кавалеристы эрцгерцога в ботфортах до самых ляжек, тяжкие, как кентавры. Кто-то из детей этого Хартмана правил свадьбу. Откуда-то, из дальней залы, струнный оркестр пускал мелодию пучками блестящих и бесцельных стрел. Он нервничал. Его, собственно, по форме не пригласили, ну как окликнут, станут выдворять? И взыскался в нем этот Обердорфер? Доктор, одутловатый, с висячими брылами, крошечными заплывшими глазками, дрожа от предвкушения, оглядывал толпу внизу и, сопя, фальшиво подпевал серебряным раскатам менестрелей. Но вот он поддел Кеплера локтем. Плотная молодая дама в голубом приблизилась к ступеням. Доктор Обердорфер рассиялся.
– А хороша, да?
– Да-да, – бормотнул он, уставясь в одну точку и трепеща, как бы дама снизу не услышала. – Вполне, э-э, хороша.
Обердорфер, искоса шепча, как дурной чревовещатель, клонил большое, тряское лицо, покуда чуть совсем не придавил Кеплерово ухо. – Вдобавок и богата, говорят. – Молодая дама приостановилась и нагнулась, шумно восхищаясь бледным надутым мальчиком в бархатах, но тот упрямо отворачивался, цепляясь за руку няни. На всю жизнь Кеплеру запомнится сердитый этот Купидон. – Папаша, – шипел доктор, – владеет землями, знаете ли, на юге. Говорят, кругленькую сумму ей откажет. – Он еще более понизил голос. – Разумеется, кое-что ей перепало и от ее… – запнувшись, – ее покойных… э-э-э… мужей.
– Ее?..
– Мужей, да. – Доктор Обердорфер прикрыл крошечные глазки. – Весьма прискорбно, весьма прискорбно: дважды вдовица. И такая молодая!
И вот тут до него дошло. Покраснев, он испуганно отпрянул вниз на одну ступеньку. Вдова ему кинула всполошенный взгляд. Доктор говорил:
– Зовут ее Барбара Мюллер – урожденная, хм, Мюллер.
Иоганнес удивленно глянул на доктора, и тот кашлянул:
– Шутка, прошу прощенья. Семейство ее Мюллер – Мюллер фон Гессендорф, – и, по странному совпадению, такова же фамилия ее последнего, самого, да, покойного супруга… – и, невесело хмыкнув, смолк.
– Да? – он пробормотал, уклоняясь от влажного докторского взгляда, и вдруг услышал собственный голос: – Но она толста, пожалуй.
Доктор Обердорфер дрогнул, но тотчас, отважно осклабясь, возразил со слоновьей грацией:
– Пухленькая, милый Кеплер, пухленькая. А зимой так холодно, э? Ха. Ха-ха-ха.
И, твердо ухватив Кеплера под локоть, повел вверх по ступеням, в укромный уголок, где лощеный, угрюмый щеголь, смерив Кеплера надменным взглядом, сказал: «Ну что же, сударь мой», – так, будто он, Йобст Мюллер, это репетировал.
Так началась долгая, путаная, невеселая история его женитьбы. С самого начала пугала его эта пухлая молодая вдова. Женщины для него были – чуждая страна, и языком ее он не владел. Как-то ночью, тому четыре года, проездом в Вайльдерштадте, продувшись в карты, он, чтоб отвести душу, сошелся с тощей особой, девицей, как его удостоверяли. То был единственный его любовный опыт. Потом шлюха хохотала, пробовала на мелкий желтый зубок монету, которой он с нею расплатился. Однако, вне самого акта, этих бешеных лягушачьих бросков к краю водопада, чем-то тронули его узкие бедра, хлипкая грудь, пышная роза, пробивающаяся из-под костей. Она была его меньше;совсем иное дело – фрау Мюллер. Нет-нет, покорнейше благодарим. Чем сейчас-то ему плохо? Уж лучше, он подозревал, чем с женою будет. Потом, когда брак обернулся такой печалью, он чуть ли не во всем винил бесстыдство сделки, жертвой которой стал.
Вдруг обнаружилось, как тесен Грац: все, кажется, будто сговорясь, поспешествовали скороспелому союзу. Порой на физиономии самого города метилась ему похотливая ухмылка. Доктор Обердорфер был главный устроитель, потатчиком был Генрих Озиус, бывший учитель в штифтшуле. В сентябре оба достойных мужа отправились в Мюлек, дабы узнать условия Йобста Мюллера. Тот сперва уклонялся от переговоров, уверял, что вовсе не хочет снова выдавать дочь. Да и кто таков этот ваш Кеплер? Беден, и будущее сомнительно. А происхождение? Сын беспутного солдата, не так ли? Доктор Обердорфер в ответ восхвалял трудолюбие юноши, редкую ученость. Сам герцог, не кто-нибудь, ему оказывает покровительство. Затем Озиус, которого и в дело это вовлекли, собственно, за грубость, помянул о положении фрау Барбары: такая молодая, а уж дважды вдова! Йобста Мюллера перекосило, челюсть затряслась. Ему приелась эта песня.
Переговорщики, довольные, вернулись в Грац. Но тут встало вдруг нежданное и важное препятствие: Штефан Шпайдель, чин в городской управе, приятель Кеплера, объявил себя противником этого союза. Он знает даму, она достойна лучшей участи. К тому же, он по секрету признался Кеплеру, у него на примете для нее один знакомый, тот входит в силу при дворе. Он извинялся, многозначительно водил рукой; ты ведь поймешь меня, Иоганнес? Иоганнес с трудом скрыл облегчение. «О, ну конечно, Штефан, разумеется, я понимаю, речь о твоей совести, и тут дела двора, я очень, очень понимаю!»
Печатание Mysteriumмеж тем успешно продвигалось. Мэстлин добился от ученого совета в Тюбинге благословения на этот труд, приглядывал за работой в Группенбахе. Он прилежно докладывал Кеплеру об окончании каждой главы, сетуя, впрочем, на затраты сил и денег. Кеплер бодро отвечал, что помощь при этих родах принесет неувядаемую славу повитухе.
Он и сам был занят. Школьное начальство, негодуя на то, что полгода он проваландался при Вюртембергском дворе, последовало совету своих инспекторов и сунуло его преподавать риторику и арифметику во второй ступени. Эти классы были пыткой. Ректор Папиус, несмотря на вялые угрозы, никогда не загружал молодого учителя сверх меры – но Папиуса отозвали на медицинскую кафедру в Тюбинген. Сменил его Иоганнес Региус, угрюмый тощий кальвинист. С Кеплером они сразу не поладили. Региус считал его непочтительным, дурно воспитанным; таких надо укрощать – хорошо бы женить щенка. Йобст Мюллер вдруг, со смаком, как объявляет козыря картежник, дал согласье, ибо затея Шпайделя сорвалась, дочь осталась на руках у мюльбекского мельника. У Кеплера упало сердце. В феврале 1597 года была помолвка, и ветреным днем в конце апреля, sub calamitoso caelo, [8]8
Под зловещим небом (лат.).
[Закрыть]фрау Барбара Мюллер, сбросив вдовий траур, вступила в брак в третий и последний раз за свою коротенькую жизнь. Кеплеру было двадцать пять лет, семь месяцев и… но дальше лень было вычислять, да и не хватало духу – учитывая бедственное расположенье звезд.
Брачный пир, после краткой церемонии в университетской церкви, имел место в доме, унаследованном Барбарой, на Штемпфергассе. Йобст Мюллер, по заключенье сделки опять себе позволив роскошь хамства, объявил, что не допустит в собственном доме, при домочадцах своих и слугах, такого посрамления родового имени. Он откинул Кеплеру хорошенькую сумму, уступил ему виноградники и право растить дочь Барбары, Регину. Чего ж еще? Все утро он просидел в молчании, хмурясь из-под шляпы, мрачно надуваясь собственным, мюлекским вином. Кеплер, при виде его печали, выжимал из свадьбы капли горького удовлетворения, то и дело соблазняя тестя на тост, обнимал его за плечи, умолял спеть, спеть с ним дуэтом добрую старую гессендорфскую балладу.
Тестя он подзуживал, честно говоря, уклоняясь от общества жены. Они едва ль обмолвились хоть словом, почти не видались в долгие месяцы переговоров и сегодня, случайно вдруг столкнувшись, немели от смущенья. Она, он хмуро отмечал, пожалуй что сияла, да, это точное слово. Лицо хорошенькое, но какое-то пустое. И она хихикала. Но все же, когда, под звон бокалов, он прижал неловкие ладони к этой влажно дрожащей шее и, в угоду публике, поцеловал жену, вдруг обнаружил, что обнимает что-то живое, странное, существо будто иного вида, почуял жаркий, острый запах и часто задышал. Он стал глушить вино стаканами и скоро до беспамятства напился. Но страх не проходил.
Впрочем, в последовавшие недели, месяцы он был почти счастлив. В мае пришли из Тюбингена первые экземпляры Mysterium.Тощий томик тешил душу. Радость, правда, мрачилась легким облачком стыда, будто он совершил неловкий, опрометчивый поступок, которого весь ужас покуда не замечен небрежной публикой. То был первый знак снисходительного отношенья к книге, из-за которого – но это потом, потом – она ему казалась произведением беспечного, хотя и вдохновенного дитяти, каким он смутно себя припоминал. Экземпляры он раздал избранным астрономам, немногим влиятельным штирийцам, которых знал, но все они, как это ни печально, отнюдь его не оглушили кликами восторга.
Томики, ему положенные по договору с печатником, встали в тридцать три флорина. До женитьбы он бы такого не осилил, но теперь-то он был, кажется, богат? Кроме суммы, какую отказал ему Йобст Мюллер, годовое жалованье повысили на пятьдесят флоринов. Но это все были пустяки в сравненье с состоянием жены. Ему так и не удалось при ее жизни дознаться, сколько в точности она унаследовала, но, уж конечно, больше даже, чем представлялось сватам в самых отчаянных мечтах. Регина получила десять тысяч по смерти отца, Вольфа Лоренца, краснодеревщика, первой Барбариной прорухи. Если уж ребенку досталась такая уйма, сколько ж денег у жены? Он потирал руки, довольный, и сам себя стыдился.
Но есть и богатство иного рода, более осязаемое, чем деньги, столь же легко проматываемое, – страсть, и набухали почки страсти. Барбара, при щебете, при недалекости, была – плоть, телесный мир. Иоганнес вступал в этот мир и видел, какой он удивительно живой, совсем иной, незнаемый, и все-таки знакомый. Он загорался от ее огня, от запаха, от солоноватого вкуса кожи. Так сделалось не сразу. Первые опыты были – сплошной провал. Брачной ночью, на просторном ложе под балдахином, в спальне, глядящей на Штемпфергассе, они со стуком сталкивались в темноте. Он будто бился с тяжелым, горячим трупом. Она на него наваливалась, вонзала локоть ему в грудь, и как он, ей-богу, только жив остался, а кровать скрипела и стонала, будто это прежний владелец, бедняга Маркс Мюллер, горько плакал у себя в замогильной стороне. Когда союз был наконец скреплен, она отвернулась и сразу же заснула, однозвучно, яростно храпя. Только уж много месяцев спустя, когда кончилось лето и с Альп задул холодный ветер, они обрели друг друга – ненадолго.
Ему запомнился тот вечер. Был сентябрь, желтели, жухли листья. Он распрямился после славных дневных трудов и вошел в спальню. Барбара мылась в лохани, под треск углей, задумчиво намыливала вытянутую розовую ногу. Он поскорей отвел глаза, но она глянула, улыбнулась, ошеломленная жарой. Узкий сноп закатного солнца, потускнелого до старой меди, улегся поперек постели. «Уф», – фыркнула она и поднялась в каскадах мыльной пены, скользящей вниз воды. Впервые он видел ее совершенно голой. Голова странно сидела на незнакомом, обнаженном теле. Розовея в облаке пара, она себя выказывала всю: тяжелый зад, крепкие икры, натуженные, как для прыжка, кудрявую бородку силача, поблескивающую между ног. Груди испуганно торчали, наморщив темные соски. Он к ней приблизился, одежда с него спала, как шелуха. Она поднялась на цыпочки, посмотрела через его плечо на улицу, закусив губу, засмеялась нежно: «Вдруг увидят,Иоганнес». Ее лопатки оставили мокрый оттиск крыл на простыне. Медный меч солнца их сразил.
И много чересчур, и вместе маловато. Самые сокровенные тайны своего склада выдали они заговору плоти. Очень не скоро он это понял; Барбара так и не поняла. У них так мало было общего. Ей бы попытаться понять хоть что-нибудь в его трудах, но они ей были не по зубам, и за это она их не терпела. Ему бы тоже разузнать, спросить – про прошлое, про Вольфа Лоренца, богатого мастерового, проверить слухи, по которым Маркс Мюллер, окружной казначей, растратил казенные деньги, но с самого начала то были запретные темы, ревность часовым стерегла покой мертвецов. Так двух чужих людей накрепко связали узы не их выделки, и скоро они стали друг друга ненавидеть, будто ничего естественнее нет на белом свете. С сомненьем, робко, Кеплер поворачивался душой к Регине, ей предлагал излишек, невостребованный в браке: дочь как будто застыла на той ступени уважения и сочувствия, какую в матери он проглядел. И Барбара, все видя и ничего не понимая, злилась, хныкала, а то и поколачивала дочку. И все больше она посягала на его время, затевала дурацкие, бессвязные беседы, вдруг ударялась в слезы. Однажды ночью он застал ее на кухне: скорчась, пожирала маринованную рыбу. Наутро она вдруг без памяти осела у него в руках, чуть самого его не сбила с ног. Она затяжелела.
Срок свой она уснастила, как водится, обильными тревогами и щедрыми слезами. И – как ни раздулась – стала пугающе красива. Как будто создана была для такого состояния, древнего, простого; как будто именно с этим огромным брюхом, висячими грудями, только и достигла гармонии. Кеплер ее избегал; она теперь особенно его пугала. Дни свои он проводил, затаившись в кабинетике, кое-как работал, писал письма, вновь и вновь проверял упорно не сходившиеся расчеты, то и дело поднимал голову, боясь услышать грузную поступь своей богини.
Она начала рожать прежде времени, вдруг, однажды утром разразилась пронзительными воплями. Боль обрушивалась на дом – волна за волной. Прибыл доктор Обердорфер, поднялся по лестнице, подтягиваясь на черной своей трости, как истомившийся гребец. Кеплеру показалось, что он, пожалуй, смущен, будто застукал за постыдной шалостью двоих, чьи отуманенные судьбы сам помог скрутить. Два дня длились роды. Лил февральский дождь, темня окружный мир, и оставался только дом, в котором билась боль. Он метался из угла в угол в смятенье и тоске, ломая руки. Ребенок родился в полдень, мальчик. Большим, беззаботным цветком расцвело в душе счастье. Он держал в руках мягкое, подрагивающее крошечное существо и понимал, что преумножен. «Мы назовем его Генрих, – он бормотал, – в честь моего брата, – но ты будешь лучшим, более благородным Генрихом, правда?» Барбара, бледная на окровавленной постели, пусто на него смотрела сквозь пелену боли.
Он составил гороскоп. Гороскоп сулил все мыслимые блага – после некоторых поправок. Ребенок будет весел, бодр, окажет способность к математике, механике, будет богат воображением, прилежен и прелестен. О, прелестен! Шестьдесят дней длилось счастье, а потом снова дом пронзили крики, слабенькое эхо жуткого воя Барбары, и снова подтягивался на трости доктор Обердорфер, и Кеплер схватил младенца на руки и молил не умирать, не умирать, не умирать! Он накинулся на Барбару, она ведь знала, знала, та боль могла ей подсказать, что все не ладно, она ж его ни словом не предупредила, сука злая! Доктор щелкал языком, стыдно, сударь, стыдно. Кеплер и на него набросился. А вы… вы!.. В слезах, ослепнув, он отвернулся, прижимая к себе это существо, а оно дергалось, и кашляло, и вдруг, как в изумлении вздрогнув, умерло: его сын. Горячая, мокрая головка моталась у него в руке. Какой безжалостный игрок ему закинул этот нежный мяч печали? Он узнает новые утраты, но никогда больше такой – как будто часть тебя, слепая, стонущая, вползает в смерть.
* * *
Дни его померкли. Смерть сына продырявила ткань бытия, и сквозь дыру сочилась чернота. Барбара была безутешна. Пряталась в темных комнатах за сдвинутыми ставнями, таилась по углам, даже под одеялом, себя терзала, без звука, разве что изредка уронит едва слышный сухой всхлип, будто кто поскреб ногтями, – у него волосы вставали дыбом. Он оставил ее в покое, сам затаился в своем укрытии, ждал, что же еще будет. Игра, про которую они и не догадывались, что игра, – игра окончилась; вдруг жизнь взялась за них всерьез. Вспоминалось, как в детстве впервые его поколотили: мать – огромная, чужая, красная от злости, и эти ее кулаки, и удивительная яркость боли; мир вдруг опрокинулся, мир стал другим. Да, но теперь похуже, теперь он взрослый, и вот – окончилась игра.
Год повернулся, прошла зима. На сей раз весне не удалось его завлечь обманными мечтами. Что-то втайне затевалось, он чуял: из ветров, из облаков, из грачиного грая собиралась буря. В апреле молодой эрцгерцог Фердинанд, правитель всея Австрии, совершил паломничество по Италии и там, в святилище Лорето, в порыве благочестия поклялся, что изведет протестантскую ересь в своих пределах. Лютеранскую провинцию Штирию трясло. Все лето нависали над ней угрозы и тревоги. Собиралось войско. В конце сентября закрылись церкви, школы. И наконец, был издан столь долго ожидаемый эдикт: духовенство лютеранское, а также еретики-учителя должны покинуть Австрию в течение недели, иначе – инквизиция, иначе – смерть.
Йобст Мюллер примчался из своего Мюлека. Он перешел к католикам и полагал, что зять без промедления последует его примеру. Кеплер фыркнул. Ничего подобного я делать вовсе не намерен, сударь; моя церковь реформаторская, другой не признаю, – он удержался, не прибавил: На том стою! [9]9
Имеются в виду знаменитые слова Лютера: «На том стою и не могу иначе».
[Закрыть]– это было б слишком. Да, смелые слова. Но, куда там, он не был уж такой храбрец. Мысль об изгнании его пугала. Куда податься? В Тюбинген? В Вайльдерштадт, в материнский дом? Барбара с нежданным жаром объявила, что никуда не тронется из Граца. Значит, и Регина для него потеряна; все, все потеряно. Нет, нет, это немыслимо. Пришлось, однако же, помыслить: собрана поклажа, взята у Шпайделя кобыла. Он едет в Тюбинген, к Мэстлину, и будь что будет. Прощай, прощай! Поцелуй Барбары, соленый с горя, попал ему в ухо. В трясущиеся руки она ему совала свертки: еду, флорины, чистое белье. Регина осторожно подошла, ткнулась лицом в плащ, шепнула что-то, он не расслышал, не стала повторять, так вот и выпадет навек, навек то золотое узкое звено из его жизни. Слепой от слез, метался он – от дверей к кобыле, снова к дверям, не в силах наконец решиться, охлопывал карманы, искал платок – из носу текло, – что-то невнятно, тоскливо выкликал. Но вот он плюхнулся в седло, мокрым мешком, и лошадь понесла его долой, из города в некстати рассиявшийся лазурью с золотом октябрьский день.
Он скакал к северу вдоль долины Мура, с опаской поглядывая на снежные вершины Альп, все выше выраставшие по мере приближенья. Дороги не были пустынны. С ним рядом трусил другой путешественник, Винклеман по фамилии. Еврей, ремеслом точильщик линз, житель Линца: землистое лицо клином, жидкая бородка, темные смешливые глаза. Когда спустились в Линц, лил дождь, шла оспинами сталь Дуная, Кеплеру было скверно. Еврея разжалобил печальный путник – кашель, дрожь, синие ногти, – он его пригласил к себе, на денек-другой, отдышаться перед тем, как подастся на запад, к Тюбингену.
Дом еврея прятался в узкой улочке подле реки. Винклеман показал гостю мастерскую, длинную низкую комнату, печь в глубине, над которой гнулся толстый малый. Пол, верстаки – все было завалено поломанными формами, замасленным тряпьем под синеватой мучнистой пленкой. Слезы, наплаканные стеклом, мерцали под ногой. В низкое окно, глядевшее на мокрые булыжники, на коньки крыш, на гавань вдалеке, тек свет, бледный и зернистый, под стать работе, которая здесь исполнялась. Кеплер покосился на полку с книгами: Нострадамус, Парацельс, Magia naturalis. [10]10
Естественная магия (лат.).
[Закрыть]Винклеман, глядя на него с улыбкой, в темной руке держал кусок отуманенного хрусталя.
– Вот, превращенье, – он объяснил. – Умопостигаемое волшебство.
Малый за спиной у них согнулся над мехами, и заурчало красное жерло. У Кеплера голова гудела от горячки, и показалось, что его нежно коснулся кто-то – большой, крылатый.
Взобрались на верхний этаж, в узкие, тесные комнатушки, где ютилось еврейское семейство. Жена Винклемана, вдвое его моложе, бледная и пухлая, как голубь, им подавала ужин: сосиски, пиво, черный хлеб. Странный, сладковатый запах висел над ними. Сыновья, бледные мальчики с лоснистыми косицами, торжественно встали и приветствовали отца и гостя. Кеплер словно угодил в старинный, полузабытый ритуал. После еды Винклеман вынес трубки. Впервые Кеплер закурил; новое что-то, не вовсе не приятное, пролилось по жилам. Дали ему и вина, прослоенного опием и мандрагорой. Сон в ту ночь нес его буйным скакуном по хлябям мрака, но утром, когда проснулся – выкинутый из седла, – он был здоров. Он был озадачен, но спокоен: его подвергли действию загадочной, блаженной силы.
Винклеман показывал орудия своего ремесла, тончайшие выколотки, оселки и буры вороненой стали. Показывал образчики стекла всех форм, от песка до граненой призмы. Кеплер в ответ выкладывал свою систему мира, теорию пяти правильных тел. Сидели на длинной скамье под оконной паутиной, за спинами у них зияла печь, и снова он испытывал ту радость и легкое смущенье, каких не ведал со времен студенчества в Тюбингене, первых споров с Мэстлином.
Еврей читывал Narratio prima [11]11
Первый рассказ (лат.).
[Закрыть]Лаухена, о Коперниковой космологии. Новые теории озадачивали его и забавляли.
– Но полагаете ли вы их истинными? – домогался Кеплер; старый вопрос.
Винклеман пожал плечами.
– Истинными? Вот с этим словом я не в ладах. – Когда улыбался, еще очевидней становилось, что он еврей. – Возможно – да, Солнце в центре, видимое божество, как утверждает Трисмегист. Но когда доктор Коперник это нам доказывает в знаменитой своей системе, что, я вас спрашиваю, что здесь такого удивительного, чего б мы не имели прежде?
Кеплер не понял.
– Но наука, – он хмурился, – наука есть способ познанья.
– Познанья, да: но как насчет пониманья? Сейчас я вам объясню, в чем разница между евреями и христианами, вы слушайте. Прежде чем высказано, названо, ничто для вас не существует. Для вас все – слова. Да сам ваш Иисус Христос – слово, ставшее плотью!
Кеплер улыбался. Смеются над ним, что ли?
– Ну а у евреев как?
– Есть шутка старая, будто бы Бог в начале сказал избранному народу все, все, но ничего не объяснил, так что теперь мы все знаем, но ничегошеньки-то мы не понимаем. Да и не такая уж это шутка, если подумать. Есть в нашей религии такое, чего мы не называем, имени чего не произносим, ибо сказать, назвать… значит повредить. Может, и с вашей наукой то же?
– Но… повредить?
– Ну, я не знаю, – пожатье плеч. – Кто я такой? Простой точильщик линз. Теорий этих ваших, этих ваших систем не понимаю, да стар уж – изучать. Но вы, мой друг, – опять он улыбнулся, и Кеплер понял: над ним смеются, – вы созданы для великого, это мне ясно.
Там-то, в Линце, под веселым темным оком Винклемана, он и услышал смутный гул великой пятинотной гаммы, положенной в основу музыки сфер. Во всем, во всем он теперь видел соотношения, без коих мир немыслим, – в законах архитектурных, в живописи, в метре поэтическом, в причудах ритма, да что! – в самих красках, запахах, оттенках вкуса, в соразмерностях тела человеческого. Серебряная, тонкая струна все туже в нем натягивалась и звенела. Вечерами сидел он с приятелем над мастерской, пил, курил трубку, и говорил, и говорил, и говорил. Он уже вполне оправился, мог ехать в Тюбинген, но не трогался с места, все оставаясь в Австрии, где люди эрцгерцога могли всякий миг его схватить. Еврей его наблюдал, спокойно, тихо, и порою сквозь винный, сквозь табачный туман казалось Кеплеру, что этим тихим, сторожким взглядом из него медленно и нежно тянут что-то – бесценный, неосязаемый состав. И лезли в голову Нострадамус и Альберт Великий, [12]12
Альберт Великий (1193–1280) – немецкий философ и теолог, схоласт, последователь Аристотеля и Фомы Аквинского.
[Закрыть]чьи тома жили на полках у еврея, и думалось о тех молчаньях, о шепотах за прикрытыми дверями, о серых формах, клубящихся туманно, какие ему сквозили в опечатанных сосудах в мастерской. Или его хотят околдовать? При этой мысли становилось жарко, он чувствовал неловкость, вроде той, что заставляла отворачиваться от подкаблучной улыбочки еврея, с какою тот поглядывал порой на юную жену. Да, вот оно, вот – изгнанье.
И оно кончилось. Из непогожего рассвета к двери Винклемана прискакал посол от Штефана Шпайделя. Кеплер, зябнущий, босой, не стряхнув остатков сна, стоя на сыром ветру, трясущимися пальцами сломал знакомую печать управы. Конь, жевавший удила, сронил с губ пену ему на бровь. Эрцгерцог согласился в общей высылке сделать исключенья. Кеплер может воротиться.
Потом уже, потом, на досуге он распутывал клубок заступничеств, которые его спасли. Иезуиты, по собственным, невесть каким резонам, сочувствовали его трудам. Как раз через иезуита, брата Фринбергера из Граца, баварский канцлер Герварт фон Гоенбург, католик и схоласт-любитель, когда-то с ним выяснял вопросы космологии в некоторых древних текстах. Они сносились через баварского посла в Праге и секретаря эрцгерцога Фердинанда, капуцина Петера Казала. И потом – Герварт ведь служил герцогу Максимилиану, кузену Фердинанда, и оба эти благородных господина вместе учились в Ингольштадте, под началом Иоганна Фиклера, близкого друга иезуитов и уроженца Вайльдерштадта, где родился Кеплер. Так расходились нити паутины. Подумать только, повсюду у него заступники! Но почему-то эта мысль не грела.
Он вернулся, втайне разочарованный. Дай срок, изгнание могло бы принести плоды. Штифтшуле по-прежнему была закрыта, он был свободен – хоть это на худой конец. Но Грац для него был кончен, исчерпан безвозвратно. Тучи слегка рассеялись, кое-кто понемножку возвращался, но он считал за благо оставаться дома. В ноябре Барбара объявила, что снова понесла, и снова он заточился в святилище чулана.
Он накинулся на занятия, пожирал новых и древних авторов, Платона, Аристотеля, Николая Кузанского, флорентийцев. Винклеман дал ему томик кабалиста Корнелия Агриппы, которого мысли были так странны, но так ему сродни. Он вернулся к своей математике, тончайше заточил сей инструмент, которым прежде размахивал, как дубиной. С новым жаром он обратился к музыке; Пифагоровы законы гармонии его преследовали. Как прежде задавался он вопросом, отчего в Солнечной системе именно шесть планет, так сейчас терзался тайной музыкальных отношений: отчего, скажем, отношенье 3:5 чревато гармонией, а не 5:7, к примеру? Даже и астрология, столь долго им презираемая, вдруг обретала новое значение благодаря своей теории расположения небесных тел. Мир был полон знаков, форм. Он, обмирая, дивился сложности медовых сот, строению цветка, дурманящему совершенству снежинок. То, что начиналось в Линце как игра ума, теперь проняло его и захватило.








