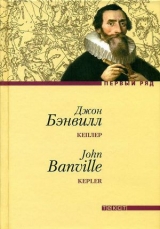
Текст книги "Кеплер"
Автор книги: Джон Бэнвилл
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Новый год славно начинался. Среди бури нахлынувших исканий, в самой сердцевине царил покой. Потом, однако, стали собираться тучи. Снова закрутился религиозный вихрь, пуще прежнего. Эдикт издавался за эдиктом, и все свирепей. Лютеранские обряды во всех видах запрещались. Детей надлежало крестить по католическому чину, отдавать в ученье только к иезуитам. Потом принялись за книги. Лютеранские сочинения искореняли и сжигали. Дым пологом висел над Грацем. Воздух гудел угрозой, Кеплер содрогался. Вот, книги жгут, куда же дальше? Авторов сжигать? Все стронулось, покатилось. Его будто связали по рукам и ногам, бросили в жуткую какую-то машину, и она скорей, скорей, скорей неслась к пропасти. Ребенок, девочка, родилась в июне. Нарекли Сюзанной. Ему приснился океан. Наяву он никогда его не видел. То был огромный, млечный покой, незыблемый и страшный, и горизонт был непредставимо тонкой, четкою чертой – трещиной в земной скорлупе. И ни движения, ни звука, ни живой души, только сам океан был, кажется, живой. Страшный сон. И долго, неделями неотвязно его мучил. Июльским вечером, белым, тихим, как океан в том сне, он воротился на Штемпфергассе после одной из своих редких вылазок в устрашенный город и остановился перед домом. Девочка играла обручем, старуха ковыляла прочь с корзиной по другой стороне улицы, пес глодал косточку в канаве. И почему-то он обмер, похолодел от этой сцены: старательная наивность, с какой была она поставлена в безбрежном разливе света, – казалась предостереженьем. В прихожей доктор Обердорфер его встретил скорбным, потрясенным взглядом. Младенец умер. Воспаленье мозга, то же, что убило маленького Генриха. Он стоял у окна спальни, смотрел, как меркнет день, смутно слышал, как за спиной отчаянно рыдает Барбара, и с ужасом прислушивался к собственному уму, в котором, независимо от сердца, рождалась мысль: теперь прервется моя работа. Он сам отнес крошечный гробик к могиле, осаждаемый видами распрей и упадка. С юга доносили, что турки собирают под Веной шестисоттысячное войско. Католический совет обложил его штрафом в десять флоринов за то, что похоронил ребенка по лютеранскому обряду. Мэстлину он написал: Жена моя безутешна, а сердцу моему близки слова: О, суета сует…
Йобст Мюллер опять явился в Грац, требуя от Кеплера, чтоб переменил веру: пусть переменит веру, а то пусть проваливает, на сей раз навсегда, а он увезет дочь и Регину с собою в Мюлек. Кеплер не удостоил его ответом. Явился и Штефан Шпайдель, тонкий, холодный, с поджатыми губами, в черном. Он привез от двора дурные вести: на сей раз не будет исключений. Кеплер был сам не свой.
– Но что мне делать, Штефан, что мне делать? И мое семейство! – тронул приятеля за ледяную руку. – Ты оказался прав, не надо было мне жениться, я не браню тебя, ты оказался прав…
– Знаю.
– Нет, Штефан, я настаиваю… – Он помолчал, он ждал, и вот отчетливо услышал треск: еще одна ниточка оборвалась. Шпайдель дал ему почитать Платонова «Тимея» в день первой встречи, у ректора Папиуса; не забыть отдать. – Ну да… – устало. – О Господи, что же мне делать.
– Но остается Тихо Браге? – сказал Штефан Шпайдель, снял призрак соринки со своего плаща и отвернулся – от Кеплера, прочь, навсегда, вон из его жизни.
Да, оставался Тихо Браге. С июня тот осел в Праге, придворным математиком при императоре Рудольфе, с жалованьем в три тысячи флоринов. Кеплер получал от него письма, датчанин зазывал попользваться царскими даяниями. Но Прага! За тридевять земель! Однако – каков же выбор? Мэстлин написал: на место в Тюбингене никаких надежд. Век близился к концу. Барон Иоганн Фридрих Гофман, советник императора, когда-то покровитель Кеплера, проездом в Граце, пригласил молодого астронома присоединиться к его свите на пути обратно в Прагу. Кеплер сунул пожитки, жену и падчерицу в шаткую колымагу и, в первый день нового столетья, несколько дивясь сей дате, отправился в свою новую жизнь.
Путь был ужасный. Ночевали в прогнивших крепостях, на кишащих крысами биваках. Горячка к нему вернулась, и долгие мили провел он в полубреду, в дремоте, и Барбара его расталкивала, маяча над ним, как сонное виденье: боялась, что он умер. Он скрипел зубами. «Мадам, ежели вы не перестанете меня мучить, ей Богу же, я надеру вам уши». И она рыдала, а он стонал и обзывал себя бешеным псом.
Стоял февраль, когда они добрались до Праги. Барон Гофман поместил их у себя, снабдил деньгами, дал Кеплеру пристойный плащ и шляпу для встречи с Тихо Браге. Но Тихо все не объявлялся. Прага Кеплеру пришлась не по нутру. Скособоченные, неопрятные домишки, кое-как сляпанные из глины, соломы и нетесаных досок. На улицах стояли лужи нечистот, висела густая вонь. В конце недели явился сынок Тихо Браге, в обществе Франса Гранснеба Тейнагеля, оба пьяные, злые. Привезли от датчанина письмо, вместе формальное и льстивое, с излияниями: как-де он сожалеет, что сам не встретил гостя. Тиго и его приятель-кавалерист должны были его доставить в Бенатек, но ради собственных услад проваландались в городе еще неделю. Шел снег, когда наконец пустились в путь. Замок стоял от города в двадцати милях, посреди плоского поемного луга. Все утро Кеплер протомился в гостевой, и в полдень, когда за ним пришли, он спал. По каменным ступеням твердыни он спускался во власти страха и горячки. Тихо Браге был великолепен. Хмуро оглядел дрожащую фигурку и заговорил:
– Мой лось, сударь, мой ручной лось, к которому питал я великую любовь, загубленный небреженьем хама-итальянца…
Манием руки в парче гость был отметен к высокой стене, где предстояло завтракать. Уселись.
– …свалился с лестницы в Вандсбекском замке, где они заночевали, вылакал кастрюлю пива, он говорит, сломал ногу и умер. Мой лось!
Огромное окно, блеск солнца на реке, в затопленных лугах, синяя даль за всем за этим, и Кеплер улыбался, Кеплер кивал, как заводной болванчик, а в голове вставали: понапрасность прошлого, пугающая будущность, и 0.00 что-то что-то 9.
II ASTRONOMIA NOVA
Хорошенького понемножку! Довольно! Хватит! Он низринулся по крутым ступеням и запнулся, в злом смятенье оглядывая двор. Хромой конюх толкал тележку, харкал, сплевывал. Две судомойки опорожняли лохань мыльной пены. Мелкую сошку из него решили сделать, о Господи, подмастерье подмастерья! «Герр Кеплер, герр Кеплер, куда же вы, одну минуточку…» Барон Гофман, пыхтя уныло, поспешал за ним. Тихо Браге оставался наверху, с прилежным безразличием озирая даль.
– Да? – сказал Кеплер.
Барон, красноглазый, седенький, распростер бессильные ладони.
– Надо дать ему время, понимаете ли, дать ему возможность рассмотреть ваши требования.
– Он, – повысив голос, перекрывая лай вдруг расходившихся собак, – он уже месяц тянет, больше даже. Я поставил свои условия. Я прошу простого уваженья. И ничего не могу добиться!
И – еще громче, обернувшись, бросил по ступеням вверх:
– Ничего!
Тихо Браге, все озирая даль, чуть приподнял брови, вздохнул. Собачья свора – жадные твари – восторженно повизгивая, хлынули из конур и затопили двор: полоумный оскал, низкая посадка, тугие красноватые мошонки. Кеплер метнулся было вверх, но застыл под взглядом Браге Грозного. С веселой злостью, натягивая рукавицы, датчанин глядел на него сверху вниз. Барон Гофман кинул властителю Бенатека последний просящий взор, потом, пожав плечами, Кеплеру:
– Так вы не остаетесь, сударь?
– Нет, не остаюсь. – Но голос дрогнул.
Тейнагель и юный Тиго вышли, щурясь на свету, не совсем проспавшись после вчерашней пьянки. Однако прояснели, увидя незавидное положенье Кеплера. Конюхи выводили лошадей. Собаки, было затихшие, задумчиво подрагивавшие языками, вновь разъярились, заслышав зобный зов рожка. Пыль поставила по ветру парус и, серебрясь, лениво поплыла к воротам, смеялась женщина, перегибаясь через балконные перила, но вдруг небо расселось, окатило Бенатек апрельским солнцем, и парус пыли вмиг позолотел.
Барон удалился, дабы распорядиться своей каретой. Кеплер думал. Что остается, если отвергнуть этот позор покровительства Тихо? Былого нет уже, кануло, пропало, Тюбинген, Грац – всё пропало, всё. Датчанин, запустив за пояс оба больших пальца, остальными барабаня по крутому склону брюха, двинулся вниз. Барон Гофман высадился из кареты, Кеплер, бормоча, его дергал за рукав:
– Я хотел бы, я хотел бы… – и бормотанье.
Барон приложил ладонь к уху:
– Шум, знаете ли, я не вполне…
– Я хотел бы, – крик, – попросить прощения. – На миг прикрыл глаза. – Простите меня, я…
– О, да нет нужды, уверяю вас.
– Что?
Старик сиял.
– Я счастлив вам помочь, герр профессор, чем могу.
– Нет-нет, перед ним,я разумею, перед ним.
О, Богемия, Богемия, – и это ты, венец моих стремлений! Браге с трудом взгромождался на коня, подсаживаемый двумя с натуги дрожащими лакеями. Барон Гофман и астроном с сомнением наблюдали: вот, кряхтя, свалился на напряженный круп, сверкнув им в лица обтянутым кожей задом. Барон вздохнул, шагнул, заговорил. Тихо, распрямясь и отдуваясь, хмуро слушал. Тейнагель и сынок Браге, осушая чаши на дорожку, смотрели весело. Склока между Тихо Браге и новейшим его помощником стала притчей во языцех в замке, едва Кеплер туда явился месяц тому назад. Рог прозвенел, охота с Тихо посредине двинулась шумной, огромной махиной – прочь, оставя по себе бурый вкус пыли. Барон Гофман уклонялся от жадного взгляда Кеплера. «Я заберу вас в Прагу», – он промямлил, прямо-таки нырнув в укрытие своей кареты. Кеплер тупо кивал, а из взвихренного воздуха вокруг глядел на него бледный ужас. Что я наделал?
Затарахтели по узкой горной тропке. В небе над Бенатеком повисла туча, но охота, вклинившись в поля, еще была под солнцем. Кеплер в душе всем им желал самой досадной неудачи, а датчанину – хорошо и шею бы сломать. Барбара, втиснувшись рядом на узкое сиденье, клокотала от немого гнева, вскипала обвинениями (что ты наделал?).Смотреть на нее не хотелось, но неприятно, трудно было и долго наблюдать подрагивавший вид за окном кареты. Несчетные озерца, ежегодно затопляемая низина (то, что Тихо окрестил в письме Венецией Богемской!) – все это терзало усталые глаза ртутным блеском и дрожью сизой дали.
– …что он, конечно, – продолжал барон, – примет извиненья, но только ему, э-э, хотелось бы, чтоб они были представлены в письменном виде.
Кеплер на него уставился.
– Он требует… – глаз замигал, затрясся локоть: чертов танец, – …он требует от меня письменных извинений?
– Ну да, так он сказал. – Барон переглотнул и отвернулся с кривой ухмылкой. Регина, сидя рядом, пристально его оглядывала, как оглядывала всех взрослых – а вдруг он невесть что выкинет, ударится в слезы, запрокинет голову, взревет по-обезьяньи. Кеплер тоже на него смотрел и грустно думал, что этот человек, в сущности, звено, его связующее с Коперником: в юности барон нанял Валентина Отто, ученика фон Лаухена, чтоб обучаться математике. – И еще он требует обещания тайны, то есть… чтоб вы поклялись, что не откроете… другим… ни единого сведения астрономического, какое он вам вверит для вашей работы. Особенно ревниво, я полагаю, он оберегает наблюдения за Марсом. В обмен же он вам обещает повлиять на императора, чтобы тот либо обеспечил продолжение вам выплат жалованья в Штирии, либо сам выплачивал пособие. Таковы его условия, герр Кеплер. Я бы вам советовал…
– Их принять? Да-да, конечно, я согласен.
Отчего бы нет? Он устал защищать свое достоинство. Барон на него смотрел во все глаза, и Кеплер сморгнул: что в этом водянистом взоре, не презренье? О, черт, да что он знает, Гофман, о том, каково это – быть нищим и отверженным? У самого-то земли, титул, место при дворе. Порой от этих сладких аристократов его тошнило.
– Ну а как насчет нашихтребований, нашихусловий? – влезла Барбара. Никто ей не ответил. И почему это так, пришла мысль Кеплеру, слегка кольнув виной, – почему самые горячие ее порывы вечно натыкаются на тот же стылый взгляд, мычанье, молчанье? Карета, встряхнувшись, накренилась на ухабе, снаружи донеслась цепь смачных непристойностей: возница виноватил свою лошадку. Кеплер вздохнул. Сей мир был кое-как сколочен из обломков бесконечно более тонкого, незабвенного обиталища; все части драгоценны и прелестны так, что сердце рвется, но не прилажены одна к другой.
Баронский дом стоял на Градчанах, высоко, у самого дворца, через Клейнсайт глядя на реку, на еврейский квартал и дальше, на предместье Старого города. В саду имелись тополя, тенистые аллеи, пруд, кишащий ленивым карпом. Северные окна смотрели в сторону дворца, на волнистые луга, рыжую стену, на небо, проткнутое шпилем, лиловые флажки, мелко дрожавшие в испуганном просторе. Однажды в этих окнах на миг незабываемо мелькнули: гарцующий конь, пес на задних лапах, горностай, изумруд, черная борода, бледная рука, печальный глаз. Так только за все это долгое время он и сподобился увидеть императора.
В библиотеке жена барона, сидя у бюро, присыпала пергамент мелом из рожка слоновой кости. Когда они вошли, она встала, легонько подула на страницу и оглядела их со слабым подобием улыбки.
– О доктор… и фрау Кеплер… вы к нам вернулись. – Увядшая орлица, выше мужа, но тощая, как он, в атласах сине-стального блеска, делила вниманье поровну между посетителями и письмом в руке.
– Душа моя, – пролепетал барон, кланяясь привычно.
Немного помолчали, потом опять – улыбка.
– А доктор Браге, он не с вами?
– Сударыня, – выпалил Кеплер. – Этот человек со мной жестоко обошелся. Ведь сам же он звал меня, он молилприехать к нему в Богемию; и я приехал, а он со мною обращается, как с жалким подмастерьем!
– Вы не поладили с нашим добрым датчанином? – тут баронесса устремила свое внимание уж целиком на Кеплера. – Но это очень жаль. – Регина, уловив шелковистый шелест угрозы в ее тоне, высунулась из-за материнского плеча, чтобы получше разглядеть эту важную, большую, синюю даму.
– Я ему представил, – говорил Кеплер, – ему представил список некоторых условий, какие он должен принять, если он хочет, чтобы я остался и с ним работал, например, я потре… я попросил, чтоб меня с семейством поместили отдельно (там наше житье, ей-богу, прямо сумасшедший дом) и чтобы известное количество еды…
Тут выскочила Барбара:
– И дров!
– И дров, чтоб выделялись особо…
– Для наших нужд, верно.
– …для наших, да, нужд, – бешено протрубил он. Вот бы ее ударить – представил себе звонкий стук ладони по пухлому плечу, и во рту скопилась сладкая слюна, – я просил, погодите-ка, я просил, да, чтоб он исхлопотал для меня жалованье у императора…
– Его величество, – поспешно лепетнул барон, – его величество… туг на уговоры.
– Смотрите, сударыня, – пропела Барбара, – смотрите, до чего нас довели, пропитанья себе клянчим. А вы были так добры, когда мы в первый раз приехали, вы нас пригрели…
– Да, – рассеянно кивнула баронесса.
– Но разве, – вскричал Кеплер, – я вас спрашиваю, сударь, сударыня, разве эти требования чрезмерны?
Барон Гофман медленно усаживался.
– Мы вчера об этом совещались, – он глянул на синий и атласный женин подол, – доктор Браге, доктор Кеплер и я.
– Да? – отозвалась баронесса, вдруг вовсе уж уподобившись орлице. – И?
– А вот! – крикнула Барбара. – Посмотрите вы на нас. Выкинуты на улицу!
Барон поджал губы.
– Едва ли, gnädige Frau, [13]13
Досточтимая сударыня (нем.).
[Закрыть]едва ли так-то уж… так-то… Но это правда, датчанин гневается.
– Ах, – проурчала баронесса. – И отчего же?
Дождь стучался в солнечное окно. Кеплер пожал плечами.
– Не знаю… – Барбара на него глянула, – и вовсе я не говорил, что система Тихо ложна, как он уверяет! Я… я всего лишь заметил по поводу кое-каких огрехов, вызванных, полагаю, слишком скорым принятием сомнительных предпосылок, что скоро только сука слепых щенят плодит. – Баронесса быстро поднесла ладонь к губам, прихлопнув кашель, который, не знай он ее за благороднейшую даму, вполне способную понять важность минуты, он бы, возможно, принял за смешок. – Хоть все это и ложно, да, чушь собачья, зачатая Птолемеем от Гераклида Понтийского. [14]14
Гераклид Понтийский (IV век до н. э.) – философ, астроном. Его труды не сохранились.
[Закрыть]Он помещает Землю, можете вы это себе представить, сударыня, в центр Вселенной, пять же прочих планет у него кружат вокруг Солнца! И что же, и действует, ежели чересчур не углубляться в суть, но так ведь и любую планету можно в центр поместить, спасая сии феномены!
– Спасая сии?.. – она обернулась к барону, чтоб просветил ее. Тот смотрел куда-то вдаль, теребя подбородок.
– Сии феномены, да, – сказал Кеплер. – Но это все уловки датчанина, чтоб и схоластам угодить, и с Коперником не вовсе разделаться – он сам не хуже меня это знает, и чтоб мне провалиться, если я стану извиняться за то, что сказал истинную правду! – Он вскочил, вдруг захлебнувшись яростью. – Все это, все это, вы уж меня простите, очень просто: он мне завидует, завидует моим дарованиям в науке нашей – да, да, – бешено поведя глазом на Барбару, которая не произнесла ни звука, – да, он мне завидует. К тому ж он старится, ему за пятьдесят… – левая бровь баронессы взлетела испуганной дугой, – и, радея о своей грядущей славе, он хочет, чтоб я скрепил его нелепую теорию, он хочет меня принудить, чтоб я на ней построил свою работу. Однако… – Но вдруг он запнулся, смолк, прислушался. Откуда-то шла музыка, притихшая и странно повеселевшая от удаленности. Очень медленно, он двинулся к окну, будто выслеживал бесценную добычу. Ливень прошел, сад через край налился светом. Сжав руки за спиной, качаясь с пятки на носок, он смотрел на тополя, на ослепший пруд, на взмокшие цветы, осколки луга, пытавшиеся вновь собраться воедино между балясинами балкона. Как невинна, как неосмысленно мила поверхность мира! Тайна простых вещей – куда, куда от нее деться! Ликующая ласточка нырнула в вихрь лавандового духа. Видно, снова быть дождю. Трам-там. Он улыбался, он слушал: чем не музыка сфер? Потом он обернулся и удивился тому, что остальные, все в тех же позах, учтиво его ждут. У Барбары вырвался тихий стон. Уж она-то знала, ах, как она знала эту пустую, любезно осклабленную маску, из которой горели глаза сосредоточенного безумца. Она поспешила объяснить барону и этой важной его жене, что главная наша забота, видите ли… и Кеплер вздохнул, мечтая, только бы она умолкла, не болтала, как полоумная, тряся своим крошечным ротиком. Потирая руки, он подходил к ним от окна, сплошная деловитость.
– Да, я, – с наслаждением заглушая лепет Барбары, который, пусть и стихнув, шел, как пузыри из рыбьего испуганного рта, – да, я напишу письмо, я попрошу прощенья, помирюсь, – и сиял, и переводил взгляд с одного лица на другое, будто аплодисментов ждал. Опять звучала музыка, теперь уж близко: в нижнем этаже замка играли духовые. – Он позовет меня обратно, конечно, позовет. Он все поймет, – (да черт ли в них, всех этих склоках?). – И мы начнем сначала! Сударыня, могу ли попросить у вас перо?
К ночи он вернулся в Бенатек. Принес свои извинения, поклялся блюсти все тайны, и Тихо закатил пир, и была музыка, вино лилось рекой, откормленный телец шипел на вертеле. Шум в зале был ровным ревом, изредка прерываемым то малиновым звоном оброненной тарелки, то взвизгом притиснутой служанки. Весенняя буря весь день копила силы и вдруг наткнулась в темноте на окна, бросив в дрожь отражения свечей. Браге сиял, кричал, пил, стучал кубком об стол, поблескивая носом, свесив соломенные мокрые усы. Тейнагель, слева от него, по-хозяйски обнимал дочь Тихо – Элизабет, похожую на кролика, белобрысую, обстриженную, с красными ноздрями. Рядом сидела ее мать, фру Кристина, хлопотливая толстуха, которая, единственная в целом свете, еще возмущалась двадцатилетним своим сожительством с датчанином. Тут же сидел и хихикал Тиге, и был главный помощник Тихо Браге – Кристиан Лонгберг, важный, прыщавый юнец, истощенный тайным грехом и честолюбием. Снова Кеплера взяла досада. К чему эта глупая попойка, ему бы сегодня, сейчас, сразу же взяться за драгоценные наблюденья о планетах.
– Вы мне поручили орбиту Марса, нет, дайте я скажу, вы поручили мне эту орбиту, самую неподатливую загадку, и – никаких пособий. Как, я вас спрашиваю, нет, дайте мне сказать, сделайте милость, как буду я решать эту задачу, можете вы это себе представить?
Тихо старательно повел плечом.
– De Tydske Karle, – он оповестил всех сразу за столом, – ere allesammen halv gale. [15]15
Немецкие парни все полоумные (дат.).
[Закрыть]– И Йеппе, карлик, пристроившийся под столом у его ног, зашелся смехом.
– Мой папаша, – вдруг оживилась фру Кристина, – ослеп на оба глаза, а потому, что всю жизнь пил, как свинья. Выпей еще винца, Браге, миленький.
Кристиан Лонгберг схлопнул ладони, как для молитвы.
– И вы рассчитываете решить загадку Марса, так ли, герр Кеплер? – И тонко улыбнулся. Наконец Кеплер сообразил, кого этот хлыщ ему напоминает: Штефана Шпайделя; такой же предатель.
– А вы полагаете, сударь, мне это не по зубам? Не угодно ль побиться об заклад… скажем, на сто флоринов?
– Роскошно, – взвыл Тиге. – Сто флоринов! Ого-го!
– Держись, Лонгберг, – рыкнул Тейнагель. – Лучше назначь ему срок, не то до скончанья века будешь своего выигрыша дожидаться.
– Семь дней! – выпалил Кеплер, с виду – сплошная веселость и отвага, хотя все сжалось у него внутри. Семь дней, Бог ты мой. – Да, дайте мне семь дней, свободных от всех других занятий, и я добьюсь, смогу… только если, – нервно облизнув губы, – только если мне дозволено будет свободно и беспрепятственно пользоваться всеми наблюдениями, всеми решительно.
Браге хмурил лоб, раскусив подвох. Миг упущен, он поздно спохватился, все на него уставились, да он и захмелел. И все-таки он колебался. В этих наблюдениях – его бессмертие. Двадцать лет неусыпных трудов убил он на то, чтоб их собрать. Потомство, возможно, забудет его книги, презрит его систему мира, посмеется над несуразным его житьем, но даже самое бессердечное будущее не может не почтить в нем гения точности. И вот – все передать этому выскочке, молокососу? Он кивнул, потом снова повел плечом, потребовал еще вина – а что ему оставалось? Кеплер пожалел его, на одну минуту.
– Ну что же, сударь, – сказал Лонгберг, разя взглядом, как клинком. – Условия обговорены.
Бродячие циркачи гурьбой ворвались в залу, скача, свистя, хлопая в ладоши. Семь дней! Сотня флоринов! Гоп-ля!
* * *
Семь дней превратились в семь недель, и – лопнула затея. Казалось – все так просто: выбрать три положенья Марса и по ним, с помощью геометрии, вычислить его орбиту. Он рылся в сокровищах Тихо, он упивался, наслаждался, от радости повизгивая, как щенок. Выбрал три наблюдения из тех, какие сделал датчанин на острове Хвеен за десять лет, и взялся за работу. Он не успел опомниться, как уже пятился от тучи сернистого дыма, и кашлял, и горели уши, и клочья загубленных расчетов липли к волосам.
Все в Бенатеке радовались. Замок ухмылялся, наслаждаясь позором противного маленького человечка – а не хвастай! Даже Барбара не могла скрыть удовлетворенья, тихонько размышляя, где ж они возьмут эти сто флоринов, которых домогается Кристиан Лонгберг? И только Браге ничего не говорил. Кеплер увиливал, просил у Лонгберга еще неделю, ссылался на нужду, на свое слабое здоровье, отрицал, что вообще бился об заклад. До глубины души не доходили оскорбленья и насмешки. Он был занят.
Конечно, он сам себя обманывал – ради этого спора, ради того, чтоб провести Браге: Марс не так-то прост. Тысячи лет он таил свою загадку, бросая вызов умам поискушенней, чем у него. Ну что ты будешь делать с планетой, если плоскость орбиты у нее, согласно Копернику, колеблется в пространстве, и величина ее колебаний зависит не от Солнца, но от положения Земли? С планетой, которая, с постоянной скоростью описывая правильный круг, при этом в разное время проходит равные отрезки своего пути? Он-то думал, все эти странности – всего лишь острые углы, их сгладишь – и переходи, пожалуйста, к определению самой орбиты; ан нет, оказывается, он слепец, которому придется восстанавливать нежный, редкостный рисунок по нескольким разбросанным буграм, с обманной готовностью сунувшимся ему под пальцы. И семь недель превратились в семь месяцев.
В начале 1601 года, бурного первого года их пребывания в Богемии, пришло из Граца известие, что Йобст Мюллер при смерти и желает видеть дочь. Кеплер был даже рад предлогу прервать работу. Он осторожно высвободился из ее клыков – жди смирно, не скули, – спокойно воображая, что тонкое, лукавое созданье так и будет ждать, и на первый скрежет его ключа выпрыгнет навстречу, зажав в когтях загадку Марса. Когда добрались до Граца, Йобста Мюллера уже не было в живых.
Смерть его повергла Барбару в странное, тупое уныние. Она ушла в себя, затаилась, время от времени сердито бормоча, так что Кеплер опасался за ее рассудок. Вопрос о наследстве ее терзал. Она с противной назойливостью о нем твердила. И ведь не сказать, чтоб самые неумеренные ее страхи вовсе не имели оснований. Запреты эрцгерцога, касаемые до лютеран, все были в силе, и, когда Кеплер пытался получить женино наследство, католические власти отвечали обманом и угрозами. А ведь те же власти трубно его привествовали как математика и астронома. В мае, когда уже казалось, что наследства не видать, Кеплера попросили установить на базарной площади его собственный аппарат для наблюдения солнечного затмения, которое он предсказал. Толпа почтительно глазела на волшебника с его машиной. Все прошло с большим успехом. То один гражданин Граца, то другой, подняв слезящийся, потрясенный взор от мерцающего пятна в camera obscura,ласково толкал астронома толстым брюхом, сообщал ему, какой он молодчина, и уж потом только обнаружилось, что, воспользовавшись полдневной тьмой, ловкий карманник его избавил от тридцати флоринов. Потеря была пустячная в сравненье с тем, как его в Штирии нагрели на налогах, но именно она как будто подвела итог всему их злосчастному прощанью с родиной Барбары.
В день отъезда она разлилась потоком слез. Не давала себя утешать, не позволяла до себя дотронуться, просто стояла, кривя дрожащий рот, разматывая длинный, темный клубок тоски. Он топтался рядом, беспомощно взбивая воздух обезьяньими руками, а сердце рвалось от жалости. Грац под конец нисколько его не тешил, тесть тем более, но ту печаль, которая под серым небом Штемфергассе на миг облагородила бедную, глупую, толстую его жену, он прекрасно понимал.
Воротясь в Богемию, они застали Тихо Браге с его цирком на временном постое в «Золотом грифоне», готового в обратный путь, в дом вице-канцлера Куртия на Градчанах, который император откупил для него у вдовицы. Кеплер не мог поверить. Как! А колокола капуцинов? И Бенатек, на перестройку которого ухлопано столько трудов и денег? Браге только плечами пожимал; он обожал транжирить, по-царски расточать богатства. Карета ждала под вывеской этого самого грифона. Место нашлось для Барбары и дочки. Кеплер и пешком дойдет. Он, отдуваясь, взбирался в гору, бормоча себе под нос, тряся усталой головой. Отряд императорских конников едва его не затоптал. Добравшись до верху, он сообразил, что не помнит, где же стоял тот дом, спросил дорогу, послали не в ту сторону. Часовые у ворот дворца поглядывали с подозрением, когда уже в третий раз он плелся мимо. Вечер был жаркий, солнце его сверлило жирным, насмешливым, злым глазом, он все озирался через плечо, надеясь, что застигнутая врасплох, знакомая улица наконец поспешно разберет глупые декорации, каких нагородила, чтоб его морочить. Можно бы поискать помощи у барона Хофмана, но мысль о стальном взоре баронессы не слишком ободряла. А потом он повернул за угол – и вдруг оказался на месте. Карета стояла у дверей, геройски навьюченные фигурки, раскорячась, взбирались по ступеням. Наверху фру Кристина, высунувшись из окна, что-то кричала по-датски, все на минуту замирали, изумленно задирали головы. У дома был оброшенный, тоскливый вид. Кеплер побрел по пустым огромным залам. Они услужливо его привели обратно, к прихожей. Летний вечер медлил на пороге, в громадное дворцовое зеркало под головокружительным углом падал параллелограмм стены, сраженной солнцем, и на нем были светлые проплешины там, откуда сняли картины. Пышно золотел закат, в саду дворца упоенно пел дрозд. Снаружи, на крыльце стояла Регина, застывши в созерцанье, как облитые золотом фигуры фриза. Кеплер замешкался в тени, слушая удары собственного сердца. И что она там видит, что ее так занимает? Как крошечная невеста, из окна глядящая на утро своей свадьбы. Сзади простучали по ступеням шаги: фру Кристина сбегала вниз, одной рукой подбирая юбки, в другой воздев утюг. «Я не пущу его в свой дом!» Кеплер на нее уставился, Кристина, свесив голову, юркнула мимо, он обернулся и увидел, как некто на запаленном муле остановился у крыльца. Был он в лохмотьях и прижимал к груди обвязанную руку, как нищий – свой узелок с пожитками. Спешился, стал взбираться на крыльцо. Фру Кристина встала на пороге, тот шагнул мимо, рассеянно озираясь. «Сунулся было в Бенатек. А там нигде никого!» Мысль эта его забавляла. Упав на стул перед зеркалом, он стал медленно разбинтовывать руку, петля за петлей роняя на пол повязку, на которой ровно повторялось, все взбухая, кровавое пятно: рыжий краб с мокрым рубиновым глазком. Рана, глубокий взрез мечом, отчаянно гноилась. Он с отвращением ее осмотрел, осторожно ощупывая по сизой кромке. «Porco Dio!» [16]16
Итальянское ругательство, по смыслу: «Черт побери!»
[Закрыть]– и плюнул на пол. Фру Кристина заломила руки и ушла, бубня себе под нос.
– Быть может, моя жена, – очнулся Кеплер, – вас перевяжет.
Итальянец полез в карман кожаного камзола, вынул грязную тряпицу, разорвал зубами, обмотал руку. Осталось связать концы. Нагнувшись, Кеплер почуял жар зараженной плоти, мясную вонь.
– A-а, тебя еще не вздернули, – протянул итальянец. Кеплер выпучил на него глаза, потом, медленно подняв их к зеркалу, увидел у себя за спиною Йеппе.
– Нет еще, господин хороший, – осклабился карлик. – А как насчет вас?
Кеплер к нему повернулся:
– Он ранен, вот: рука…
Тут итальянец расхохотался и, тихо привалясь к зеркалу, без памяти упал в собственное отражение.
Феликс – он пользовался этим именем. Истории его разнообразились. Служил в солдатах, турка воевал, ходил с неаполитанским флотом. Не было в Риме кардинала, который бы не подставлял ему зад, и как платили щедро. Браге ему повстречался в Лейпциге, где мешкал по пути на юг, в Прагу. Итальянец был в бегах: дрался с ватиканским стражником из-за шлюхи, насмерть его проткнул. Подыхал с голоду. И Тихо, с нежданным чувством юмора, его нанял, доверил перевозку домашних своих зверей в Богемию. Шутка не удалась. Браге ему так и не простил погибель лося. Теперь, раззуженный фру Кристиной, он с ревом ринулся в прихожую, чтобы немедля вышвырнуть мерзавца. Но Кеплер с карликом уже успели утащить того наверх.








