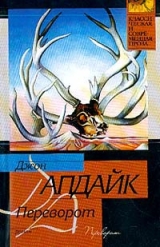
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Джон Апдайк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
II
Осенью, как называют это время года тубабы, Эллелу вернулся в Истиклаль, и происшествие, случившееся с ним на прямой дороге южнее Хулюля, близ исчезнувшего города Хайр, усугубило его каникулярное настроение. Треугольник, состоявший из него самого, Мтесы и Опуку, превратился в четырехугольник: к ним добавилась Кутунда, чье немытое женское тело привнесло в «мерседес» новый запах, пересиливший еле уловимый маслянистый запах германского изделия, неистребимую вонь верблюжьего навоза и висевший в воздухе запах жуткого костра, который проник в окна и, как дурное воспоминание, напрочь пропитал серый бархат. На протяжении многих миль они ехали молча – в мозгу каждого крутились свои колесики: Мтеса был занят управлением своей чудо-машиной, Кутунда думала о том, что с ней станет, и выпускала сквозь свое потрепанное куссабе зловонные щупальца страха и покорности судьбе, а Опуку, судя по всему, спал – его круглая голова почти не двигалась на мускулистой шее, несмотря на происходившую перед его мысленным взором смену картин (о чем Эллелу догадывался по тому, как Опуку время от времени стонал), – он видел жестокость, пламя костра, его одолевало похотливое желание обладать бледными, с прямым носом кочевницами в черных одеждах. В Куше мы не перестали мечтать о слиянии черной и белой кожи, толстых и тонких губ оседлых фермеров и кочевников, перемещающихся со своими стадами.
«Мерседес» ехал всю ночь, чтобы из темных закоулков нашей памяти стереть воспоминание о костре. Заря прорезала тьму и исчезла. Вблизи Хайра местность плоская и розовая, почва соленая и воздух мерцает: точка, увиденная вдали, растворяется при приближении или становится кроваво-красным валуном, который, казалось, упал из стратосферы. Эллелу, сидевший в мятом костюме цвета хаки, смотрел вперед, сквозь ветровое стекло, поверх плеча своего шофера, в то время как голова забывшейся Кутунды тяжело лежала на его плече. Тут точка, появившаяся на шаткой вершине треугольника, до которого сузилась ширина дороги, – горизонт все время качался на своей опоре, справа отступали бугристые подножия Булубских гор, а слева в облаках пыли с трудом различались очертания колючих зареба, – стала разрастаться со скоростью, далеко превосходящей скорость «мерседеса», и на расстоянии приблизительно в два километра превратилась в машину. Через несколько секунд – а время согласно законам относительности тянется как резина – чужеродная машина промчалась мимо с быстротою тени от крыла ястреба. Эллелу подивился, ибо это не был грузовик для перевозки земляных орехов, чье присутствие объяснимо, и не военный транспорт, а машина, которая никак не могла раскатывать по Кушу: это был большой грузовик с открытым кузовом, к плоской поверхности которого были цепями привязаны две одинаковые груды – некогда пузатые, а ныне механически спрессованные американские автомобили карамельного цвета. Моторы с них были сняты, а салоны, где некогда бунтовали дети, а взрослые занимались любовью и старики набирали мили на отдыхе, были раздавлены.
Резко повернув голову, чтобы проследить за грузовиком, быстро исчезнувшим среди подпрыгивающих розовых складок северных земель, Эллелу разбудил светленькую Кутунду. А кожа у нее была светлая или просто смуглая под слоем грязи, лицо круглое и большой рот, но губы не вывернутые. Ее губы, когда она пыталась ответить на его поцелуи, были словно приклеены сном к мелким, слегка вдавленным зубам. Она почувствовала тревогу Эллелу и смотрела на него широко раскрытыми глазами. А полковник схватил Мтесу за плечо и пронзительным лающим голосом, каким он объявлял по радио о каком-то строгом нововведении или репрессалии, спросил:
– Что это было? Ты видел?
– Грузовик, – ответил шофер.
– Какой грузовик?
– Большой. Быстрый. Здесь нет ограничения скорости.
– А ты когда-нибудь видел такой грузовик?
Ответ был дан после раздражающе долгого обдумывания:
– Нет.
– Откуда, ты считаешь, он ехал?
Шофер пожал плечами.
– Из города.
– Из Истиклаля? Да никогда в жизни. Где он мог взять эти... эти штуки, которые он вез? И куда он их вез?
– Может быть, из Занджа в Сахель. Или наоборот.
– Да кто же пропустит его через границу? Кто продаст ему горючее?
– Странная штука, – согласился Мтеса, но это занимало его не больше, чем если бы он увидел необычную птицу у скважины с водой или диковинно покалеченного нищего на улице. Невежда видит чудеса каждый день.
Эллелу пришло в голову, что Мтеса сочиняет в угоду ему, а на самом деле ничего не видел.
– А ну, скажи мне, что ты видел. Какуюстранную штуку?
– Большой грузовик, который вез раздавленные voitures [12]12
Машины ( фр.).
[Закрыть].
– Что за voitures?
– Не «бензи».
Эллелу откинулся на спинку сиденья с чувством понесенного поражения. Он бы предпочел, чтобы грузовик привиделся ему. Лучше самому обезуметь, рассудил он, чем довести до безумия всю страну. Если то, что он видел, было реальностью, значит, он вынужден – вопреки желанию – действовать, принять меры против чужеродного вторжения, ибо он знал, что это явление для Куша оскорбительно, тогда как оно вполне обычно на шумных, насыщенных отравляющими газами, опасных шоссейных дорогах Соединенных Штатов. Кутунда, которая доселе спала и ничего этого не видела, сочла нужным занять единственное непокореженное место в машине, и измотанный Эллелу провалился в освободившуюся уютную пустоту, пахнущую мускусом и навозом, дымами и голодом Куша.
По возвращении в Истиклаль Эллелу поселил Кутунду в квартире над мастерской, где плели корзины, а на самом деле торговали гашишем и хатом; ее присутствие здесь и его подозрение, что в столице готовится заговор, подстегивали его стремление все чаще отправляться в город переодетым, особенно в ту часть, которая именовалась Хуррийя, пользовалась дурной репутацией и, словно груда глиняных коробок, предназначенных для свалки, высилась у восточной стены просторного Дворца управления нуарами с его шестнадцатью пилястрами, олицетворяющими шестнадцать наиболее распространенных глаголов, которые во всех сложных временах употребляются с глаголами «быть» и «иметь». На фасаде дворца поверху стоят восемь мраморных статуй неестественной белизны, не испорченной климатом, они изображают восемь буржуазных добродетелей: Assiduité, Economie, Médiocrité, Conjugalité, Tempérance, Optimisme, Dynamisme и Modernité [13]13
Трудолюбие, экономию, умеренность, супружескую верность, терпение, оптимизм, динамизм и современность ( фр.).
[Закрыть]. Глухая стена дворца сверкает на заре как обещание вечной сладострастной роскоши, вздымающееся из плена земли над маленькими соломенными крышами, потрескавшейся черепицей и жестью, придерживаемой камнями.
Таким показался дворец Эллелу, когда он продрал глаза, лежа рядом с Кутундой на соломенной подстилке. Во сне ее жесткие тусклые волосы, так не похожие на мягкие упругие колечки, коротко остриженные или хитроумно заплетенные в косички, которые украшают головы сестер Эллелу или трех из его четырех жен, разметались и прилипли к лицу; в ее черных волосах встречались рыжеватые пряди, а уголь, которым она обвела глаза, размазался. На запыленной коричневой коже ее щек в падавшем сбоку свете видны были прочерченные по диагонали ритуальные шрамы – по одному на каждой щеке. Звуки окружавшей их трущобы – стук калабашей, скребущий звук от сгребаемого в кучу горячего пепла, хруст развертываемых пакетиков гашиша внизу и бормотание детей в школе Корана на другой стороне крутого, цвета охры, проулка – не позволяли снова заснуть после того, как он совершил молитву, и Эллелу лежал возле тяжело дышащей в беспамятстве Кутунды, словно страдающий от жажды человек возле колодца, сознавая, что его народ умирает, что начинает он свой день с остатками дня вчерашнего, что звуки, которые он слышит – стук, скрежет, хруст, бормотанье, – это звуки безнадежности, звуки, издаваемые на помойке курицами, слишком тощими, чтобы их резать, и клюющими камни, которые никогда не станут семенами. Сам Аллах высох и состарился и куда-то ушел.
Когда Кутунда проснулась, Эллелу спросил ее:
– Это поможет, если убить короля?
Она справила свою надобность в горшок и принялась голышом прохаживаться по комнате, небрежно прорезая ногами мечи и часовых солнца, которые неощутимыми рядами проникали в комнату через горизонтальные щели ставен. Блестящие конусы пыли вращались в воздухе словно точилки брадобрея. Комната была неправильной формы, с гнутыми стропилами из тамариска. Стены из утрамбованной глины были цвета кожи моей любовницы, ее тень мелькала на них, когда она с быстротою, порожденной алчностью, с медлительностью наслаждения занялась самоукрашением: чуть тронула сурьмой каждое веко, надела золотые кандалы на запястья и многорядные ожерелья из красивых бус, нанизанных на волосы из хвоста зебры, на шею – все, что разрешено иметь наложнице диктатора. Сообразно своему положению моя бродяжка придала лицу серьезное выражение, готовясь дать совет. Лишенная тени палаток и канав севера, Кутунда выглядела старше, чем в тот момент, когда я овладел ею. Решительные складки на лбу и вокруг поджатого рта указывали на годы раздумий, разочарования прорыли свои каналы: наверное, лет десять прошло со времени ее первого загрязнения. Она щурилась, – возможно, нуждалась в очках.
– Расскажи мне про этого короля, – сказала она.
– Он слабый, но умный, мой пленник и в определенном смысле мой покровитель – вот почему я и не стал казнить его, когда произошла революция и его насильственная смерть не выглядела бы чем-то исключительным. Сложившаяся политическая и культурная обстановка отдаляла Эдуму от рабочих и крестьян. Его правление было коррумпировано, чему способствовала его личная тирания, – а он был безрассудно жесток в античном, эмоциональном плане, – а также буржуазная идеология его министров, которые, желая укрепить свое положение среди жалкой, ничего собой не представляющей элиты, продавали американцам то, что их отцы продали французам, считавшим, что они по-прежнему этим владеют. Министры уговорили иностранцев путем немалого подкупа взять еще одну концессию и построить еще один отель из стекла, который служил бы публичным домом для кяфиров, – это было единственной их акцией в войне с нищетой. Сложность правления в Африке состоит в том, моя дорогая Кутунда, что при отсутствии серьезного развития торговли или промышленности правительство держит в своих руках все богатства страны, и, следовательно, люди, стремящиеся разбогатеть, монополизируют правительство. Пороки Эдуму были бы заурядными, если бы он держался правильной политической ориентации, а именно: если бы предложил каким-то образом отбросить издавна существующие формы авантюризма и эгоистических интересов, с чем можно было мириться, когда они сдерживались личными взаимоотношениями в рамках маленького племени, но что становится насилием в более широких рамках. Консерватизм Эдуму, который я бы скорее назвал безответственностью и бессилием, прикрывался немалым личным обаянием, даже добротой по отношению к избранным из его окружения, и улыбчивым обскурантизмом безнадежного циника.
– А король, – спросила Кутунда прищурясь, от чего шрамы на щеках поехали вверх, и своим вопросом, как я понял, возвращая меня к проблеме сегодняшнего дня, уводя от риторики студента политических наук с таким серьезным видом, что мне стало страшно за Эдуму, ибо у этой распутной женщины (а к ее запаху прибавились сейчас ароматы специй и духов из лавок черного рынка) голова хорошо, по-мужски работала, – король, он старый?
– Старше, чем кому-либо известно, но, боюсь, едва ли он окажет нам услугу и соблаговолит умереть.
– Никакая это будет не услуга, – сказала Кутунда. – Его смерть лишит правительство видимости инициативы, какою явилась бы его казнь в качестве небесного преступника.
Она употребила термин, бытующий в племени capa и обозначающий человека, совершившего преступление не против соотечественников, а против всеобъемлющей гармонии общепринятых понятий, – на современный язык это можно было бы, пожалуй, перевести как «политический преступник». Совсем обнаженная, если не считать серег и косметических мазей, Кутунда принялась расхаживать по комнате с важным видом, сознавая значение, какое я придавал ее словам. Ее пятки решительно стучали по полу, а пальцы ног словно вдавливались в него, – эти метания из угла в угол по маленькой комнате побудили меня вспомнить, что ее бабка была леопардом. Ноги у нее были толстые и слегка искривленные, ягодицы зрелой женщины восхитительно подрагивали. Я почувствовал зов секса. Мои плечи расправлялись при мысли о том, сколько времени я провел, слушая нагих женщин.
– Надо найти центр болезни, – продолжала она. – Этот центр, я думаю, лежит не в короле, который помимо своей воли является таким, каков он есть, а в твоем милосердии к нему.
– Он подобрал меня, когда я был меньше песчинки – солдат с фальшивыми документами, и пристроил к себе. Он сделал меня сыном, хотя у него уже было пятьдесят сыновей. Да я скорее пролью кровь родного отца, солдата-нубийца, чье лицо исчезло, словно унесенное ветром, чем этого старого тирана, который все мне прощал и до сих пор прощает.
– А что ты такого сделал, что он тебе все прощает?
– Я плод изнасилования. А теперь я правлю голодающей страной.
– А почему у тебя были фальшивые документы?
– Потому что правда ничего хорошего мне не дала бы, да и тебе не пошла бы на пользу.
Ее глаза цвета песка, с трудом, казалось, удерживавшие фокус, скользнули по мне, и она поняла, что слишком много себе позволила. И продолжила свою речь, уже подлаживаясь под мое настроение:
– Мы должны найти центр зла, который мешает небу слиться с землей. Они ведь возлюбленные, земля и небо, и ими владеет страсть такой силы, что они разлетаются столь же стремительно, как и сходятся. Они похожи на мощные машины, какие есть у белых людей: хватит одной злой искры, чтобы они остановились. Демон ведь не захватывает все тело, а лишь точечку величиной с булавочную головку, так как демон недостаточно для этого велик – он должен быть совсем маленьким, чтобы летать. Он может войти в тебя через ноздрю или задний проход и поселиться в горле или в маленьком пальце на ноге. Ты не пытал короля, не искал в его теле такого места, где он не чувствует боли? Там скорей всего демон и сидит, и если ловко всадить в это место раскаленный кинжал, он оттуда выскочит. Но операция должна быть точной. Излюбленным местом для дурных духов являются пальцы – разумно было бы отрубить старому королю руки. Но я вижу, тебе не нравится такой план.
Я молчал – лишь пытался представить себе, как это было бы: кровь, льющаяся из вен, точно из кувшина, призрачные очертания отрубленной руки с пальцами, сохранившими свои отпечатки, и с линиями жизни на ладони, хотя жизни в восковой руке больше нет.
Голова Кутунды исчезла в новом зеленом куссабе, одном из нескольких, заменивших ей лохмотья, в которых я ее нашел. Расшитые золотой ниткой круглые манжеты стягивали рукава. В одежде она выглядела тоньше и игривее, из серьезного политика превратилась в ехидную ревнивую женщину: она явно ревновала меня к королю.
– Отрежь ему яйца, – посоветовала она, – и выставь их на весах статуи Правосудия над главным входом во дворец. Ванджиджи, – пренебрежительно произнесла она. – Со времен моего деда никакого Ванджиджи не было, да и тогда его жители славились трусостью и алчностью. В войну они дожидались, пока мужчины другой деревни уйдут, затем являлись туда и убивали детей. Вырви королю глаза и засунь ему в задницу, чтобы они выследили, где живет его демон.
– Демон поселился в тебе, – заметил я, хватая ее за яркую ткань, когда она стремительно шла мимо. Бронзовые и серебряные браслеты на ее щиколотках зазвенели.
– Богу негде сесть в Куше! – Она увернулась от меня, губы ее растянулись над скошенными вовнутрь зубами. – На самой высокой вершине сидит сморщенный старик в отсеке, его охраняет солдат в хаки, который хотел бы зарыться в песок. И вот Состраждущий летит дальше, Его река дальше течет, на небе нет ни тучки, и в Куше по-прежнему все сохнет. Ты должен устроить спектакль, полковник Эллелу, чтобы Аллах заметил нас. А то про нас легко забыть. Нужна кровь. Кровь – это дух, и она притягивает дух. Раздери короля: привяжи его ноги к четырем жеребцам и кнутом пусти их вскачь. От криков короля выскочит атом зла и наступит счастье. – Она обнажила в улыбке свои детские зубки, наклонила круглую голову и принялась заплетать косички.
– В твоем плане что-то есть, – услышал я свои слова, хотя при мысли о том, чтобы разорвать моего патрона на части, мои ноги перестали чувствовать вожделение и налились свинцом.
Однако на этой стадии собственного морального распада полковник не пренебрегал своими обязанностями. Обычно он уже сидел за своим столом из зеленой, как все военное, стали, в своем фанатически строгом кабинете, занимавшем угол Дворца управления нуарами и выходившем на Аль-Абид – на гниющие навесы над пыльным суком [14]14
Рынок ( араб.).
[Закрыть], на шаткие верфи и пироги, тощие, как копье, – задолго до того, как Микаэлис Эзана являлся из соседнего кабинета с докладом; они пили вдвоем утренний шоколад и в нескончаемом диалектическом споре намечали путь страны в будущее.
Эзана так и сыпал фактами и цифрами, он был сторонником получения займов от Всемирного банка и грантов от ЮНЕСКО, проектов сооружения плотин и оросительных систем, капиталовложений, ловко добываемых в результате игры на соперничестве двух сверхдержав (и этой теневой третьей, Китаем, обладающим нужными размерами, но недостаточной массой, субстанцией, чтобы называться сверхдержавой), а в последнее время стал питать надежду на финансовую помощь своих братьев по исламу, нефтяных, опьяневших от долларов, шейхов Кувейта и Катара. В начале Возрождения Эллелу разделял упоение Эзаны этими манипуляциями, рожденными независимостью Куша, не менее сложными и фантасмагорическими, чем манипуляции в мире духов, которыми занимаются колдуньи и марабуты по ту сторону Грионде. Но, видя, что из всех этих планов ничего не получается или хуже чем ничего: дорогое оборудование по очистке земляных орехов перестает работать из-за отсутствия ремонтников, прорытые колодцы превращаются в центры опустошенных пастбищ, единственная построенная плотина стала рассадником улиток, зараженных бильгарциозом, – Эллелу отошел от этих нечистых начинаний и стал со стороны не без иронии смотреть на энергичные попытки Эзаны подключить мир к участию в судьбе Куша. Министр внутренних дел, ранее носивший грубый костюм борца за свободу народа цвета хаки, теперь перешел на костюмы из Лондона, сшитые в Милане туфли, парижские носки с вычурными стрелками и подозрительно мягкие гонконгские рубашки, хотя носить мужчинам шелк запрещено всеми моральными авторитетами ислама; на запястье у него были швейцарские часы, на черном циферблате которых, если нажать на маленькую кнопочку сбоку, загорались час и минуты арабскими цифрами. Подчиненные таращились на эти часы, недоумевая, где же в такой узкой черной глубине хранятся минуты, которые не выскакивают для обозрения. Таким же феноменом являлся и Микаэлис Эзана, который мог в ответ на вопрос представить нужные факты и цифры, но в них недоставало глубины, они были поверхностными. В этом выражалась ограниченность Эзаны, ибо при всех своих способностях и амбициозности он не обладал масштабностью личности, этикой, вдохновляющей склонностью обдумывать свои шаги, что помогает руководителю отбросить неуверенность и повести за собой народ. Сторонний наблюдатель, глядя на двух совещающихся руководителей, заметил бы, что, хотя они оба невысокие и чернокожие, Эзана выглядит более черным, – его круглое лоснящееся лицо источало, излучало черноту. А у Эллелу лицо было матово-черное от долгого ополаскивания водой. Он терпел Эзану, так как кристалл, на котором начертаны вероятности, предсказал, что Эзана никогда не сменит его. Популярность Эллелу по мере того, как сведения о его личной яркой победе во имя народа над капиталистической диверсией распространялись по югу, выросла так сильно, что подозрения в безумии уже не способны были ее подорвать, поэтому он посмел этим утром, пока шоколад остывал перед ними, рассказать Эзане об увиденном.
– Возвращаясь с того места, где мы дали отпор вторжению, – сказал Эллелу, – мы увидели в районе Хайра странную вещь.
– Странный грузовик, – поспешил поправить его Эзана. – Я же министр внутренних дел, товарищ, я твердо взял под контроль эту таинственную историю. Бюро по транспорту теряется в догадках. Из двухсот двадцати шести машин, зарегистрированных в Куше, семьдесят семь являются общественными такси и сто четыре находятся в распоряжении членов правительства; мы провели обследование оставшихся сорока пяти зарегистрированных машин, и ни одна не отвечает описанию четырехосного перевозчика спрессованных для свалки шасси.
– Кто дал тебе, товарищ Эзана, такое полное описание?
– Вас было четверо в автомобиле, двое из этих четверых, насколько мне известно, не спали. Выводы делайте сами.
Мтеса – предатель?
Эзана успокаивающе улыбнулся. Толстые пальцы, унизанные драгоценными камнями, словно на редкость яркими каплями подступающего сладострастия, описали ситуацию в воздухе.
– Воздух Куша прозрачен, тут не может быть тайн, только умолчание, – сказал он. – Речь идет о грузовике. Я не могу взять на себя ответственность за него. Он необъясним.
– Кроме того, – отважился продолжить Эллелу, успокоенный дотошностью собеседника, который свел все туманное к цифровым данным и, пожалуй, сумел развеять даже неосознанную апатию диктатора, – по пути на север в проломе Булубских гор я заметил вдали золотую дугу, возможно, две золотые дуги – я в этом не уверен.
Эзана перестал жестикулировать и застыл.
– А кто-либо, кроме тебя, мой президент, видел это?
– Ни Мтеса, ни Опуку не могут подтвердить, что я это видел, хотя мы остановили машину и обошли окрестность в поисках удобного места для обозрения. Опуку указал мне на дымок, поднимавшийся от какого-то лагеря, и побудил меня посмотреть в том направлении. Если они и видели... можно было бы сказать... я подумал... странное это место.
– Это случилось, как я понимаю, наутро после утомительного вечера, который вы провели с русскими на ракетных установках, что само по себе способствует невольному отключению от реальности.
– Это правда. Но я не настолько устал и не находился под парами алкоголя, который тек рекой под оглушительный хохот этих варваров, чтобы меня могли подвести собственные глаза. А не могли быть там поблизости древние развалины или какие-то дополнительные советские установки, о которых неизвестно министру внутренних дел?
– Ты министр обороны, и тебе известно мое мнение об этих военизированных маскарадах, которые устраивают суперпараноики. Нет никакой надобности удваивать макеты ракет, а если бы они приняли такое решение, зачем рекламировать местоположение ракет сверкающими шпилями?
– Это были арки, а не шпили.
– Не важно. Блеск песка и нагретые слои воздуха производят странные трюки. Дьявол пустыни развлекается, устраивая trompe-l'oeil [15]15
Мираж ( фр.).
[Закрыть]. Успокойся, мой президент. Я думаю, слухи о голоде чрезмерно подействовали на тебя, лишив спокойствия духа.
– Слухи? Это же факт.
– Преувеличенные слухи, спорные факты. Западная пресса с наслаждением описывает нашу некомпетентность. Кочевники всегда снижали наши показатели. Они ведут архаический, никчемный, деструктивный образ жизни. Их нелепое клеймение скота приводит к гибели животных. Надо использовать эту возможность и сделать их оседлыми. Снявшиеся со своих мест кочевники и фермеры, чьи посевы постиг неурожай или их уничтожили не ведающие законов стада, уже сгрудились на окраинах Истиклаля, их палатки и лачуги, разбитые рядом с аэропортом на виду у прилетающих самолетов, создают впечатление нищеты, которую ничто радующее глаз не скрашивает. Древних стран, в которых они жили, больше не существует, они граждане нашей новой страны, – не страны туарегов, или салю, или фула, или моундангов, а Куша, и Куш должен протянуть им руку помощи, расселить, дать образование, принять в армию. Голод, который так тебя тревожит, – на самом деле это следствие Возрождения, случайное незапланированное климатическое явление.
Хотя Эллелу и был тронут этим отзвуком собственной риторики, тем не менее спросил:
– А кто даст средства на то, чтобы расселить, дать образование, набрать этих людей в армию, как ты сказал?
Эзана уставился в верхний угол комнаты.
– В ущелье Иппи, – произнес он, – есть интересные геологические залежи.
Эллелу не слушал его. Он встал и торжественно произнес:
– У каждого блока богатых стран есть государства-клиенты, чье процветание стратегически важнее для них, чем наше. Наше место за столом на самом краю, так будем лучше стоять и по крайней мере тревожить совесть пирующих.
От раздражения блестящее лицо Эзаны замкнулось.
– На этом пиру ни у кого никогда не было совести, – сказал он. – Мы застолом, товарищ, и тут уж ничего не поделаешь. Такого не бывает, чтобы народ не выжил в нашем мире. Человек – да, может уйти в святость, но народ как коллектив стремится к процветанию. Народ – он как растение, он ниже человека, а не выше.
– Однако народ смотрит вперед и должен что-то видеть. Ты говорил о случайности – это святотатство. Голод существует, и, следовательно, ему должно быть объяснение – марксистское и божественное. Я думаю, это значит, что наша революция была осуществлена недостаточно тщательно: она оставила гнездо реакции здесь, во дворце, на этаже под нами, в дальнем крыле. Я знаю, тебе известно, что король еще жив. Что ты скажешь, если мы публично его казним?
Микаэлис Эзана пожал плечами.
– Я думаю, это не будет чем-то необычным. Король ведь уже принадлежит предкам.
– Это приведет в ужас мировую буржуазию, которая сентиментально относится к монархам, – предупредил Эллелу. – Их стремление прислать нам плоды своих восьми добродетелей может поугаснуть, и бумаг в твоем ведомстве поубавится.
Эзана снова пожал плечами.
– Казнь короля перережет связь с колониальным прошлым. Он твой личный узник, поступай с ним, как считаешь целесообразным.
Он принялся укладывать назад в портфель смятые бумаги – диаграммы, карты, компьютерные распечатки, которые, как обычно, не вызвали интереса у президента. А Эллелу сел и стал пить остывший шоколад. Но не только это портило его вкус – примешивалось что-то еще, что-то с привкусом солода, искусственное, чем-то разбавленное, мягкое, витаминизированное. Внезапно Эллелу осенило, и он буркнул Эзане одно лишь слово:
– Овальтин!
Ситтина, моя третья жена, жила на вилле, окруженной кустами олеандров и бамбука, среди детей, которых она даже не пыталась представить моими, и недоконченных картин, недотканных материй, брошенных на станке, и платьев с блестками, которые оставалось лишь подшить. На клавесине всегда лежал клавир, открытый на той же фуге. Она обладала слишком многими талантами и ничего не доводила до конца. Черная, как сажа, стройная, с серьгами в виде больших колец, свисавших не с мочки, а с округлого верха ее ушей и по мере того, как она поворачивала свою прелестную, маленькую, откинутую назад головку, задевавших то одно плечо, то другое, она относилась ко мне свысока и держала меня на расстоянии, – почему-то я находил это, как ни странно, жизнеутверждающим.
– Значит, на кухне дворца для разнообразия варят овальтин вместо настоящего ганского шоколада, – сказала она. – Ну и что? Ты считаешь, что сжег все продукты, которые янки сюда присылают? Не так-то это просто: каждый день они производят новые тонны своего мусора. Пусть тебя это не тревожит, Феликс. Посмотри правде в лицо: Африка помешана на торговле. Где еще ты можешь купить на рынке щипчики для ногтей? Я хочу сказать, этому нет удержу.
Она бросила все это через плечо на своем американском английском. Дочь вождя тутси, она была отправлена во время истребления хуту в маленький колледж для черных в штате Алабама и установила там несколько рекордов по спринту. Округлость ее икр и длина ног полонили мое сердце в расцвет восстановленного правления Эдуму, когда она в 1962 году участвовала в панафриканских играх в Нуаре. Хотя в нашем браке она была всегда непостоянна, как ветер, с которым состязалась, когда бежала, я никогда не считал ее плохой женой. Часто, когда я в свои тридцать лет лежал в постели с другой в бездумные шестидесятые и полон был мужской силы, у меня возникала эрекция при мысли об ее остро стоящих сосках и ягодицах, напоминающих гладкие фасолины. Однако в реальности она была более сложной, чем представлялась в моих мыслях. Мы с Ситтиной уже четыре года не занимались любовью, хотя младшему из детей, с вытянутым черепом и блестящей кожей, который, лепеча, вперевалку передвигался по комнате, преследуемый попугаями и любимыми обезьянками пата, еще не было и двух лет. На Ситтине было дашики с большим вырезом и длинными рукавами и штаны цветов радуги из жатой вуалевой ткани – они колыхались и хлопали по ее прекрасным, стремительно передвигающимся ногам. Она была увлечена одним из своих никогда не доводимых до конца проектов – моделированием одежды, и ее наряд, одновременно современный и вневременной, настолько западный, насколько и африканский, был создан ею самой. Но, говорила она, перебивая свой рассказ обращением к требовавшим внимания детям, – а они поглядывали на меня, в моем костюме хаки безо всяких украшений, как смотрят на садовника или посыльного, который вошел в дом дальше положенного на целых шесть шагов, – нынче просто невозможно добыть материю и даже иголки и нитки, на рынках нет ничего, кроме самого дешевого мерикани, выцветших штук материи, должно быть, привезенных еще миссионерами; кроме того, в результате революции резко сократилась европейская колония и заказчиц не стало, а жены кушитов никуда не выходят из своих домов, да и албанки – это дикарки с прямыми волосами, пахнущие мокрой шерстью, а эта жуткая госпожа Эзана – и как только он может ее терпеть – такойсиний чулок! – расхаживает повсюду с голой грудью, чтобы показать отсутствие политических отклонений.
– Pas chic [16]16
Никакого шика ( фр.).
[Закрыть], – сказала Ситтина.
Слова ее казались жалобой, но это не звучало в голосе. У меня создалось впечатление, что я пришел на другой день после того, как она ходила к любовнику или кто-то посещал ее, – отсюда эта благостность, эта манера тараторить на отвлеченные темы.
– А что ты предпринимаешь по поводу засухи? – спросила она. – Даже козья голова стоит невероятных денег. За одну кассаву дают двести лю. Поставишь на подоконник молоко, киснуть, – через пять минут его уже нет, украли. Беженцы с севера приходят в город и воруют. А что еще беднягам делать? Прошлой ночью моего ночного сторожа полоснули ножом по горлу, он надулся и ушел домой. Не спрашивай, где я была, – не помню. У меня забрали блюда из нержавеющей стали и две мои старые награды, а вот украсть Шагала у них ума не хватило.







