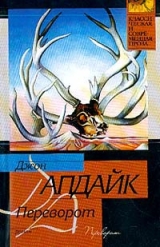
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Джон Апдайк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Эта истина озарила Эллелу во всем своем величии не в деревне анимистов, а далеко от дома, когда студенты национальных меньшинств в колледже Маккарти в веселой дымной пьяной атмосфере молодого эгоизма и сексуальной возбужденности выхватывали личное оружие, чтобы сдержать напор окружающего их крикливого мира белого человека. С помощью Оскара Икса молодой Хаким вновь открыл для себя ислам и вместе с черным американцем ездил в главный храм – Второй храм Элиа Мухаммеда в Чикаго и в ближайший, не столь величественный Третий храм в Милуоки. Среди этих братьев в строгих костюмах и сдержанных, скромно одетых сестер в тюрбанах к будущему Эллелу, радушно принятому и тем не менее удерживаемому на расстоянии как африканец, вернулась память о достоинстве обитателей пустынных просторов его континента, о бескрайних небесах и саваннах, о его коричневых людях.
Последующее обсуждение событий в растревоженном караване не привело к выяснению цели налета. Ничто не было взято, ни одна переметная сума. Несколько пустых бутылок с надписью «Московская особая водка», брошенных кричавшими и стрелявшими наездниками верблюдов, закутанными в тагильмусты, давали ключ к разгадке.
– Это были, – доверительно сказал президент Шебе, – либо туареги, опьяненные взятками от ЦРУ, либо переодетые цээрушники, вознамерившиеся показаться русскими, либо русские, которые своими неуклюжими нахальными попытками оставить такие очевидные следы хотели намекнуть, что это были цээрушники.
У Сиди Мухтара было другое мнение.
– А ты знаешь, – сказал он, – что в Балаке все еще существуют налетчики-работорговцы?
– Это умерло вместе с Типпу Тибом, – презрительно фыркнул Эллелу.
– Не совсем, – сказал водитель каравана, и обветренное лицо мерзавца пошло морщинками от некой скрытой причины для юмора. – Теперь это происходит с большим отбором. Рынок делает ставку не на количество, а на качество.
– Но за кем же они охотятся? – спросил Эллелу, делая вид, будто не понимает, что он сам, президент, является главной добычей в караване.
Сиди Мухтар подмигнул, указывая на закамуфлированную палатку диктатора.
– Красивая женщина, – просто сказал он.
Тени, ангелы, опасности, грузовики на дороге, радиоволны в воздухе, окружающем нас. Происшествие неощутимо промелькнуло – вот так же в Висконсине ночью среди снегов, не белее бедер и боков Кэнди, поблескивавших среди эротически перекрученных простыней, вдруг раздавался вой сирены, она блеяла и била по кирпичам, по плющу, по подоконникам, шпилям и силосным башням Фрэнчайза. На последнем курсе Кэнди получила разрешение снять комнату вне городка вместе с другой девушкой, которая по своим эротическим соображениям большую часть времени проводила в Грин-Бей. Эта комната над конторой агента по недвижимости была до вторжения синего цвета белая с черным. Черный любовник приподнимался на локте, а белая возлюбленная поднимала голову, чтобы вернуть его к тому, чем они занимались, к их близости, не имевшей никакого отношения к беспорядкам, частица которых пронеслась мимо, а другие частицы – пульсирующие красные огни пожарных машин или машин «скорой помощи» – через минуту последуют. В эту минуту рамки офортов, зеркала, рисунок на обоях – все стало серым, серым на сером, самыми ярко-серыми были рамы окон, отделявших их от внешнего мира, чьи смертоносные конвульсии проносились мимо, словно гигантские крылья снежной бури. Их любовное борение, смешение их влаги, их дыхание – все приостановилось, пока мимо проезжали сирены. Не за ним ли едет полиция? Он знал, что в некоторых из этих штатов слияние кож разного цвета считается преступлением. Ему могут накинуть веревку на шею за то, что его член вошел в ее влагалище. Да и черные мусульмане не поощряют соитие с неправоверной, а тем более с голубоглазой дьяволицей. В годы пребывания здесь ему доставляло удовольствие жить на грани конфликта, когда Оскар Икс вез его по тучной земле белого человека в побитом, но вполне дееспособном и мощном «Олдсмобиле-49» и радио передавало песни в исполнении Дины Вашингтон и Кея Старра, тогда как ехали они в исламский храм в трущобах одной из столиц Среднего Запада, где их могли бы остановить и обыскать хмурые ирландцы-полицейские или приставить им к горлу нож неверующие молодые хулиганы такого же, как они, цвета кожи. Всюду подстерегают опасности, пролетающие, проскальзывающие мимо.
Несмотря на полумрак, Феликс заметил тогда на простыне пятно крови. Она в самом деле была сегодня какой-то другой, хотя и влажной, как всегда, но ее влага была почему-то режущей, точно покрытой пупырышками. Нечистой. Он невольно состроил гримасу, и она сказала:
– Благодари бога. До сегодняшнего утра я боялась, что забеременела.
– Ого, – пробормотал он, следуя американской привычке.
Ей хотелось своим признанием выжать из него больше, услышать похвалу за пережитый страх.
– И это все, что ты можешь сказать? Ты знаешь, премерзкая штука быть женщиной. От своего тела не убежать. И самое скверное...
– Что же самое скверное, милая Кэнди?
– Не важно.
– Самое скверное, что ты не хотела носить черного ребенка?
– Нет, я бы этого даже хотела.
– Тогда что же самое скверное?
– Я тебе не скажу. – Она вылезла из постели за сигаретой. В комнате, где, словно куб дыма, стояла темнота, ее тело, когда она шла к бюро, белело, гибкое, стройное. Она чиркнула спичкой. И голос ее прозвучал из центра красного зарева. – Я не была уверена, кто отец.
Сирена полицейской машины уже дальше проблеяла в белой ночи. Насколько он помнил, у него ушло не так уж много минут препирательств на то, чтобы выудить из нее признание, что другим отцом мог быть Крейвен.
Шеба слишком нанюхалась наркотиков и не испугалась во время налета. Когда хлопки и воющий звук выстрелов прекратились, а на мутных стенах палатки перестали появляться тени налетчиков, она укусила меня в плечо, давая понять, что я могу больше не защищать ее и не прикрывать своим телом. Она вытряхнула песок из своей сложной прически в виде тоненьких косичек, образующих параболы, и, чтобы прийти в себя для ночного перехода, разгрызла орешек колы. Она жевала медленно, с наслаждением, окрашивая рот в темно-серый цвет. Вместе с запасом либерийских орешков колы у нее был шмат эфиопского ката и немного иранского банга. Ее кроткий дух редко опускался на землю.
Одежда свободно висела на ней, она сидела на корточках, и мне меж округлых раздвинутых ляжек видны были ее идеально обрисованные два бугра и расщелина, едва замаскированная тысячью безупречных завитков. Заметив, как я ее разглядываю, Шеба рассмеялась и, не переставая жевать колу, помочилась на песок пустыни. Обезумев от жажды, от любви, я сложил ладони и нагнулся, чтобы собрать хоть немного жидкости, хотя и знал из рассказов других путешественников, что моча такая же едкая, как лимонный сок. Она целый час жгла мне рот. Я вышел из палатки поговорить про налет. Сиди Мухтар показал мне водочные бутылки, подняв их к солнцу, – блики от них сверкнули как лазерные лучи. Я вернулся в палатку, где милая Шеба пела под меланхоличный скрип своего анзада:
Ублажи меня, бэби,
ублажи, ублажи.
Вынь хладный нож из ножен,
вонзи в меня снизу,
сзади и спереди,
вонзи в горло,
так долго мы едем,
так долго.
Я спел в ответ, отстукивая ритм по моему седлу для верблюдов, об апельсинах – на этот раз апельсин был съежившийся и так кишел насекомыми, что гудел как круглый радиоприемник, пока насекомые не съели всю сердцевину, и тогда кожура, хрупкая и вся в пятнах, рассыпалась, словно глиняный сосуд для мирры из древнего Меро. Наши спутники, устав поносить налетчиков и клянясь жестоко отомстить, собрались у входа в палатку и стали бросать нам пригоршнями устаревшие монеты, раковины каури и крошечные зеркальца, а также додевальвационные лю с изготовленным в Швейцарии профилем короля Эдуму, – голова его на этих монетах была столь же бестелесной, как и в действительности. Погонщики, носильщики, охранники, проводники, кузнецы, кожевенники, переводчики, счетоводы и контролеры качества – все, бурча, жаждали Шебу, а она, стягивая пальцами две, а то и три струны на шейке анзада, умудрялась одновременно выставлять голую ногу и щиколотку с браслетом. Эти люди с худыми лицами, обтянутыми спаленной солнцем кожей, и с гнилыми зубами, видневшимися в складках их галлябие и куффие, так близко окружили нас, что я, почувствовав вызов, толкнул одного из них. Он упал точно палка, неглубоко воткнутая в песок, и потерял сознание – до того мы все ослабели от тяжелого перехода по Балакам. Тут наконец появился бурдюк с водой, райские ручьи потекли по горлу, обвисшие груди моей жены похотливо подтолкнули меня, мы прочитали молитву на закате солнца, оседлали верблюдов, машинально, быстро упаковали пригоршню наших вещей во вместительные корджи, быстро связали скатанные палатки. Верблюды восприняли притаранивание нашего груза, вытянув губы и похлопав своими диснеевскими ресницами. Сиди Мухтар приветствовал нас издали. На небе показался серебряный месяц. Ночь начала свой путь.
Все эти детали нелегко восстанавливать в памяти там, где я пишу – при отвлекающем внимание потоке транспорта, этих ombrelles [30]30
Зонтиков ( фр.).
[Закрыть]и прогуливающихся протеже, этих высоких стаканов с оранжевой фантой и сельтерской водой, сдобренной anisette [31]31
Анисовой водкой ( фр.).
[Закрыть]. Но в той половине моего мозга, которая ловит звуки, сохранился позвякивающий ритм наших дней, череда запрограммированных небольших встрясок, перепаковка, увязка и оклики, проходящие по веренице, чтобы проверить нашу готовность двинуться в путь, зная, что верная смерть ждет того, кто выпадет из оратории, созданной фырканьем покачивающихся верблюдов и увещеваниями погонщиков.
Но какие в пустыне звезды! Какая фантастическая красота! Трепещущие шары, в полнейшем молчании наблюдающие наше продвижение. Не просто люстры, а люстры из люстр. Ум аль-Нужюм – Мать Звезд – словно главная вена, светящийся шов, пролегала по небу, черному, как бархат, на котором ювелир раскладывает драгоценности, и всюду терпеливому, изумленному взору открывались еще и еще звезды, так что даже самый маленький промежуток между двумя светилами дробился и снова дробился появлением новых точек, приводя изумленного наблюдателя к выводу, что Туманность Андромеды – это огромный овал, в котором можно сосчитать отдельные солнца. Под такой филигранью проходила призрачная вереница наших силуэтов под нежный звон верблюжьих колокольчиков по окутанным ночью холмам и кратерам, устало перемещая неперемещаемый песок. Вокруг нас видениями возникали полосы лавы, пробившиеся сквозь кристаллическую породу, лежащую там, где она упала, целую вечность. Обилие песчаника указывало на то, что в эпоху палеозоя здесь был океан; глубокие сухие каньоны доказывали, что некогда, в призрачные влажные времена, массив омывали реки. Миновав уступчатые проходы в скалах, блестящих, будто они мокрые, ты оказывался перед захватывающим дух видом – перед тобой лежали огромные серые пустые чаши, простиравшиеся вплоть до следующей освещенной звездами зубчатой гряды. Какое имело значение это лишенное человека великолепие? «Но когда земля превратится в тонкую пыль, и твой Владыка сойдет в сопровождении ангелов, и Ад приблизится, – в этот день человек припомнит свои деяния». Моя жизнь при таком лунном освещении стала сгустком страха, бесконечно маленькой точкой, однако бездонно пустой, стремительным вторжением некой инородной и нежелательной субстанции в эти скалы, в эти фантастические вспышки огня, в этот предательский песок. Я бы не вынес одиночества, монотонности, бесконечного идиотизма этой голой земли, не будь рядом со мной Шебы, мрачной и теплой. Я любил в ней то, что чувствовали другие, жестокие невежды пустыни, – ее отрешенность. У другой женщины есть нутро, есть насыщенное политическими соображениями пространство, которое высылает своих эмиссаров торговаться по поводу ее тела и чести, а у Шебы нутро не требовало ухода, ему нравилась музыкальность кочевников и их торговля наркотиками. Такая женщина – сирота Аллаха, священный сосуд. Шеба никогда не задавалась вопросами, никогда не размышляла. Я сказал ей:
– Звезды. Разве они не внушают страх?
– Нет. Почему?
– Они в такой беспредельности, так далеко. И каждая из них – солнце, такое далекое, что его свет, хоть он и движется быстрее, чем самый быстрый джинн, лишь через годы достигает наших глаз.
– Даже если это вранье было бы правдой, на нас-то как это влияет?
– Это значит, что мы в системе вещей меньше пылинок.
Она пожала плечами.
– Ну и что тут можно сделать?
– Ничего, – только молиться, чтобы так не было.
– Значит, вот почему ты молишься.
– Я молюсь об этом и о том, чтобы вернуть уверенность народу Куша.
– Но ты не веришь, что из этого что-то выйдет?
– Для мусульманина неверие – это как третий глаз. Невозможно.
Мы ехали молча, покачиваясь. Наша усталость была как башня, к которой каждая ночь добавляет этаж. Я сказал:
– А ты знаешь, что вокруг нас все подчиняется законам? Существуют законы энергии и света, законы, по которым эти скалы очутились здесь и которые определили их форму и их наклон. В свое время здесь был океан, и он оставил песок; в свое время трупики существ, которых было больше, чем звезд над нами, сложили здесь свои скелеты, из которых образовались острова, большие отмели, вулканы взметнули их ввысь, а потом ветер и вода, пролившаяся дождем с неба, омывшая их и исчезнувшая, снова их примяли. Было время, когда все здесь было зеленое и люди охотились на слонов и антилоп и рисовали картинки на скалах, изображая себя.
– Покажи мне такую картинку.
– Их трудно найти. Я видел их в книгах.
– Многое можно напридумывать и напечатать в книгах. Я хочу увидеть картинку на скале.
– Будем надеяться, что я сумею показать тебе такую. Но я хочу сказать больше: было время, когда люди охотились тут и даже ловили рыбу. Возможно, так случится снова, и мы будем забыты – все забыты – и будем значить меньше, чем верблюды, из чьей кожи мы делаем палатки. Прошлое и будущее необозримы, они часть законов, о которых я говорю, – законов таких точных, что ты и представить себе не можешь, они как эти скалы, которые, когда раскалываешь, отходят плоскими пластинами. Все подчиняется этим законам. Все растет по этим законам и умирает по ним. Они умерщвляют нас. Мы пойманы ими, как птицы в клетке, – нет, как насекомые в клетке, состоящей сплошь из прутьев, внутри которых нет пространства, точно мы в гнилом дереве, на самом же деле не в гнилом, а в твердом, более твердом, чем самый твердый камень. И этот камень, один-единственный камень, уходит к звездам и дальше, так как, по правде говоря, они ведь очень близко, а за ними – чернота, где те же законы продолжают действовать, продолжают перемалывать нас, превращая в тончайшую пыль, более тонкую, чем антимония, которую ты накладываешь на веки, чтобы они были серыми. Помоги мне, Шеба, я тону.
– Я делаю, что могу. Но ты так держишься, что из моих стараний мало что получается.
– Нет, очень много.
Помолчав, слушая, как ноги наших верблюдов скользят по холодному песку, она спросила:
– Когда, ты думаешь, мы доберемся до места нашего назначения?
– Доберемся тогда, когда дальше некуда будет идти, – сказал я.
– А как мы узнаем, когда это будет?
– Когда кончится засуха.
Дом родителей Кэндейс, куда она привезла меня в конце нашего первого года обучения, был обшит внутри белым деревом и тоже походил на клетку. Я подивился тесноте комнат, их отделке. Ее отец вышел ко мне из дальних комнат, крупный мужчина с берилловыми, как у Кэндейс, глазами и седыми волосами, такими тонкими и редкими, что они передвигались по голове, когда он жестикулировал. У меня было впечатление, что в его большом теле много дряблых мест, пузырей, где осел растянувший плоть алкоголь. Он излишне сильно пожал мне руку.
– Значит, вы и есть тот молодой человек, от которого без ума моя дочь.
Без ума? Я посмотрел на острое нежное личико Кэнди с унаследованным от матери красивым прямым носом. С матерью я только что познакомился, – казалось, она была напугана. Возможно, пятна на лице папаши тоже объяснялись страхом. Страх владел всеми нами. Я впадал в панику по мере того, как открывал для себя дом – его обшитые деревом стены сжимали тебя, как западня; его светлые, исподволь поблескивающие обои, его толстые, фруктового цвета, заглушающие шаги ковры, его удивительная гостиная, длинная и белая, где между двух белых диванов стоит белый мраморный кофейный столик с фарфоровыми подносиками и медными весами, на которых лежат белые неувядающие лилии, слишком блестящие, чтобы быть настоящими. А что это за маленькие блюдечки с плоскими краями и пробковым дном, которые разбросаны повсюду – на широких подлокотниках диванов и круглых столиках, словно некий гигант щедро наделил эту комнату своими изощренными сложными монетами?
– Папа, я не говорила, что я от него без ума, – смутившись, поправила отца Кэнди, и лицо ее, которое, как я сейчас понял, представляло собой смешение генов, покраснело.
– Конечно же, она без ума, мистер... боюсь неверно произнести ваше имя.
– Зовите меня Феликс, – произнес я с ударением по-английски на «е».
Я подумал, не следует ли мне сесть и не проглотит ли меня диван, точно матерчатый крокодил. В Америке, в магазинах мелочей и в транспорте в часы пик, у меня часто возникало ощущение, что я попал в алчные яркие челюсти со множеством зубов. В гостиной Каннинхэмов были оазисы с косметическим запахом. Как и в старом кинотеатре на Торговой улице, здесь от обстановки исходил дух героической стагнации. Усевшись на край бездонного, как губка, дивана, я дотронулся до медных весов и, конечно же, обнаружил, что они не шевелятся. Некогда добротное приспособление было отполировано, запаяно и нагружено пластмассовыми лилиями. Закреплено навсегда, как в этом странном христианском рае, где ничего не происходит, даже гурии не ухаживают.
– Asseyez-vous [32]32
Присаживайтесь ( фр.).
[Закрыть], – предложила миссис Каннинхэм с улыбкой, трогательно похожей на улыбку дочери, только какой-то недолговечной, словно мелькающая на губах Кэнди улыбка была сморщена, потом снята с ее губ, разглажена и налеплена на хмурое лицо.
Но когда в ответ я похвалил на школьном французском хозяйку за красоту комнаты с ее цветами и киноэффектами, лицо ее стало столь же пустым, как у эмалевой пастушки на каминной полке, застывшей в позе напряженного внимания перед играющим на флейте пастушком, стоящим в точно такой же позе. Между ними находились внушительные часы с маятником из ртутных палочек, и их ход, возможно, врезался – на холодном эльфовом плане – в звуки флейты пастушка. Сам камин – символический центр дома – был столь примитивен, что даже во мне он мог пробудить знакомый отзвук, и вычищен, как пол в душевой кабинке, украшен никогда не бывшими в употреблении медными подставками, а на них лежали три идеальных березовых полена, которые никогда не будут растоплены.
Мистер Каннинхэм вернул разговор на более спокойный английский.
– Феликс, не сочтите, что я влезаю в личные дела, но на чем вы собираетесь специализироваться в колледже?
– В первый год еще не требуют определиться, но я хотел окончить курс по управлению и в дополнение немного заняться французской литературой.
– Французская литература – какого черта она нужна вашему народу? Управление – это я понимаю. Желаю в этом успеха.
– В чужеродном климате моей родины, мистер Каннинхэм, литература, которую принесли нам французы, может прижиться лучше, чем политические институты. В Расине есть сухость, в Вийоне есть резкость, которые нам подходят. Во Французском Индокитае не так давно я читал на память сонеты Ронсара военнопленному террористу, которого потом казнили. В менее развитых частях света великодержавная политика Запада может быть отметена, но его культура деструктивна.
– Кэн-ди, – с излишним напором, как все стеснительные люди, произнесла миссис Каннинхэм, опустившись в кресло, обтянутое материей с розами величиной с капусту, и грациозно, диагонально сложив тонкие щиколотки с застенчивой «сексуальностью», напомнившей мне ее дочь... которая исчезла! Horreur! [33]33
Ужас! ( фр.)
[Закрыть]Куда? До меня доносилось ее хихиканье из какого-то далекого уголка дома. Как потом выяснилось, она поднялась наверх поболтать со своим младшим братом, а может быть, на кухню поддержать отношения с цветной поварихой Каннинхэмов? Так или иначе она бросила меня наедине со своими внушающими страх бледными родителями, женская половина которых остановилась на полпути и наконец выбрала соответствующий глагол из своей сокровищницы «приятных» вещей, – ...намекала на ваши романтические приключения.
– Не романтические, мадам, а, право, довольно нужные. Французы за свои стихи потребовали, чтобы мы сражались в других бедных странах. Я выполнил их просьбу в Индокитае, так как это помогло мне вырваться из моей деревни, а когда надо было ехать в Алжир, где восставшие были такими же, как я, африканцами, я сам восстал и дезертировал.
– О господи! – воскликнула миссис Каннинхэм. – А вы когда-нибудь сможете вернуться?
– Не раньше чем колонизаторы уйдут. Но это может произойти через десяток лет. Требуется лишь, чтобы в Париже появился политик, готовый выступить гробовщиком. А пока я наслаждаюсь жизнью в вашей удивительной стране, как сном, от которого когда-нибудь проснусь чудесно освеженный.
– Есть вопрос, который я все откладываю вам задать, – сказал мистер Каннинхэм, вставая со зловещим видом, но не для того, чтобы задушить меня, как на секунду показалось моим напряженным нервам по его не слишком любезному тону, а чтобы подойти к высокому шкафу и налить себе выпить из квадратной бутылки, на которой значилось «Джек» или «Джим». Мое имя он заменил нейтральным: – А как насчет вас, дружище?
Горло у меня действительно пересохло от волнения.
– Стакан воды, если не трудно.
Он приостановился.
– Простой воды? – Потом мозг его переварил мой ответ, как нечто вполне объяснимое, чего и следовало ожидать от непривилегированного представителя мира, находящегося в состоянии детства. – А может быть, «Севен-ап»? Или «Шлитц»?
Я бы выпил, но тут же постарался выбросить из памяти воспоминание о золотистом пиве на темном столике в кафе «Бэджер» и, представив себе ожидающий меня семейный ужин в виде долгого пути сквозь хрупкие дебри хрусталя, серебра и кратких высказываний, решил для безопасности держаться трезвости. А потом я получил какое-то тихое удовлетворение от того, что воспрепятствовал осуществлению желания этого большого белого дьявола проявить гостеприимство.
– Просто воды, пожалуйста, – повторил я.
– Это, очевидно, из-за вашей веры?
– Из-за нескольких причин.
– Добавить льда? – спросил он.
– Без льда, – сказал я опять-таки вопреки желанию, но в соответствии с образом идеальной строгости, в который я облекся для данного случая как в панцирь.
– Элис, – произнес он неожиданно приятным голосом.
Его покорная супруга поднялась – пастушка все-таки услышалапастушка – и отправилась на кухню, которая, судя по всему, согласно одному из этих непостижимых законов, наводящих порядок в анархии американских браков, является ее вотчиной. А мистер Каннинхэм, подкрепившись за счет своей бутылочной когорты, продолжил свои интересные расспросы, обратившись ко мне:
– Какого вы мнения о наших американских цветных?
Я уже достаточно беседовал с учениками Элии Мухаммада и слышал это странное слово «цветные», но эту странность переплюнула еще большая странность предшествовавшего ей слова «наших». Я уставился на свои ноги, так как ступал на предательскую почву. Но я мог не стараться в поисках ответа, поскольку мистер Каннинхэм предоставил его сам.
– Что мы можем сделать, – спросил он меня, – чтобы помочь этим людям? Они перебираются в хороший район и превращают его в джунгли. Вы вкладываете туда миллионы государственных денег, и все вылетает в трубу. Наши американские города превращены в настоящие развалины. Детройт был отличным городом. Они превратили его в дыру, ребята набрасываются на вас прямо на Гудзонском бульваре, а центр города – пустыня. То же происходит с Чикаго. В Гайд-парке, что вокруг университета, где такие прекрасные дома, белая девушка не может после ужина вывести собаку, не имея при себе ножа. На Ближней Северной стороне немного лучше, но отойдите на два квартала от озера – и ваша жизнь в опасности. Почему, вы думаете, я перевез семью в Ошкош? Я потерял сорок кусков в год, уехав из большого города. Но ведь это сущий ад: цены на недвижимость стали запредельные, единственный способ вернуть свои деньги в некоторых районах – это сжечь свою собственность. А возьмите машины – всякому, кто держит машину на улице, следует проверить свои мозги. И они не просто крадут машины, они их ломают – из чистой ненависти. Что разъедаетэтих мерзавцев? Хотелось бы знать.
Миссис Каннинхэм вернулась, неся мне воду в стакане с серебряной каемочкой, и я подумал о том, как в пустыне солоноватую воду набирают из дыр со следами верблюдов в окружающей грязи, с пленкой, образованной бактериями, которые умудряются выжить даже в обжигающих песках.
С возвращением жены мистер Каннинхэм стал держаться немного суше. В его тираде было и нечто для меня лестное: то, что он обращался ко мне как к собрату-страдальцу – жар его горя опалил мою кожу.
– Мне пришлось здесь хлебнуть горя, стараясь сделать себе имя из безвестности в середине жизни, но по крайней мере я не боюсь, что мою дочь могут изнасиловать, и мне не надо запирать машину всякий раз, как я иду писать на бензоколонке.
– Фрэнк! – сказала Элис.
– Извини, но я подозреваю, что даже в Сахаре вы писаете.
– Nous buvons les pissats [34]34
Мы пьем писанье ( фр.).
[Закрыть], – улыбнувшись, сказал я.
– Вот именно, – сказал он и бросил победоносный взгляд в сторону жены. – В общем, на чем я остановился? Ах да, я задал вопрос: какое же надо принять решение в отношении этих людей?
– Обеспечить их полезной работой?
Это предложение, сделанное со всей застенчивостью, казалось, привело его в ярость. Пятна на лице проступили ярче, волосы встали дыбом.
– Бог ты мой, да они в жизни не согласятся заниматься тем, что им предлагают, они предпочтут жить на пособие. Ваш средний чикагский джигабу – он слишком умен, чтобы пачкать лапы: если он не может стать сутенером, или торговать наркотиками, или получить канцелярское местечко в каком-нибудь дурацком магазине деликатесов, он просто обрюхатит жену и будет считать денежки.
– Это ведь и есть – как же вы это называете? – американский индивидуализм, верно? Антрепренерство непредвиденного сорта.
Он уставился на меня. Он начинал меня понимать.
– Господи, если это предпринимательство, давайте отдадим его русским. У них есть на это ответ. Концентрационные лагеря.
– Папа, ты же обещал, что не будешь! – воскликнула Кэнди, спустившаяся по лестнице. Она только что причесалась, лицо ее сияло счастьем «быть дома», пунцовые губы алели, округлые формы стройного тела подрагивали, как у мажоретки, в кашемировом свитере и шерстяной плиссированной юбке, взвихрившейся, когда она крутанулась вокруг опорного столба, – этот пируэт привел меня в восхищение, когда я вошел в дом.
– Не будет что делать, дорогая? – спросила мать, словно в этой комнате тихих часов и звонких сопоставлений было плохо слышно.
– Не будет досаждать Счастливчику чикагскими черными.
– Не только чикагскими, – возразил отец, – возмутительно обстоят дела повсюду. Даже в Лос-Анджелесе – они его просто ровняют с землей. Черт возьми, в Чикаго по крайней мере есть политическая машина, которая может делать выплаты и удерживать все под крышкой. А в таком городе, как Ньюарк, они просто все захватили. Они сделали с Ньюарком то, что мы сделали с Хиросимой. Даже трава не растет там, где обитают они. Говорю вам: они – проклятье для нашей страны, и пусть наш друг не обижается.
– Папа, ты ничего не знаешь и настолько предубежден, что я не способна больше даже плакать по этому поводу. Я не хотела приводить сюда Счастливчика, но мама велела. Из-за тебя мне оченьстыдно перед ним.
– По счастью, черт побери, он вне всего этого. Он – африканец, у них там по крайней мере есть гордость. Он говорит, что у них есть своя культура. А у бедных цветных в нашей стране нет ничего, кроме того, что они украдут.
И он не совсем спьяну подмигнул мне. В голове у меня мелькнула мысль, что меня, африканца, благодарят за то, что я не приехал сюда насовсем и не стану поднимать ставки страховых компаний своим воровством. Более того: он видел во мне олицетворение континента-родины, который, как он надеялся, жаждет принять афроамериканцев обратно в дружественный всепоглощающий хаос.
– Точно, – сказал я и поднялся. – У них нет ничего, кроме того, что они украдут.
Когда в знак протеста я встал, перспектива комнаты изменилась, и я был заново потрясен ее экзотикой, фантазией, с какой она обставлена, – эти фальшивые цветы и камин, мебель, похожая на тающие айсберги, ее белизна, и холод, и великолепная стерильность, – короче, пустота при изобилии, посыпанном непонятными пробковыми кругляшами.
(Плохо я это выразил. Мокрый кружок от стакана с фантой испортил мою рукопись. Как мне хочется вернуться в Дурной край Куша и к моей дорогой обреченной Шебе!)
Братишка вслед за Кэнди сошел вниз. Фрэнк-младший, скрытный разжиревший четырнадцатилетний мальчишка, достаточно большой, чтобы в моей деревне жить в длинном доме, всем своим видом показывал, как гибельно из ночи в ночь спать одному в жаркой комнате с плюшевыми мишками, фетровыми вымпелами и швейцарскими занавесками в горошек. Улыбка, которую он нехотя мне выдал, обнажила варварский и, несомненно, болезненный зубной панцирь из серебра и стали. От его вялого, влажного рукопожатия отзывало мастурбацией. В рыбьих глазах застряла скука; он попытался завязать со мной разговор о баскетболе, о чем я, несмотря на цвет моей кожи, ничего не знал. По случаю этого семейного торжества мальчик надел сорочку с галстуком, – воротничок и узел галстука сильно врезались в его рыхлую шею. Я подумал: «Вот он, наследник капитализма и империализма, крестовых походов и крутящихся подъемных кранов». Однако он не казался эмбрионом мистера Каннинхэма, тогда как мистер Каннинхэм со своим ловкачеством и бравадой, отчаянным желанием нравиться и с такими наивно поредевшими волосами казался увядающим, халтурно собранным увеличенным вариантом своего сына. Я понял, что мужчина в Америке – это неудавшийся мальчик.
Тут в алебастровой арке, ограждавшей гостиную, появилась черная женщина. Несмотря на все оборочки ее формы, она была такая знакомая – с этой ее толстой нижней губой и пухлыми прелестями. Схожесть с Кадонголими подчеркивалась ее манерой держаться, дававшей понять, что у нее было много в жизни возможностей и она могла бы с не меньшим удовольствием находиться сейчас в другом месте.







