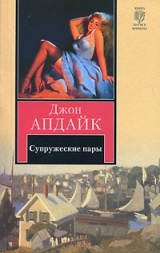
Текст книги "Супружеские пары "
Автор книги: Джон Апдайк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
– Рад, что ты по-прежнему в хорошем настроении, – перебил его Гарольд. – И по-прежнему сокрушаешь святыни.
– Долой святыни!
– Мы с Марсией хотим пригласить тебя к нам – пропустить стаканчик и серьезно поговорить. Марсия очень расстроена. Она навещала Анджелу. Та вежливо ее приняла, сама аккуратность, не придерешься, но совершенно несгибаемая.
– А что, Марсии нравится сгибать людей?
– Знаешь, у меня сегодня, наверное, проблемы с речью. Главное, Пайт, мы за вас переживаем.
– Je comprende. Merci. Bonjour. Наконец-то Гарольд разозлился.
– Ну, я пошел. Мне надо постричься. – С точки зрения Пайта, прическа у него и так была в полном порядке.
Приглашения к Литтл-Смитам так и не последовало. Мало кто из их общих с Анджелой друзей проявлял к нему теперь интерес. Одни Солцы, вероятно, по подсказке Анджелы, пригласили его к себе на ужин, но мебель в их доме уже была готова к переезду, и вечер произвел на Пайта гнетущее впечатление. Сидя на чемоданах, Солцы уже не сдерживались и все время рассказывали о себе как о евреях, словно все эти годы в Тарбоксе им приходилось подавлять свое национальное достоинство, а теперь оно вырвалось на свободу. Айрин, трепеща бровями, в подробностях поведала о своем сражении со школьной администрацией из-за рождественской церемонии. Пайт узнал, что антисемитизм ощущается даже в их узком кругу. Больше всех отличились на этом поприще Константины. Кэрол выросла, знаешь ли, в ОЧЕНЬ пресвитерианской провинциальной атмосфере; Эдди вообще невежда. Вечер за вечером они утверждали всяческий абсурд: что среди коммунистов одни евреи, как и среди психоаналитиков, скрипачей… Сам знаешь, теория мирового заговора. Страшно сказать, уже после двух рюмок начинались еврейские анекдоты, и Солцы, естественно, знали их не в пример больше, чем Эдди и Кэрол, что толковалось как стыд за свою национальность, хотя она, Айрин, нисколько своего еврейства не стыдится. Пайт попытался им объяснить, что он, особенно в тарбокском обществе, тоже чувствует себя евреем в душе; но Айрин, не пропустив его в расу избранных, обрушила на него подробнейший анализ, почему Фрэнк Эпплби, этот белый протестант англо-саксонского происхождения в квадрате, постоянно с ней спорил, специально цеплялся к ней в компаниях. Если честно, то среди их «друзей» всего двое относились к ним без всякой снисходительности и без страха: Анджела и Фредди Торн.
– Этот жалкий идиот! – вырвалось у Пайта по привычке. Обычно это доставляло собеседникам удовольствие, потому что от Пайта ждали ненависти к Фредди. Но Солцы истолковали его восклицание по-своему: как подтверждение коллективного подозрения, что Фредди и Анджела – давние любовники.
Пайт не стал у них засиживаться. Его уже тянуло в тишину конуры под крышей, к нетребовательным четырем стенам. Бен положил руку ему на плечо и улыбнулся своей доисторической улыбкой.
– Тебе сейчас худо, – сказал он. – Жаль, что ты не еврей, потому что каждый еврей готов к невзгодам и вооружен на этот случай особой философией. Испытание, устроенное Богом. Нисайон Элохим.
– Я сам навлек на себя беду, – возразил Пайт.
– Это как сказать. Если ты веришь во всемогущество Господне, то это не имеет значения. Важно, чтобы ты попробовал вкус собственного пепла. Как у нас говорится, Сын Давидов явится только к полностью праведному или полностью падшему поколению.
Пайт в ответ попытался признаться им в симпатии и повторил слова Анджелы о том, что среди всех пар одни Солцы не погрязли в мелочах. Но Бен продолжал улыбаться и настаивал на своей рекомендации:
– Не бери в голову, Пайт! Все обойдется. С тобой нам было очень радостно.
Айрин чмокнула его на прощанье – горячее прикосновение ярких губ, напомнившее, как ему не хватает женщины.
Через несколько дней, проехав несколько раз мимо дома Би, он не выдержал и позвонил ей. До этого они один раз видели друг друга на улице: она помахала ему и исчезла в дверях ювелирного магазина, все еще украшенных кивающим кроликом, хотя Пасха уже прошла. Ее голос в трубке звучал испуганно и виновато.
– Пайт? Как поживаешь? Когда ты вернешься к Анджеле?
– Какое возвращение? Без меня она обрела себя.
– Только не по ночам.
– А как проводишь ночи ты?
– По-прежнему. С вечеринками покончено. Все помешались на разговорах про детей.
– Ты бы не… Может, увидимся? Просто попьем днем чаю…
– Лучше не надо, дорогой. Я серьезно. У тебя и так хватает женщин для переживаний.
– У меня вообще нет женщины.
– Наверное, так тебе лучше?
– Во всяком случае, не так плохо, как я думал. Но я о нас с тобой. Между прочим, я был в тебя влюблен, прежде чем на нас рухнула крыша.
– Да, ты был хорош. Такой живчик! Но, боюсь, ты меня идеализировал. Для тебя я слишком ленива в постели. И вообще – это так трогательно! – я вдруг стала нужна Роджеру.
– То есть как?
– А ты никому не скажешь? Все считают, что вокруг тебя водят хоровод девки.
– Все ошибаются. У меня пристрастие к замужним. Они напоминают мне мамочку.
– Нахал! Я тебе про Роджера, а ты… Роджер потерял уйму денег – все эти его друзья-инвесторы в Бостоне – и прибежал ко мне в слезах. Как мне это понравилось!
– Значит, из-за его банкротства я больше не могу с тобой спать?
– Какое банкротство? Я же говорю, ты все идеализируешь. Просто он перепугался, так струхнул – нет, я должна кому-то об этом рассказать, меня так и распирает! – что согласился усыновить ребенка. Мы уже побывали в одном агентстве, ответили на кучу оскорбительных вопросов о своей частной жизни. Странно, но белые дети – дефицит, зато черных хоть отбавляй.
– Вот чего ты хотела? Приемного ребенка?
– Да, столько лет! Как узнала, что сама не смогу родить, так и захотела. В бесплодии, между прочим, виновата я сама, а не Роджер. Все показывали пальцами на Роджера, а на самом деле… Ах, Пайт, прости, тебе ведь и без меня тошно!
– Нет, почему же? – Он вспоминал, как они блаженствовали вдвоем под крики детей, играющих в снежки, ранним вечером, в запахе лаванды. Она всплакнула, и ее голос стал влажным и безвольным, как ее тело в постели.
– Как это печально! Я тебя нужна, но вынуждена тебе отказать. А ведь раньше, когда я сама в тебе нуждалась, ты в конце концов явился на зов.
– В конце концов. Усыновление – это здорово, Би! А Роджера отправь в богадельню.
Смех сквозь слезы.
– Как же я могу, когда он, наконец, дает мне то, о чем я столько времени его умоляла! Самое забавное, это ты помог. Ваш с Анджелой разрыв очень напугал Роджера, вот он и посерьезнел.
– Он всегда был серьезным. А теперь еще и пуглив.
– Лучше признайся, Пайт, ты ведь никогда ко мне серьезно не относился? Я так боялась, что ты позвонишь! Я думала, что это произойдет раньше.
– Да, надо было позвонить раньше, – согласился он и зачастил, чтобы ее приободрить: – Нет, все это было, конечно, нереально. Целую!
– Целую, – выдохнула Би в ответ. – Много-много-много раз.
В воскресенье, съездив с дочерьми в бостонский Музей науки и вернув их домой, Пайт загрустил при виде пустой баскетбольной площадки. Именно в это время года молодые женатые мужчины Тарбокса отнимали здесь друг у дружки мяч. Но Уитмены уехали, Солцы тоже, Константин летает в Лиму и Рио, Торн и Литтл-Смит всегда считали баскетбол плебейской игрой. Из трещин в асфальте поползли сорняки, кольцо без сетки висело криво – надо бы закрепить его шурупами подлиннее… Анджела ждала их во дворе: она подбирала с лужайки нападавшие за зиму ветки и засевала голые куски земли. Проследив его взгляд, она сказала:
– Лучше сними кольцо. Или желаешь пригласить друзей сыграть? Я не возражаю.
– Как выяснилось, у меня нет друзей. Все это были твои друзья. В любом случае, получилось бы искусственно и натянуто, тебе не кажется?
– Наверное.
– Может быть, Рут захочется побросать мяч в кольцо?
– Сейчас у нее более женственные интересы. Возможно, потом, когда у них в школе появятся спортивные команды. А пока голое кольцо навевает тоску, как петля на эшафоте.
– Какая ты тонкая натура!
– Как прошла поездка? Искусственно и натянуто?
– Нет, было весело. Нэнси заплакала в планетарии, когда вокруг нас завертелись звезды, зато ей почему-то понравилась «Прозрачная Женщина».
– Наверное, она напомнила ей меня, – сказала Анджела.
Пайт заподозрил, что этот приступ самокритики – прелюдия к тому, чтобы пригласить его в дом. В глубине души ему этого не хотелось. Он чувствовал, что худшие ночи одиночества уже прожиты. Одиночество чем-то его обогащало хотя бы способностью удивляться, с которой он расстался вместе с детством. Даже визиты к Анджеле, при всей их неуклюжести, обдавали приятной свежестью. Она, со своими мягкими жестами и непонятными приступами отчужденности, выглядела робким существом, созданным из его чресл и делающим первые самостоятельные шажки.
– Как ты поживаешь? – спросил он ее.
– Дел по горло. Пришлось заново знакомиться с родителями. Мать сказала, что я десять лет задирала перед ними нос. Мне так не казалось, но не исключаю, что она права.
– А девочки? Меньше по мне скучают?
– Поменьше. Вот только беда, когда что-то ломается, и я не могу устранить поломку. Рут на днях мне нагрубила: сказала, что я сглупила, лишив их папы. Не надо было пихаться в постели… Наверное, кто-то, Джонатан или Фрэнки, нашептал ей в школе, что со мной плохо спать, вот она и решила, что я оставляла тебе мало места… Ну и дискуссия у нас вышла! Две женщины сели посплетничать…
– Бедная святая! Две бедные святые.
– А ты лучше выглядишь.
– Привыкаю. Никто не обращает на меня внимания, и это хорошо, потом что не приходится притворяться. Если я с кем и беседую, то только с Адамсом и Комо. Мы сколачиваем шкафы для новой пары, поселившейся у дороги в Лейстаун.
– Я думала, ты злодействуешь на Индейском холме.
– Там справляются Галлахер и Яжински. Пользуются готовыми проектами, совсем не учитывая кривизну склона…
– Представляю, какие выскочки там поселятся!
– Зато Мэтт развернулся во всю ширь.
– Терри скучает.
– Она обречена на скуку. А ты? Скучаешь или счастлива? Наверное, устала отвергать предложения знакомых джентльменов?
– Некоторые закидывают удочку, но ничего серьезного. Женщина, разошедшаяся с мужем, – рыбка особой породы. Им страшновато.
– Ты считаешь, что мы разошлись?
Вместо ответа она посмотрела через его плечо, туда, где цвели на опушке колокольчики, где он похоронил хомячка Рут и где сейчас их девчонки, радуясь, что, наконец, выбрались из скрипучего, немытого отцовского пикапа, полезли прямо в выходных воскресных платьях на любимую низкую яблоню, затертую кленами. Потом, вспомнив добрые вести, Анджела просияла.
– Да, Пайт, у меня для тебя новость! Странная и очень приятная. Мне начали сниться сны! Утром я могу их вспомнить. Такого со мной не бывало много лет.
– Какие это сны?
– Пока что не очень волнующие. Например, я стою в лифте, жму на кнопку, но кабина не едет. Я спокойно думаю: «Наверное, я уже на своем этаже». Или такой – может быть, это часть того же сна: я в магазине, выбираю Нэнси меховой капюшон для лыжного костюма. Я точно знаю размер, тип подкладки, брожу от прилавка к прилавку, и мне предлагают варежки, наушники, галоши, все, что угодно, только не то, что нужно, но я спокойна и вежлива, потому что знаю: желанная вещь где-то меня ждет, я уже купила здесь такой капюшон для Рут.
– Какие приятные сны!
– Такие робкие, заурядные… ОН со мной не согласен, но я считаю, что мое бессознательное чуть не умерло, а теперь осмелилось ожить и выражает то, чего мне хочется. Но не для себя, а для других.
– Получается, что ты видишь сны для НЕГО. Как ребенок, делающий пи-пи для папы.
Как он и хотел, она снова заворожено застыла в этом квадратном дворе, рядом с аккуратным домом без мужчины.
– Какой же ты грубиян! – сказала она. – Грубиян и ревнивец. Тебе-то запросто снились сны! Твои сны просто гасили мои.
– Почему мы не могли видеть одно и то же?
– Нет, твои сны – это твое. Сейчас я понимаю, что ты все делаешь один. Знаешь, когда я сильнее всего ощущала одиночество? Когда мы занимались любовью. – За этим последовала такая мертвая тишина, что ей пришлось подсластить пилюлю. – Что слышно о Фокси?
– Ничего. Даже не прислала открытку с мемориалом Джорджа Вашингтона. Он видел, что его лужайка, особенно рядом с колодцем и сараем, умерла в тех местах, где было много льда. Суровая зима, рост полярных шапок. Скоро вернутся мохнатые мамонты. – Для меня это облегчение.
Девочки вернулись, обсыпанные корой.
– Уезжай, – сказала отцу Нэнси. Рут шлепнула сестру.
– Нэнси! Это неприлично!
– По-моему, она просто пытается помочь, – объяснила Анджела. – Она подсказывает папе, что теперь ему можно ехать.
– Мамочка, – воскликнула Нэнси, вертя над головой пухлой ручкой, звезды так крутились!
– А детка хныкала, – подхватила Рут.
Нэнси постояла спокойно, восстанавливая равновесие, а потом набросилась на сестру с кулаками.
– Врунья, врунья!
Рут прикусила нижнюю губу и исподтишка нанесла Нэнси чувствительный удар кулаком, отшвырнув ее.
– Детка хныкала, – повторила она. – Расстроила папу и заставила его раньше отвезти нас домой.
Нэнси рыдала, уткнувшись матери в ноги. Ее лицо находилось там, где лицу Пайта уже никогда не бывать. Изысканная щель, волосы, воздух, восхитительная чаша, созданная для сбора семени.
– Уверена, там было замечательно, – сказала Анджела. – Потому все такие усталые и капризные. Идемте ужинать. – Она подняла глаза. Ей стоило труда не последовать инстинкту и не позвать его.
Бернадетт Онг столкнулась с Пайтом на улице, у двери книжного магазина, торговавшего, в основном, журналами. Он собирался купить «Лайф», она выходила с номером «Сайнтифик Американ». Она была плоская, твердая, без прежней силы, с землистым лицом, с набрякшими верхними веками азиатки, прячущими ресницы. Они задержались под навесом магазина. Был первый по-настоящему теплый апрельский день, настоящая пляжная погода, когда ученики старших классов опускают, наконец, затвердевшие крыши своих машин и с криками мчатся в дюны. Над Тарбоксом белел греческий храм, оседлавший рыжую скалу, золотой петушок на его шпиле горел в синей духовке неба. Бернадетт сняла плащ. На не очень чистой шелковой блузке поблескивала тонкая цепочка с распятием. Часто спускаясь в штольню смерти, она сама потускнела, как шахтер.
Первым делом он виновато спросил ее о состоянии Джона, и она ответила:
– Ничего хорошего ожидать не приходится. – Судя по ее тощ, перспективы были самые мрачные. – Его пичкают снотворным, и он почти перестал говорить по-английски. Раньше он спрашивал, почему его никто не навещает, а теперь перестал.
– Прости, я хотел его навестить, но у меня свои неприятности. Наверное, ты слышала, что мы с Анджелой разъехались.
– Нет, не слышала. У-ужа-ас! – Она донельзя растянула в этом слове обе гласные. Он вспомнил, как она спрашивала его на вечеринке, когда он с ней потанцует. – От кого-кого, а от вас я такого не ожидала. Ты, наверное, догадывался, что Джон всегда был наполовину влюблен в Анджелу.
Пайт ни о чем таком никогда не догадывался.
– Может быть, навестить его сейчас? – предложил он великодушно. – У меня появилось время. Ты, наверное, едешь в больницу?
Тарбокский мемориальный госпиталь ветеранов находился в двух милях от центра города. Построенный из темного клинкерного кирпича, с розовым флигелем родильного отделения, плохо гармонирующим с главным корпусом, он стоял на бугре между заброшенными железнодорожными путями и теплицами («Хендрик Вое и сыновья» – цветы, клубни, саженцы). Позади госпиталя был разбит аккуратный сад, в котором никогда не гуляли ни пациенты, ни медицинский персонал. Высокое двухстворчатое окно в палате Джона Онга выходило на подстриженную бирючину, розовую яблоню, зеленую от ржавчины медную ванночку для птиц без воды. Ветер носил за окном лепестки яблони, раздувал белые занавески, колебал стенки кислородной палатки у кровати. Джон был худ, как скелет, и совершенно бесцветен, если не считать лихорадочных пятен размером с монету на обеих щеках. Худоба делала Джона длиннее, чем его помнил Пайт. Говорил он с огромным трудом, словно в груди у него раздулся пузырь, мешающий выдавливать слова. Прежней осталась только улыбка, которой он маскировал непонимание того, что ему говорят.
– Кар дла, Пай? В так тал погора ош хот сигать тенна. Бернадетт уныло перевела:
– Он говорит: «Как дела, Пайт? В такую теплую погоду очень хочется сыграть в теннис».
– Скоро ты отсюда выйдешь, – сказал Пайт и изобразил подачу воображаемого мяча.
– Аксе?
– Он спрашивает, как там все.
– Неплохо. Зима очень затянулась.
– Ак ти сам? Деди? Вечи у Федди?
– Анджела тоже хочет тебя повидать, – ответил Пайт громко, словно вслед отъезжающей машине. – Встречи у Фредди Торна уже не те. А дети растут.
Он чувствовал, что говорит не то, но сказать было все равно нечего. Глаза Джона Онга с каждой минутой тускнели, руки, похожие на клешни насекомого, с выпирающими костями, теребили принесенный женой журнал. Потом он надолго закашлялся, словно пытался выдрать глубоко укоренившееся растение. Пайт отвернулся и увидел на краю пустой ванночки малиновку. Он догадался, что для общения с ним Джон с трудом выпрыгнул из топи лекарственного забытья и быстро погружается в нее снова. Его лицо оставалось осмысленным еще минуту, а потом он что-то неразборчиво забормотал, перешел на корейский. Он посмотрел на Бернадетт, ожидая, что она переведет, но она пожала плечами и подмигнула Пайту.
– Я знаю всего несколько фраз. Он иногда принимает меня за свою сестру.
Пайт встал, чтобы уйти, но она взмолилась:
– Не уходи!
Пришлось промучаться еще четверть часа, слушая, как Бернадетт звенит чем-то у себя на коленях, и наблюдая, как Джон, забыв про гостя, листает «Сайнтифик Американ» в обратную сторону, нетерпеливо разыскивая нечто, чего там заведомо не могло быть. По коридору бесшумно сновали сестры, врачи громко с ними заигрывали. На полу рядом с батарей стояли огромные вазы с цветами, и Пайт от нечего делать гадал, кто их прислал: Макнамара, Раек? Облачко погасило яблоню за окном, с ее ветвей посыпался на землю дождь лепестков, словно раньше они держались на клею солнечного света. Палата начала остывать. Пайт снова встал, взял бессильные пальцы больного в свои и сказал слишком громко, слишком шутливо:
– Увидимся на корте.
Размытые обезболивающим глаза, видевшие некогда хаос частиц, составляющих материю, потянули Пайта в омут всеведения, где смерть благообразна, ибо не обрушивается на землю, как метеор, а так же естественна, как рождение, брак, почта в ящике.
Бернадетт проводила его по сверкающему коридору до выхода. Ветер выхватил из ее прически прядь и бросил ей на глаза; солнце, отражаясь от стекла теплицы, заставляло жмуриться. Ее крестик блестел. Пайт почувствовал, что его влечет к этому плоскогрудому телу, широким плечам и бедрам; она слишком долго не имела опоры. Она подошла ближе, словно с намерением что-то спросить, поправила черную прядь пальцами с обгрызенными ногтями, еще больше прищурилась от ветра – все это с виноватым видом, словно стесняясь своего желания жить. Ее улыбка была безрадостной гримасой.
– Иногда случаются чудеса, – сказал ей Пайт.
– Он не верит в чудо, – ответила она не задумываясь, как будто его слова, удивившие его самого, были всего лишь напоминанием о бесполезных таблетках, которыми она пичкает умирающего.
Посещение безнадежного больного показало Пайту, как много у него времени, как он свободен им пользоваться. Он полюбил гулять по пляжу. В апреле залив непрерывно изменялся. Иногда в прилив, пенясь под белым солнцем, мощные волны синее вольфрамовой стали строили песчаные замки, забрасывали палки и мусор далеко в дюны, оставляли там заводи. Потом, в отлив, в мелеющих лужицах отражался розовый, алый, зеленый закат. Море было то багровым, то – под теплым дождем – грязным, никаким. Барашки, прибегавшие от самого горизонта, теряли у отмели и силу, и вид. Пайт нагибался за ракушками и пытался заглядывать в их отверстия, разглядеть проживающих внутри невероятных существ. Кусочки древесины, отполированные, как галька, железки, мумифицированные оранжевой ржавчиной, глубокие вмятины от конских копыт, следы собачьих лап, мелкие отпечатки человеческих стоп (босых женских, с узкой перемычкой между пяткой и пальцами, обутых мужских мужчина к тому же чертил на песке палкой), волнистые линии, оставленные моллюсками, плохо различимые, словно контуры на фотографии, слишком долго проявлявшейся в приливном сосуде, безупречный кружок, который очертила вокруг себя утопленная пляжная травинка – все, любая мелочь, казалось Пайту достойным внимания. Пляж был, как сон, постоянно возрождающийся, каждый раз новый. Однажды, под конец сумрачного дня, когда на западе в облаках засеребрился просвет, он вышел из машины на пустой стоянке и услышал ровный, певучий рокот. Море было, впрочем, тихим, как пруд, зеленым, почти зацветшим. Пройдя по следам отхлынувших в отлив вод, Пайт заметил, вернее, поставил диагноз – ибо рокот был симптомом его душевного состояния: высокие волны разбивались о песчаную отмель в полумили от берега, и звук, рождающийся там, преодолевал это расстояние, проносясь над погруженной в транс морской поверхностью, как над натянутым барабаном. Это явление, рождающее энергию, равную той, что озаряет светом города, мог наблюдать он один. То была нота, звучавшая в нем самом с самого рождения и вырвавшаяся наружу только теперь. Воздух был в тот день теплым, с запахом пепла.
От одиночества он был готов видеть компанию в скользящих вдали волнах; далекие брызги пены он воспринимал, как приветственные взмахи дружеских рук. В мире оказалось больше платонического, чем он предполагал. Ему больше не хватало дружбы, чем собственно друзей; вспоминая Фокси, он ностальгировал по самому адюльтеру – приключению, ухищрениям обмана, натянутости скрытых струн, свежим пейзажам, открывавшимся тогда его душе.
Иногда, возвращаясь на стоянку прямо через дюны, он видел дом Уитменов на поросшем травой холме с глиняными заплатами. Но дом его не видел. Окна, из которых он некогда восторженно выглядывал, стали слепыми бельмами. Однажды, проезжая мимо дома Робинсонов, он подумал: хорошо, что они с Анджелой не купили этот дом, потому что он не приносит счастья; потом сообразил, что несчастье все равно его настигло. От одиночества он становился рассеянным, В городе, на улице Милосердия, он приметил новую женщину: гордая гибкая поступь – свидетельство образованности, свободы от крестьянской сутулости, широкий размах рук, нахальная попка, ровные ножки. Пайт забежал вперед, чтобы увидеть, прежде чем она скроется в банке, какова она с лица, и обнаружил, что это Анджела. Она распустила волосы и надела новый плащ – утешительный приз от родителей.
Как странно она себя вела, ревнуя его к сновидениям, обвиняя в том, что ему ничего не стоит увидеть сон! Потому, должно быть, что теперь он засыпал, приняв как снотворное джин, сны запоминались реже, превращаясь в неясные видения смятения, хромоты, возведения конструкций, склонных рушиться. Иногда он был мальчишкой, своим отцом в детстве, шагающим рядом с отцом, то есть своим дедом – человеком без лица, которого он никогда не видел, одним из сотен плотников, приехавших из Голландии на мебельные фабрики Гранд-Рапидз. Огромные мозоли на его руках пугали мальчишку. Иногда он присутствовал на похоронах Джона Онга. Внезапно гроб открывался, и оттуда вываливалось пыльное насекомое – стыдящийся своего вида Джон. Такие сны Пайт смывал вместе с мерзким вкусом во рту, когда просыпался еще до рассвета, мочился, пил воду и давал себе слово отказаться от джина перед сном. Было и два сна неотчетливее. В одном, он и его сын – Рут и Нэнси одновременно, но при этом мальчик – шли в метель с баскетбольной площадки к его первому дому. Между площадкой и отцовскими теплицами была редкая роща из каштанов и вишен, на которые мальчишки лазили по вечерам; однажды на Хэллоуин оттуда был устроен опустошительный набег на теплицы, приведший к полицейскому расследованию и кулачным боям между Пайтом и остальной стаей на протяжении всего ноября. В его сне дело происходило зимой. Среди редких стволов завывал мерзкий ветер, тропинка, присыпанная снегом, была ледяной, и Пашу приходилось вести своего ребенка за руку, чтобы тот не шлепнулся. Сам он пропахивал глубокий снег рядом с тропинкой: совместное падение было бы смертельным. Они достигли аллеи, перешли ее и увидели бабушку Пайта, дожидающуюся их во дворе, перед темными теплицами. Она был сгорбленная, испуганная, вокруг нее почему-то не было снега, словно ее защищали невидимые глазу стены. На ней было легкое платье и вытертый черный жакет, не застегнутый на пуговицы. Пайт гадал во сне, давно ли она их поджидает, благодарил Бога за то, что они удачно дошли, предвкушал, как окажется с ней рядом, на зеленой траве, которую видел очень четко, различая каждый стебель. Проснувшись, он удивился, почему ему вообще приснилась бабка, умершая от пневмонии, когда ему было девять лет: он даже не сумел тогда ее пожалеть. Она почти не говорила по-английски, была помешана на чистоте в доме и старалась не пускать Пайта и Юпа не только в парадную гостиную, но и во все комнаты первого этажа, за исключением кухни.
Второй сон был статичным. Он стоял под звездами, пытаясь усилием воли изменить их расположение. Но как он ни напрягался, как не старался превратиться в овеществленную силу, способную перемешать созвездия, стальная маска ночи оставалась прежней. «Так я надорву сердце», – подумал он и проснулся с острой болью в груди.
Фокси вернулась в город. Слух об этом пустила Марсия Литтл-Смит, видевшая ее за рулем машины Кена на дороге, ведущей в Нанс-Бей; слух пропутешествовал от Гарольда к Фрэнку, от Фрэнку к Джанет, дальше в цепочке были Би, Терри, Кэрол и Торны. Фредди сам видел из окна своего зубоврачебного кабинета, как Фокси выходит из магазина Когсвелла.
Слух ветвился, часто натыкаясь на спокойное «Я знаю». Терри, полагавшая, что поручение, данное Галлахерам Кеном месяц назад, возлагает на нее обязанности наперсницы, поспешила позвонить Анджеле, которая восприняла новость вежливо, но без особого интереса. Возможно, ее равнодушие было искренним. Хейнема сделались непроницаемыми для остальных пар, изменили негласной договоренности, требовавшей понятности для окружающих. Поэтому Пайт сохранил покой: ему никто ничего не сказал. Но в этом не было нужды: он и так все знал. Во вторник на адрес фирмы «Галлахер энд Хейнема» пришло из Вашингтона письмо, предназначенное для него.
«Дорогой Пайт, я должна вернуться на несколько дней в Новую Англию. В Тарбоксе буду 24 апреля, чтобы разобраться с мебелью. Хочешь встретиться и поговорить? Не волнуйся, давить на тебя я не собираюсь. Целую, Ф.»
После «не собираюсь» стояло зачеркнутое «но». Сначала они встретились случайно, на городской стоянке – кривой заасфальтированной площадке со щебенкой и припаркованным металлом позади магазинов, выходящих фасадами на улицу Милосердия; сюда же выходило задними окнами офисное здание, бывшее прежде жилищем Гертруды Tap-бокс – от стоянки его отделял проход, засыпанный битым стеклом. Оказалось, что Пайт не готов к встрече с Фокси. Он задрожал, увидев издали ее рослую фигуру, наклонившуюся, чтобы сложить в черный автомобиль пакеты, ее светлые волосы, представив ее напряженный живот, поняв с головокружительной отчетливостью, что она одна такая среди населяющих землю миллиардов. В боку защемило, левая ладонь зачесалась. Он окликнул ее, она застыла; вблизи она оказалась моложе, чем он ожидал, тоньше, изящнее шелковая кожа, сквозь которую просвечивает кровь, прямой нос с белой переносицей, карие глаза с золотым отливом, легкий взмах ресниц… Знакомый голос, несчетные кадры приоткрытых, дышащих, говорящих губ. Она оказалась живой. Он привык перебирать льдинки воспоминаний о Фокси и оказался неподготовлен к живому человеку, такому знакомому, «е лезущему в карман за словом.
– Ты ужасно выглядишь, Пайт. Прямо рыдать хочется.
– Не то что ты.
– Ты совсем перестал причесываться?
– А ты уже немного загорела.
– У отчима бассейн. Там уже лето.
– Тут тоже иногда наступает лето, А иногда возвращается зима. Обычное дело. Я часто гуляю по пляжу.
– Почему ты не живешь с Анджелой?
– Кто говорит, что не живу?
– Она сама, по телефону. Прежде чем тебе написать, я позвонила вам домой. Хотела с вами обоими попрощаться.
– Она не говорила мне о твоем звонке.
– Наверное, не сочла его важным.
– Да, моя жена – загадочная женщина.
– Она сказала, что я должна приехать за тобой. – Он усмехнулся.
– Раз она так сказала, зачем ты удивляешься, что я с ней не живу?
– Так почему не живешь?
– Потому что она не хочет.
– Это только половина причины, – сказала Фокси. После этой реплики тональность беседы изменилась: стала легче, свободнее, словно они уже приняли какое-то решение.
– Куда ты повезешь свои покупки? – поинтересовался он.
– Домой. Этот уик-энд я проведу в доме. Кен обещал остаться в Кембридже.
– Примирения не намечается?
– Он и так счастлив. Говорит, что работает по вечерам и вот-вот сделает открытие. Он опять занялся морскими звездами.
– А ты?
Она пожала плечами – светловолосая школьница, ищуща» ответ, маскирующий ее собственное неведение.
– Справляюсь.
– Не тоскливо будет здесь одной? Или ты взяла с собой сына?
– Нет, я оставила Тоби с мамой. Они отлично ладят: оба считают меня ненадежной и обожают домашний сыр.
– Как же нам быть? – спросил он просто и, спохватившись, добавил: Двум сиротам.
Он отнес ее покупки к себе в комнату, где и прожил с ней уик-энд. В субботу он помог ей прибраться в пустом доме у затопляемой низины, сдвинуть вместе столы и стулья, которые ей хотелось бы увезти. Им никто не мешал: старый городок закрывал глаза на их невинное баловство. Фокси призналась Пайту, что, предвидя секс с ним, захватила с собой диафрагму и зашла в аптеку Когсвелла за новым тюбиком вагинальной мази. Он чувствовал, что становится под влиянием любви ребячливым и распутным, она же казалось ему постаревшей. Первое впечатление стройности и прозрачности ушло, потесненное пупырышками на ягодицах, серыми бритыми подмышками, красными коленями, пополневшей после родов талией. Когда она шлепала по голому полу, бросалось в глаза ее плоскостопие. То ли дело ноги Анджелы с не достающими до пола мизинцами! Во сне она шумно дышала, норовила спихнуть его с кровати, иногда кричала – ей снилось кошмары. В первое утро она разбудила его, схватив за член и отодвинув крайнюю плоть; ее лицо горело желанием. Но когда он захотел ей овладеть, закричала, что им не надо было снова сходиться, вздумала сопротивляться – только для того, чтобы потом лукаво осведомиться, хорошо ли его возбуждает ее притворное сопротивление. Она сыпала неуместными вопросами: считает ли он себя по-прежнему христианином? Он ответил, что не знает, сомневается. Тогда Фокси назвала себя христианкой, живущей во грехе, а потом вызывающе и, на взгляд Пайта, как-то ханжески убрала назад волосы, влажные от лежания. Последовала жалоба на голод. Уж не собирается ли он иметь ее до тех пор, пока она не подохнет с голоду? Ее желудок выразительно заурчал.







