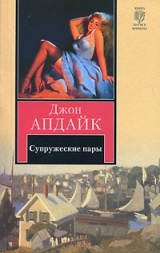
Текст книги "Супружеские пары "
Автор книги: Джон Апдайк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
– Вот это прыжок! Я поражен.
Пайт встал и отряхнул одежду.
– Что вы тут делаете вдвоем?
– Ничего особенного, – ответил голос Би, который Пайту никак не удавалось совместить с его обладательницей. – Бен привел меня сюда, чтобы показать в небе спутник, к созданию которого он приложил руку.
– Приложил руку – это громко сказано. Я работал над одним маленьким приборчиком… Спутник – разработка моих прежних коллег, которые развили парочку моих неплохих идей. Я думал, что он пролетит прямо сейчас, но мы ничего не увидели, кроме падающей звезды.
– Тоже красиво, – сказала Би. Пайту, еще не до конца пришедшему в себя, казалось, что к нему обращается ствол дерева, хотя он уже начал различать ее алое платье. – Сине-зеленое зарево, словно чиркнули спичкой, потом – ничего. Я с самого детства не наблюдала за кометами.
– Это была не комета, а метеор, – поправил ее педантичный Бен. – Кусок породы, можно сказать, частица космической пыли, сгорающая от трения при вхождении в атмосферу. Кометы светятся сами по себе и имеют эллиптические орбиты.
– Бен, ты – чудо! Он все-все знает, правда, Пайт? А теперь скажи нам, чем вы там с Фокси занимались?
– Почему с Фокси?
– Потому что мы видели, как она закрывала окошко. Правда, Бен?
– Разве это была Фокси? Я подумал, что это Анджела.
– Какая Анджела? Конечно Фокси – я узнала ее медовые волосы. Вы что, занимались любовью в ванной?
– Для этого нужны железные нервы, – подхватил Бен. – И, конечно, упитанная фигура. Я пробовал на катере, но, откровенно говоря, такие выкрутасы не в моем стиле.
– Что за глупости? – поморщился Пайт. – С чего вы взяли? С ума сойти! Он надеялся, что его гнев подействует на эту парочку, но их ничем нельзя было пронять.
– Почему глупости? – взвыла Би таким же голосом, каким выражала скорбь по Кеннеди. – Все равно про вас с Фокси всем известно. Твой пикап все время торчит у ее дома. Мы считаем, что вы молодцы.
– Мой пикап не приближался к ее дому уже несколько месяцев.
– Конечно, она была не в том состоянии, чтобы…
– Между прочим, – оживился Бен, – я все думаю, обоснован ли запрет на половые сношения во время беременности. Сдается мне, скоро окажется, что это очередное заблуждение, подобно тому, как в тридцатые годы на полном серьезе называли антисанитарией кормление грудью. Я заставлял Айрин кормить детей грудью, и она мне только спасибо сказала.
– Ты – замечательный муж, Бен, – похвалил его Пайт. – Теперь ты заставляешь ее работать – представляю, какие благодарности ты от нее выслушиваешь!
Би положила дрожащую руку Пайту на плечо.
– Не надо смеяться над Беном из-за того, что сам смущен. Мы никому не расскажем, что видели твой прыжок. Только Роджеру и Айрин.
– А мне кому рассказать, что я видел, как вы с Беном любезничаете?
– Кому-нибудь одному, – ответила Би. – Таковы правила. Только не Анджеле: она поделится с Фредди, а он разболтает всем. Как я замерзла!
В дом они вернулись втроем. Дорис Дэй пела «Лунную пыль», Анджела спускалась из ванной.
– Где вы все были?
– Бен утверждал, что одна из звезд – его изделие, – объяснил Пайт. – Но так и не сумел ее отыскать.
– Конечно, разве найдешь звезду под деревом? То-то я удивлялась, кто там бормочет! Я слышала из ванной голоса.
Она переливалась, как канделябр, освещающий лестницу. Благополучно пережив неприятность, Пайт вспомнил неприятный намек Би, будто Анджела делится всем с Фредди Торном. Ему хотелось спросить у жены, правда ли это, но вместо этого он спросил:
– Сколько ты выпила?
– Сколько нужно, – ответила она, осторожно спускаясь. Раздвинув руками невидимый занавес, она прошмыгнула мимо Пайта.
Он поспешил дальше. У него накопились вопросы ко всем женщинам. Во рту остался вкус женского молока. Фокси он нашел в кухне: она беседовала с Джанет. Та отвернулась, давая любовникам пообщаться.
– Все в порядке? – спросил он хрипло.
– Конечно, – ответила она шепотом.
– Мне показалось, или ты улыбалась мне сверху?
Она оглянулась, чтобы убедиться, что их не подслушивают.
– Это была настоящая комедия без звука! Я хотела сказать, чтобы ты не валял дурака, что так и убиться недолго, но вовремя вспомнила, что мы должны держать рот на замке, к тому же тебе приспичило прыгнуть.
– Приспичило? Я чуть не умер от страха. Теперь у меня болит правое колено.
– Ты испугался Анджелы. Почему? Подумаешь, муж заперся в туалете с другой женщиной! Это еще не конец света. Можно было бы сказать, что ты помогаешь мне достать соринку из глаза.
Пайт решил не скрывать гнев, хотя не имел права всерьез гневаться.
– Твой смех – вот что меня поразило. Наша любовь под угрозой, а тебе смешно!
– В последний момент я хотела поймать тебя за руку, но было поздно. Ее улыбка стала вдруг искусственной, зловещей. – Хватит болтать! На нас нехорошо смотрит Фредди Торн. А вот и Литтл-Гарольд.
Гарольд со вставшими дыбом остатками волос яростно продолжил разговор, начатый раньше неизвестно с кем:
– Если бы я верил во всемогущего Господа Иисуса, то сказал бы: это кара за то, что мы позволили распять самого нашего верного союзника в Юго-Восточной Азии, дабы потрафить нашим гомикам-левым. La gauche efflminee.
– Гарольд, – взмолилась Фокси по-матерински заботливо, – не говори так! Ты повторяешь чужие слова. Ты что, кардинал Ришелье? Думаешь, нам нравится, когда ты загребаешь так сильно вправо? Нет, ты для нас и такой хорош. Правда, Пайт?
– Послушай, Гарольд, – сказал Пайт, – тебе не приходило в голову сделать молодой вдовушке предложение? Вы с мадам Нгу составили бы очаровательную пару. У вас обоих очень экспрессивная манера выражаться.
– И оба владеете французским, – напомнила Фокси.
– Главная беда этой хреновой страны, – ответил Гарольд, почему-то польщенный их издевкой, – в том, что здесь не получается быть респектабельным нелибералом.
– А ты поучись у меня, – посоветовал Пайт. – Я – не либерал. Или твои достойные собратья-брокеры: надувают бедных, жульничают в пользу богатых. Что же в этом либерального?
– Они идиоты. Хочешь по-французски? Idiots. Ты застрял в нашем пасторальном раю и не представляешь, что это за кретины. Для них действительно важно, в чем ездить – в «бьюике» или в «кадиллаке».
– Не могу поверить в такой кошмар! – отозвался Пайт и, завидев Кэрол, застывшую в одиночестве, поспешил к ней.
– О чем ты беседовала с этим болваном Фредди Торном?
– Не знаю. Но я тебе вот что скажу, Пайт Хейнема: он – единственный, кто нас не бросил, когда все вы воротили от нас с Эдди нос из-за бедняжки Айрин. Хороша бедняжка! Видал, как она сразу потащила Эдди в кухню?
– Красавица! Давай лучше потанцуем.
Дорис Дэй пела «Под покровом синевы». Спина Кэрол под его рукой была вызывающе голой, костлявой, гибкой, заставляла представлять, как крепко он мог бы обнять ее в постели обеими своими волосатыми руками. Он цеплял большим пальцем край ее лопатки, ладонь мокла на ее выпирающих позвонках, кончики пальцев нащупывали тонкий жирок на боках. Кэрол легко растеклась по нему, как бы предлагая слияние. Женские тела – как головоломки. Женщины сами решают, куда ставить кусочки. Пайт не сомневался, что Кэрол специально трется об его член, показывает ему грудь, дышит прямо ему в ухо. Потом музыка стихла, и она отодвинулась, нахмурилась, вздохнула.
– Какой же ты мерзавец! – сказала она и ушла, голая от затылка до пояса. Русалка. Обмылок, выскользнувший из рук.
Мерзавец… Когда ему, поздно вернувшемуся в колледж со свидания – с пересохшим ртом, мокрой ширинкой и пахнущими женщиной пальцами, – сообщили, что его родители попали в аварию, он подумал: если бы он оказался с ними в Гранд-Рапидз, неважно, зачем, то это как-то повлияло бы на ход событий, сохранило бы матери и отцу жизнь. Точно так же он почувствовал себя виноватым в смерти Кеннеди, когда в тишине, наступившей после выключения циклевочной машины, Яжински рассказал ему о случившемся.
К нему подплыла Айрин Солц со слезами в глазах, отражающими свет свечей.
– Ты счастлива, Айрин? – спросил он.
– Я его по-прежнему люблю, если ты это имеешь в виду, – ответила она.
– Ты хочешь, чтобы над тобой смеялись. Совсем как я. Ты да я прирожденные козлы отпущения.
Фредди, сопровождаемый Джорджиной и Анджелой, торжественно принес из кухни окорок – горячий, жирный, переливающийся, приправленный гвоздикой. Следом за троицей вошла Би Герин с забранными в узел линялыми волосами – она несла огромное блюдо с салатом, нарезанными огурцами, авокадо, помидорами, петрушкой, зубчиками чеснока, цикорием. Гости дружно застонали. Фредди принялся зловеще точить кривой нож. Фрэнк Эпплби не смог удержаться от цитаты:
– «Каким же мясом Цезарь наш откормлен, что так жирен?»
– Для католиков я приготовила лосося, но никто из них не пришел, поэтому я отдала его детям, – объяснила Джорджина.
Фредди ловко разделывал окорок, поблескивая стеклами очков. Никто, кроме него, не умел нарезать мясо такими тонкими ломтиками.
– Берите и ешьте! – провозглашал он, раскладывая ломтики по подставляемым женщинами тарелкам. – Это тело его!
– Фредди! – не выдержала Марсия Литтл-Смит. – Как тебе не стыдно?
– Вам не кажется, – сказала Би Герин звонко, плаксиво, гордясь своим смятением, – что нам следовало бы попоститься?
– Или потрахаться, – подхватил Фредди, с хирургической точностью кладя очередной кусок мяса на очередную тарелку.
Кен Уитмен молча наблюдал за священнодействием из-под африканской маски. Бен Солц с преувеличенным усердием расставлял на столе тарелки с хлебом и редисом. Кэрол принесла две бутылки бургундского – черного, как деготь. Пайт, получив свою тарелку, стал жевать, но во рту не было слюны; ему казалось, что рот набит неостывшей золой. Он почувствовал себя старым и поспешил сесть. Колено действительно болело.
Во вторник, когда страна вернулась к нормальной жизни, он, все еще прихрамывая, навестил Фокси. Три дня траура превратились для супружеских пар Тарбокса в сплошной ленивый выходной, без малейших попыток проявить выдумку. Мужчины каждый день играли в футбол на поле за домом Эпплби, у ручья, женщины и дети смотрели в библиотеке телевизор. Когда женщинам надоедало смотреть скучные вашингтонские и даллаские церемонии (Пайт и дети, вернувшись из церкви, застали трансляцию убийства Освальда; Рут спокойно оглянулась и спросила «Это по-настоящему?», Ненси бесшумно засунула в рот большой палец), они выходили наружу, усаживались в сено и наблюдали за своими раскрасневшимися мужьями, с криком гоняющими по кочковатому полю мяч. Эти дни накануне зимы еще были по-осеннему прозрачными, даже теплыми, пока не начинали удлиняться тени. После игры мужчины и дети пили из бумажных стаканчиков сидр, который то Уитмены, то Литтл-Смиты приносили из сада у пляжной дороги, после чего все перемещались внутрь дома, чтобы пить коктейли и сидеть вокруг телевизора. Дети начинали капризничать и совершали набеги на запасы Джанет: они уничтожали крекеры, арахисовое масло, изюм и яблоки. С экрана не сходили император Хайли Селассия и генерал де Голь, Пенсильвания-авеню, стриптизерша из притона Джека Руби, объясняющая, что на ее босса иногда находит, ухмыляющийся Ли Освальд, которого вели через толчею в коридоре к шляпе Руби и к частоколу камер… Вдова и один из братьев президента, снятые почти в упор, цветы без конца и края, купол Капитолия, поблескивающий на южном солнце. Гроб появился под барабанный бой и быстро исчез. Прибегали в слезах дети, жалуясь на других детей. Есть желающие еще выпить? Вроде бы пора по домам, но еще не совсем… Детей погрузили в машины уже вечером. В машинах было тесно от незаданных вопросов, от тревоги, вызванной убийством правителя – настоящим землетрясением с точки зрения детей, от которого может спасти только сон. Вторник и школа были встречены с облегчением.
Пайт оставил свой пикап на виду. На сирени Уитменов уже не было листьев, непривычная прозрачность воздуха заставляла щурить глаза. Каждому времени года присущ свой акцент, который мы забываем, как только наступает следующий сезон: кухонное окно с изморозью, засыпанное опавшей листвой крыльцо, бледность дня, зябкий ветер. Болото утратило октябрьскую желтизну, вместо нее теперь до самой полосы песка раскинулась однообразная серость. Был отлив, вода лениво стояла в широких протоках, как остывшая сталь. Фокси открыла дверь на второй звонок.
Она была хрупка на вид, словно выздоравливала после болезни или только что приняла горячую ванну.
– Ты? Замечательно!
– Правда? Ты одна? Я приехал взглянуть на ребенка.
– А на меня?
В доме он обнял ее, забыв про ребенка, словно в голом ноябре не было никого – только они двое. У нее под халатом его ждала беззащитная пустота память о животе, в котором росло дитя. Из гостиной долетел беспокойный звук – не столько плач, сколько скрип дверцы, напоминающий матери про ее обязанности. Фокси припала к нему в позе страдалицы, он машинально наклонил голову, зарылся лицом ей в волосы, поцеловал в шею. Ее язык и пальцы, избавившись от робости, вызванной долгой разлукой, попытались его удержать, но, подобно пчелам в накуренной комнате, оказывались не там, где следует. Попадался то его небритый подбородок, то карманы пиджака, то не успевший закрыться глаз.
– Ребенок плачет, – подсказал он.
Вместе они подошли к колыбели. На подступах к ребенку их ждала жемчужная тишина. Окна с видом на схваченное изморозью болото казались не то акварелью, не то волшебным фонарем, подсвечивающим незапятнанную младенческую душу.
– Хочешь его подержать? – спросила Фокси и тут же без лишних церемоний сунула дитя Пайту. Тот, растопырив пальцы, чтобы принять этот нежданный груз, удивился, что успел все забыть: крохотную попку, лихорадочную лиловую головку. Примерно секунду ребенок смотрел на него широко раскрытыми глазами цвета базальта, а потом его зрачки разъехались в разные стороны, брови насупились. Ребенок заплакал. Боясь, что плач их выдаст, Пайт вернул капризный сверток матери. Она ревностно прижала его к груди.
– Как его зовут? – спросил Пайт.
– Ты должен знать.
– Анджела говорила, но я забыл. Помню, подумал: не старомодно ли для такой современной семьи?
– Тобиас.
– Кажется, так зовут вашего кота.
– Кота зовут Коттон. А Тобиасом звали дедушку Кена.
– Почему вы не назвали его в честь отца Кена?
– Кажется, отца Кен недолюбливает.
– А я думал, что папаша у него образцовый, настоящий хартфордский адвокат.
– Так и есть. Но Кен наотрез отказался. Я так удивилась!
– Кен полон сюрпризов. Потрясающий парень!
– Будешь его мне рекламировать?
– Почему мы препираемся?
– Не знаю, – ответила Фокси. – Наверное, тебя раздражает ребенок.
– Я его люблю! И тебя люблю как его маму.
– Но уже не как любовницу?
– Ну… – От колебаний у него стало нехорошо на желудке. – Ты ведь все равно еще не готова?
– Мне нельзя заниматься любовью еще две недели, но доказательства нежного отношения все равно приветствуются. Почему ты такой чужой?
– Разве чужой? – Как передать ощущение покоя от увядшего болота в окне, от этой умиротворяющей комнаты, которую он сам спланировал, от ее стен, распахивающихся, как платок, от жемчужной ауры ребенка, от суховатой грации самой Фокси – казалось, ее лишили сна и заставили забыть о себе, от этого запаха строгого очарования, как признаться в суеверном опасении нарушить волшебство?
– Я вообще сомневаюсь, что мне надо было появляться здесь сейчас, сказал он.
– Почему бы и нет? Разве раньше тебя приводили сюда дела? Я никогда не была тебе женой. Ты появлялся, чтобы переспать с чужой женой, и меня это устраивало. Я даже это любила. А теперь что же, я запачкалась, родив ребенка?
Пайт чувствовал, что ей нравится такой жесткий разговор: она воспользовалась его приходом, чтобы оживить в себе некий прежний, глубоко заложенный опыт. Она стояла перед ним, расставив ноги, чуть наклонившись вперед, крепко, но все же машинально прижимая к себе Тобиаса. Повысив голос, она его только убаюкала. Пайту нравилась ее материнская раскованность, спокойная уверенность, что она может обращаться с ребенком так, как ей удобно.
– Зачем тебе я? – спросил он. – У тебя ведь появился этот замечательный кулек. У тебя есть Кен, благодаря которому ты родила своего чудесного ребенка.
– Он его не любит. Он не любит ребенка.
– Не может быть!
Фокси заплакала. Ее волосы, бесцветные в тусклом свете предзимнего дня, свесились на сына.
– Ребенок его пугает. Как я – я тоже всегда его пугала. Я его не осуждаю. От меня одни неприятности, Пайт!
– Глупости! – Сосущее чувство внутри резко усилилось. У него не осталось выбора: он шагнул к ней, обнял вместе с ребенком. – Ты прелесть.
Она продолжала рыдать. Видимо, ситуация, включая его уступку, его покровительственные объятия, злила ее все больше.
– Тебе не нравится со мной разговаривать? – спросила она невпопад.
– Еще как нравится!
– Нет, совершенно не нравится. Ты что, вообще не хочешь иметь со мной дело вне постели? Не можешь, что ли, подождать пару недель? Тебе обязательно трахнуть меня прямо сейчас?
– Перестань, Фокси. Что за чепуха?
– Я боялась наркоза, чтобы не начать кричать твое имя. Я брожу вокруг дома и повторяю: «Пайт, Пайт…» вот этому невинному дитя. Я потащила Кена на эту ужасную вечеринку, только чтобы с тобой повидаться, но ты предпочел рискнуть жизнью, лишь бы тебя со мной не застукали!
– Не преувеличивай. Какой риск? И потом, я сделал это., чтобы защитить не только себя, но и тебя.
– То-то ты хромаешь.
– Это из-за футбола.
– Прости, Пайт. Кажется, я начинаю тебя пилить. Подожди меня бросать. Ты – единственная реальность, которая у меня есть. Кен нереален. Это болото тоже. Я сама нереальная я живу только ради того, чтобы жил мой ребенок, это все, зачем я появилась на свет. И это сводит меня с ума!
– Успокойся… – начал он, хотя сам уже чувствовал раздражение. У него не хватало дыхания, чтобы объяснить, что встречаться сейчас было бы неправильно, хотя раньше встречи было только во благо. Они провели время в игровой комнате Господа Бога, где долго и счастливо возились на полу, а теперь настало время сложить игрушки в коробки и выстроить стулья вдоль стены.
Кен вернулся домой более усталым, чем она видела его когда-либо со времен дипломной горячки. Положив на стол толстую пачку бумаг, он сообщил жене:
– Прорыв в фотосинтезе! Это связано с ферредоксином – он выглядит переходной точкой между реакциями на свету и в темноте.
– Что за ферредоксин?
– Протеин. Переносчик электронов с очень низким окислительно-восстановительным потенциалом.
– Кто же автор открытия? – Он почти никогда не рассказывал ей о своей работе, поэтому ей хотелось поддержать беседу. К его возвращению она надела праздничное лимонное платье. Их ребенку исполнялось шесть недель.
– Два японца, – ответил Кен со вздохом. – Молодцы, не чета мне. Обошли меня на повороте. – И он упал в кресло, кожаное кресло, которое они протаскали по лестницам едва ли не всех домов Кембриджа. Фокси охватила паника.
– Сейчас посмотрим, – сказала она и подступила к столу, чтобы доказать, что он не прав, – воплощение безапелляционности и добрых намерений. Верхняя статья в стопке называлась «Нейрофизиологические механизмы поведения: эмоции и мозжечковая миндалина». Дальше шла «Экспериментальная фенилкетонурия: фармакогенетика эпилептического припадка у мышей». Дальше она смотреть не стала.
«Нашим тарбокским однофамильцам „Литтл“ Смитам.
Очередное Рождество застало нас лично в добром здравии, но, естественно, огорченными трагическими и пугающими событиями ноября. Человека действительно легко вытоптать, как траву. И другая печаль посетила наш дом в сентябре, когда юный Тим, казалось бы, всего несколько лет назад бывший еще младенцем, уехал учиться в колледж Сент-Марк. Он приезжает домой на выходные – уже не мальчик, а „молодой человек“; ждем – не дождемся его к себе на праздники – хотя он, к нашему многодецибельному смятению, не расстается с электрогитарой. Тем временем Пэт, Одри и Грейсаин благополучно продолжают учебу в прекрасных муниципальных школах Ньютона. Пэта даже наградили (слышите, как отлетают у нас пуговицы – так мы надулись от гордости)…»
– Боже, – воскликнула Марсия, – как она переползает через беднягу Кеннеди, чтобы похвастаться, что может оплачивать Сент-Марк!
– К нашему многодецибельному смятению, – подсказала Джанет, и обе покатились со смеху.
Вечера перед Рождеством в Тарбоксе одновременно мрачны и захватывающи. Звезды из фольги и венки громко дрожат на холоде, в чугунном павильоне молча стоят на коленях перед яслями фигурки из папье-маше, дети возвращаются из школы домой уже в темноте, люди шныряют по магазинам даже после ужина, нагибая головы, словно делают что-то противозаконное или боятся опознания, витрины горят допоздна, двери магазинов то и дело хлопают. Правда, на этот раз национальные флаги были подняты только до середины флагштоков, а в некоторых лавках – например, у старика ювелира и в шведской пекарне пустовали витрины. В ярко освещенном универмаге, где можно было взбеситься от ни на секунду не умолкающих рождественских гимнов, Пайт, выбиравший с помощью дочерей подарок для Анджелы, повстречал Би Герин. Дело было в отделе свечей. При виде ее блестящей маленькой головки у него учащенно забилось сердце, защипало в нагруженных покупками руках. Она обернулась и заметила его. Ее улыбка была, скорее, инстинктивной и натянутой: его радость при встрече она сочла неискренней.
Рут и Нэнси неуверенно бродили по секции кухонных принадлежностей. В резком свете торгового зала их лица казались грязными. Пайт сравнил собственных дочерей с бродяжками, потерявшимися среди никчемной утвари. Его злило их изумление, их жадность. Он заранее знал, на чем они остановят выбор: на наборе цветастых кухонных полотенец и на точилке для ножей, которая потеряется уже к Новому Году.
Невинная, не рожавшая детей Би, казалась удивительно молодой. На ней была зеленая шерстяная пелерина и замшевые сапожки, в руках – коробка с тонкими восковыми свечками. Она была не просто молода, но и выглядела, как проказница, соображающая, но спереть ли что-нибудь. Пайт смотрел на нее с осуждением.
– Свечи?
– Роджер любит свечи. Лично я их боюсь: вдруг пожар?
– Это потому, что ты живешь в деревянном доме. Как все мы.
– Он любит украшать елку настоящими свечами, как делали его родители, бабушки с дедушками и так далее. Он ужасный консерватор. – Ее лицо в этом сиянии, вызывающем клаустрофобию, было серьезным, некрасивым, испуганным. Лоб был так натянут заколками в волосах, что лоснился. В доме родителей Пайта висели репродукции голландских картин, на которых у девушек так же сияли лбы.
– Кстати, о твоем доме…
Ненси вернулась и схватила отца за палец липкой от леденца рукой.
– Папа, идем смотреть с нами.
– Сейчас, детка.
– Нет, идем! Руги надо мной смеется и ничего не дает сказать. – Ее личико, круглое, как печенье, было усыпано веснушками.
– Сейчас приду, – заверил он ее. – А ты пока ступай, передай Руги, что я не разрешаю ей корчить из себя главную. Пусть каждая выберет для мамочки свой подарок. Например, красивые кухонные полотенца.
Ненси нехотя подчинилась и поплелась обратно к сестре.
– Бедная малютка! – сказала Би. – Ей давно пора спать. Все-таки Рождество – жестокий праздник.
Бездетная Би не имела понятия о воспитании, поэтому ее взгляд светился восхищением: до чего Пайт терпеливый отец! На самом деле он отказался пойти утомленному ребенку навстречу.
– Ты начал говорить о моем доме… – напомнила она ему.
– Да! – спохватился Пайт и почувствовал, что краснеет, становится багровым, как рак, в этой пластмассовой бане. – Я подумал, что надо бы заглянуть к вам как-нибудь утром или после обеда, посмотреть, в каком состоянии ремонт, который я сделал четыре года назад. Ты не будешь возражать? Надо взглянуть, не дал ли дом осадку. У вас не трескается штукатурка?
Она смотрела, не отрываясь, на крыло его носа, словно там обнаружилось какое-то завораживающее несовершенство.
– Я не заметила трещин, но ты всегда можешь зайти и проверить сам, медленно ответила она.
– Тебе это понравилось бы?
Лицо Би с веками без ресниц стало еще больше похоже на лицо ребенка, заболевшего рождественской покупательской лихорадкой, но не способного сделать выбор.
– Раньше ты бы не сомневалась, – сказал он безжалостно.
– Я и сейчас не сомневаюсь, просто… – Она подняла на него глаза, голубые, как у Анджелы, только гораздо бледнее. – Дом, видишь ли…
– Тут и видеть нечего: дом как дом. Отличный дом! Я предпочитаю утро. Когда тебя больше устраивает?
– Сегодня четверг… После выходных. Прямо в понедельник?
– Мне было бы удобнее во вторник: по понедельникам я доделываю дела, оставшиеся с прошлой недели. Примерно в десять?
– Не раньше! Не знаю, что со мной, но по утрам я больше не в состоянии одеваться.
– Папа, она – зануда и плакса, а я вовсе не корчу из себя главную!
К ним подбежала Рут, притащив за собой заплаканную Ненси. Пайту был приготовлен сюрприз: его старшая дочь оказалась высокой – если не одного роста с Би, то близко к этому. Пока отец искал себе развлечений, она покинула мир уменьшенных размеров. При ярком магазинном свете он хорошо разглядел ее лицо – еще детское, но уже помеченное женской погруженностью в себя.
Би, словно приобретшая право угадывать его мысли, сказала уверенно:
– Она будет крупной, как Анджела.
Новый Год встречали у Хейнема.
– Кто она? – спросила Фокси у Пайта.
– Кто «она»?
Они танцевали в нарядной колониальной гостиной, тесноватой для танцев. Фрэнк Эпплби и Эдди Константин отодвинули стулья и столы к стенам и поцарапали настенные панели цвета яичной скорлупы. Старые сосновые половицы так трещали под тяжестью раскачивающихся пар, что Пайт боялся, как бы гости не провалились в подвал. Идея пригласить компанию на Новый Год к себе принадлежала, скорее, Анджеле, чем ему. В последнее время она, прежде меньше его привязанная к друзьям, стала сильнее ими интересоваться. Она даже зазвала бедняжку Бернадетт Онг, хотя Джон все еще лежал в больнице.
– Женщина, занявшая мое место, – объяснила Фокси. – Твоя новая любовница.
– Милая Фокси, твое место пустует.
– Брось! Я тебя знаю. Или ты погряз в Анджеле?
– Она в последнее время стала ласковее. Думаешь, она завела любовника?
– Возможно, но меня интересует не это. Единственный, кто меня интересует в Тарбоксе, – это ты. Почему ты больше мне не звонишь?
– Из-за Рождества. Дети все время дома.
– При чем тут дети? Летом они тебе почему-то не мешали.
– Теперь их стало на одного больше. – Он испугался, что она обидится, ответит резкостью. Чтобы сгладить оплошность, он погладил ее по деревянной спине и сказал шутливо: – Неужели тебе не нравится никто из наших друзей? Помнится, ты хорошо относилась к Анджеле.
– Это было на пути к тебе. Теперь я ее не переношу. Почему она вправе тобой владеть? Ты с ней несчастлив.
– А ты суровая женщина…
– Представь себе!
Она с притворной скромностью опустила ресницы. Ее танцующее тело со всеми плоскостями и непривычной одеревенелостью как будто было его собственностью, но оценить эту собственность теперь, когда не стало главного достоинства – живота – было трудновато.
Наконец, он выдавил:
– Думаю, нам надо поговорить. Будет здорово с тобой встретиться. Измена за изменой! Путаница, из которой не вырваться.
– Я все время дома.
– Кен выйдет на работу в понедельник?
– Он работает не переставая. Несмотря на отпуск, каждый день, кроме Рождества, ездил в Кембридж.
– Может быть, у него женщина?
– Хорошо бы! Я этого заслуживаю. Но, боюсь, у него свидания с клеткой. Скромное начало, так сказать.
Пайт засмеялся и, не привлекая ее к себе, напряг мышцы, чтобы она почувствовала это как объятие. Если у него и была слабость, то именно к женской иронии.
– Умираю, как хочу тебя видеть, – сказал он, – только боюсь тебя разочаровать. Не жди многого. Мы просто поговорим.
– Конечно, что же еще? Не можешь же ты затащить в постель молодую мать.
– По-моему, ты нарочно делаешь вид, что не понимаешь меня. Я люблю твоего ребенка.
– Нисколько не сомневаюсь. Кто говорит, что ты не любишь его? Ты не любишь меня.
– Люблю, очень люблю! Просто я залез в тебя по самые уши, так влюбился, что испугался, что не вылезу назад. Я считаю, что это было даровано нам один раз, и повторять все снова – значит искушать судьбу. Мы уже попользовались нашим счастьем. Именно любовь мешает мне причинять тебе боль.
– Ладно, можешь временно заткнуться. На нас глазеют Фредди и Эдди Константин.
Музыка смолкла. Пайт оттолкнулся от Фокси, чувствуя облегчение, хотя она, оставшись одна, в широкой юбке до колен цвета стебля свежесрезанного цветка, страшно походила на длинноногую девчонку из Мэриленда, которую она часто ему описывала и в которую он никак не мог поверить.
Из кухни доносился звонкий жалобный голос Би: сначала она рассказывала анекдот, потом позвала его. Но в узком коридоре его остановила широкими плечами Бернадетт Онг.
– Пайт, – сказала она гулко, – ты обещал мне танец.
– Как Джон? – спросил он нарочито серьезно. – Скоро его выпишут?
Она была пьяна, иначе не пихала бы его бедром. От ее дыхания ничего не стоило самому захмелеть.
– Этого никто не знает. Врачи расходятся во мнениях. Один говорит, что скоро, другой сомневается. Страховку оплачивает государство, так что они могут мариновать его без конца.
– Как он себя чувствует?
– Держится… Теперь у него есть книги, он может разговаривать с Кембриджем по телефону.
– Уже хорошо, верно?
Пайт двинулся к лестнице, но она не дала ему взяться за перила.
– Это как посмотреть. Я не хочу, чтобы он вернулся домой прежним, чтобы всю ночь задыхался и пугал до полусмерти мальчиков.
– Господи! Он был так плох?
Вместо ответа Бернадетт – шелковая обертка, игрушечный золотой крестик между грудями – услышала твист-фруг и широко раскинула руки. Пайт увидел в ней умирающего мужа, как личинку в коконе. Вспомнив на нервной почве про свои акробатические способности, он проскользнул мимо нее и взлетел вверх по лестнице, бросив на бегу:
– Вернусь через две секунды! – Чтобы она не решила, что он убежал от нее в туалет, он добавил: – Кажется, ребенок плачет.
Наверху, верный траектории своей лжи, он вместо освещенной ванны свернул в темную детскую, полную дыхания спящих дочерей. Снизу доносились попеременно голоса Анджелы и Би, жены и любовницы. В постели Би приводила его в восторг: зернистая сахарная кожа, холодные ступни ног, мокрая хватка узкого влагалища – коварная узость, переходящая в безразмерность, куда устремлялось его бурлящее семя. Опустив припухлые веки, она сосала его пальцы, позволяя ему осуществлять двойное проникновение. Она словно блаженно плыла в своей постели, почти не обращая внимания на его труд, чем еще больше его раззадоривала; потом признавалась, что он делает ей больно, и обвивала ему пальцем ухо в знак благодарности. Это была самая его миниатюрная, самая пассивная женщина, не собиравшаяся произносить речи, даже задавать вопросы. Он уже чувствовал себя ответом, заранее данным на все вопросы. Когда ему наступало время уходить, она быстро заворачивалась в халат, мелькнув грудями и ягодицами – эктоплазмой, водой в сосудах из слишком тонкой кожи.







